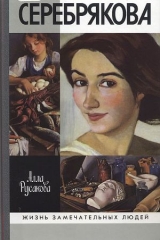
Текст книги "Зинаида Серебрякова"
Автор книги: Алла Русакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Автопортрет «За туалетом», посланный Серебряковой в Петербург по настоянию брата Евгения, получил всеобщее признание на VII выставке Союза русских художников, где он экспонировался вместе с тринадцатью другими работами Серебряковой, созданными в 1906–1909 годах. Это было второе выступление художницы «на публике». За месяц до того она экспонировала две ранние работы – «Автопортрет» 1905 года и несколько более поздний «Портрет няни» – на выставке современных русских женских портретов, устроенной С. К. Маковским в редакции журнала «Аполлон». Они очень доброжелательно были отмечены в печати – в каталожной статье Г. К. Лукомского и в «Художественном письме» А. Н. Бенуа. Но, по сути, именно автопортрет «За туалетом» стал подлинным открытием нового дарования, отмеченным не только блестящей статьей Бенуа, но и рядом других отзывов. Как обычно, сдержанный и всегда безупречно объективный В. А. Серов высказался об этой работе: «Автопортрет у зеркала – очень милая, свежая вещь» [48], – а к остальным выставленным полотнам художницы отнесся строже. Бенуа же, безусловно выделяя автопортрет племянницы, замечал: «Другие произведения Серебряковой (были выставлены портреты крестьян, в том числе «Пастух» и «Нищий», портрет студента, пейзажи «Весной», «Зимний день», «Зеленя». – А. Р.) – дальнейший комментарий к ее искусству. Все они поражают жизненностью, простотой и прирожденным мастерством» [49].
Три работы Серебряковой – автопортрет «За туалетом», «Зеленя» и «Молодуха» (портрет Марии Жигулиной) – были приобретены с выставки Третьяковской галереей.
Возвращаясь к отзыву Бенуа, хочется подчеркнуть здесь два его положения. Глубоко верны слова о «прирожденном мастерстве» Серебряковой – ведь она была, по существу, самоучкой, ставшей благодаря таланту, помноженному на упорный труд, великолепным и оригинальным живописцем, всегда идущим своим путем. Не менее важно, что Бенуа отмечает среди основных достоинств ее работ их настроение: «Они все веселые, бодрые и молодые». Это качество живописи Серебряковой – если не «веселость», то, во всяком случае, бодрость, – в ту пору вполне естественное, и в последующие периоды ее весьма нелегкой жизни оставалось всегда неизменным, подчас вступая в резкое противоречие с ее повседневным мироощущением, да и с замкнутым, самоуглубленным характером.
Несколько отступив в нашем повествовании от его основной темы – жизни и творчества Зинаиды Серебряковой, – напомним, что VII выставка Союза русских художников была последней, в которой совместно с московскими основоположниками Союза, в большинстве своем «младшими передвижниками», участвовали бывшие члены «Мира искусства», ликвидированного в 1904 году. Предлогом для уже давно назревавшего разрыва между «москвичами» и «петербуржцами» (за исключением В. Серова, крепко связанного с основной группой «мирискусников») стали критические высказывания А. Бенуа в адрес некоторых «москвичей». В декабре 1910 года в Петербурге открылась выставка воссозданного, но сильно отличавшегося от прежнего, «Мира искусства»; с этих пор участие Серебряковой в организованных им выставках стало «само собой разумеющимся» [50].
«В чаду энтузиазма»
Итак, в 1909–1911 годах Серебрякова проводит в Нескучном весенне-летний сезон, а иногда захватывает осень и даже зимние месяцы, обитая в «большом доме» или на хуторе с двумя маленькими сыновьями и их няней. По возможности живет с семьей в любимом имении и Борис Анатольевич, хотя ему и приходится часто отправляться в длительные командировки – экспедиции в различные области Сибири для определения мест, пригодных для прокладки железных дорог. Екатерина Николаевна также старается по мере обстоятельств (когда в семьях ее старших дочерей все здоровы) проводить как можно больше времени в Нескучном, чтобы предоставлять Зинаиде Евгеньевне возможность спокойно работать. И несмотря на заботы о доме и детях, на частые тревоги, связанные с задержками возвращения мужа, Серебрякова постоянно совершенствуется в творчестве благодаря интенсивному труду над картинами и этюдами, занимавшему, по сути дела, все ее время. «Зинуша не принимает почти никакого участия в нашей жизни, так как весь день рисует», – пишет Екатерина Николаевна сыну. А сама Зинаида Евгеньевна сообщает брату в те же дни: «Я больше рисую, но по-прежнему в отчаянии от своей живописи!» [51]Эта неудовлетворенность своей работой будет присуща Зинаиде Евгеньевне на протяжении всей ее жизни. И только в глубокой старости в воспоминаниях об этом времени прозвучат другие ноты: «В Нескучном… и природа, и окружавшая меня крестьянская жизнь своей живописностью волновали и восхищали меня, и я вообще жила в каком-то чаду энтузиазма» [52].
1910 и 1911 годы отмечены в творчестве Серебряковой не только интенсивной работой над любимой «крестьянской тематикой» и пейзажами, но и созданием ряда весьма удачных портретов. Первым среди них – по значению в творчестве художницы – следует считать портрет Ольги Константиновны Лансере, жены Евгения Евгеньевича, гостившей в Нескучном, пока в их имении Усть-Крестище близ Курска по проекту Николая Евгеньевича перестраивался жилой дом. Свою невестку, с которой она была очень дружна, Зинаида Евгеньевна писала не впервые. Уже в 1907 году она начинала ее портрет. Но теперь, после блестящего успеха автопортрета «За туалетом» она вновь возвращается к мысли запечатлеть близкую ей по душевному складу и внешне очень привлекательную молодую женщину. Серебрякова не сразу приходит к окончательному решению композиции портрета. Сперва в большом эскизе карандашом и темперой она изобразила модель в почти профильном повороте. Затем Зинаида Евгеньевна обращается к решению более спокойному, «картинному», в какой-то мере повторяющему тему автопортрета «За туалетом» – впрочем, сильно преобразуя ее: молодая женщина в открытой сорочке с обнаженными плечами придерживает рукой распущенные волосы одной из своих тяжелых кос, смотрясь в маленькое круглое зеркальце, которое держит в другой, полуобрезанной краем холста, руке. Большая роль принадлежит окружающему пространству – скромной комнате, залитой солнцем, за открытым окном которой видна ветка с листьями, а далее – начинающие желтеть поля. Часто пишут, что Серебрякова повторяет в женских портретах, среди которых и упомянутый выше, свой тип внешности, черты своего лица. Думается, это не имеет большого значения; важно то, что портрет этой прекрасной черноглазой, чернобровой и черноволосой женщины также превращается в великолепную картину благодаря спокойному и благородному образному решению, композиционной и цветовой уравновешенности, мягкому освещению, исходящему от двух источников одинаковой интенсивности – открытого окна справа и, очевидно, другого окна, которое должно находиться слева от портретируемой. Эта трудная задача цвето– и светописи решена мастерски.
Летом 1911 года там же, в Нескучном Серебряковой написан портрет другой ее невестки – жены брата Николая Евгеньевича Елены Казимировны Лансере. Эта работа близка автопортрету и портрету Ольги Константиновны и по осознанному картинному решению, и по особой завершенности созданного образа. Молодая женщина стоит в светлой комнате «большого дома» в Нескучном; в открытую дверь, на фоне которой изображена портретируемая, видна вторая просторная комната с частью меблировки. Серебрякова опять решает задачу передачи двойного источника освещения, благодаря чему усиливается ощущение связи модели с окружающим ее пространством. Естественность позы подчеркнута движением рук. Так же тщательно, как в упомянутых выше портретах, выписано лицо с тонкими чертами и спокойным взглядом больших глаз. Темное платье молодой женщины четким силуэтом выделяется на фоне светлой стены и дальнего окна, что придает портрету-картине особую остроту. Это произведение было высоко оценено по прошествии многих лет таким тонким знатоком живописи, как А. П. Остроумова-Лебедева: «Портрет превосходен, очень хороша поза. Она стоит, на что-то облокотившись правым локтем. Рука висит вниз и соприкасается с пальцами левой руки. Фигура в черном, без украшений и какого бы то ни было яркого пятна. В портрете много грации, художественного творческого откровения. <…> И почти никакого сходства. Вообще ее портреты часто бывают непохожи. Все изображаемые ею женщины напоминают саму художницу. И нужно ли сходство. <…> Невероятно трудно связать эти два элемента – сходство с моделью и художественную цельность работы» [53]. Надо сказать, что заявления о несходстве модели с изображением не раз встречаются в суждениях о женских портретах Серебряковой, особенно применительно к раннему периоду ее творчества. Действительно, во многих работах – особенно тех, где перед нею вставали сложные, «картинного» свойства задачи, – проблема сиюминутного сходства отступала перед необходимостью более глубокого выражения душевной сущности натуры, ее личностной значимости, независимой от «общественного статуса».
Примерно тогда же Серебрякова пишет, в числе других, два портрета друзей семейства Лансере – Серебряковых, гостивших у них в Нескучном: поэта-символиста Георгия Ивановича Чулкова и его жены Надежды Григорьевны. Эти изображения супругов никак нельзя считать «парными» по решению. Первое – явно очень быстро написанный, даже чуть незаконченный (не полностью прописан фон, что редко встречается в ранних работах Серебряковой), достаточно традиционный и спокойный по композиции поясной портрет, в котором для живописца главное – не только передача внешнего сходства, но и душевного состояния человека. Над портретом же Надежды Григорьевны художница работала сравнительно долго. По разработанности и сложности композиционного решения он ближе к описанным выше женским портретам, хотя и отличается от них тем, что создавался не в помещении, а в саду, в окружении густой зелени и стволов тенистых деревьев. С таким же глубоким вниманием и симпатией, как портреты своих невесток, Серебрякова создает образ этой молодой женщины с небанальным, энергичным лицом. И, несмотря на то, что портрет написан «на воздухе», художница не пытается (как не будет пытаться и в своем дальнейшем творчестве) решить его «импрессионистически» – подвижными мазками, передающими движение света и воздуха, уравнивающими в значении все элементы картины. В основу живописного решения здесь положена та же установка на предельно точное воспроизведение «предмета изображения», что и в других работах Серебряковой в этом жанре. Художница стремится как можно выразительнее передать характерный облик модели и особенности этого уголка сада.
К работам, прежде всего, психологического плана принадлежат два превосходных портрета – дяди, Михаила Николаевича Бенуа (1910), и Екатерины Николаевны, написанный на полтора года позже. Очень сдержанные по живописному решению и композиции, без всяких «изысков» и «придумок», они поражают точностью характеристик, вполне реализованным стремлением передать душевную жизнь модели и ясно выраженной любовью живописца к портретируемым. В первую очередь это относится к портрету матери, как никто понимавшей Зинаиду Евгеньевну как человека и ценившей ее как большого живописца, самоотверженно поддерживавшей ее в тяжелые времена. Поэтому так впечатляет этот прекрасный портрет уже немолодой женщины с проницательным взглядом удлиненных глаз и доброй полуулыбкой.
Так же убедителен написанный несколько позднее, в 1913 году, самый проникновенный портрет мужа, чьи душевные качества – доброта, твердость духа – в различных жизненных ситуациях очень поддерживали Серебрякову, отнюдь не легко воспринимавшую действительность даже в пору относительно благополучной первой половины 1910-х годов.
В эти столь плодотворные годы Зинаидой Евгеньевной были созданы еще несколько автопортретов. Один из них – «Девушка в шарфе» (1911) – восхищает особым чувством молодой радости и как будто опровергает мнение ряда близких знакомых о ее застенчивости, «дикости» и подчас болезненной чувствительности. Именно этот автопортрет яснее всего демонстрирует, что в моменты творчества у Серебряковой рождалось особое, гораздо более оптимистическое, чем в повседневности, отношение к окружающему. Большие ясные глаза, улыбающиеся губы, причудливые складки как бы второпях наброшенного на голову голубого с красными включениями шарфа – все это создает ощущение юной и счастливой жизни.
Очень интересны и многозначительны автопортреты «Пьеро» и «Этюд девушки». Кажется, отнюдь не случайно художница назвала их впоследствии так «безлично». Цель обеих работ – не провозглашаемая, конечно, Серебряковой, но, по-видимому, существовавшая, – создание романтического портрета-картины. Во время своего пребывания в Париже она познакомилась и с портретами французских мастеров восемнадцатого столетия, и с произведениями живописцев-романтиков первой половины века девятнадцатого (через много лет она с восхищением напишет о «замечательном таланте Делакруа»); эти впечатления воскресли, может быть, вследствие ее увлеченной работы над портретами, решаемыми по-разному в живописном и содержательном плане. Серебрякова в обоих случаях смело и очень успешно справляется со сложной задачей освещения лица и фигуры в затемненном помещении. И девушка на «Этюде», чье очаровательное большеглазое лицо и белая блуза выступают из мрака при мерцающем пламени свечи, и резко выделяющаяся на темном фоне одетая в костюм Пьеро вглядывающаяся вдаль юная женщина, при несомненном сходстве с создательницей этих произведений, кажутся ищущими что-то, не принадлежащее повседневности и неведомое им самим.
В 1912 году Серебрякова пишет картину-портрет «Кормилица с ребенком», который с полной ясностью открывает иную сторону ее творческих устремлений в эти годы. Это были все более захватывавшие ее поиски воплощения в живописи, в разных аспектах, образа русской крестьянки, в недалеком будущем – героини ее «главных» картин: «Бани», «Жатвы», «Беления холста».
Усадив молодую женщину, кормящую грудью родившуюся в начале года дочь Серебряковых Татьяну (Тату), у широко распахнутого окна, художница вводит в картину, на правах важнейшего ее «участника», привычный и любимый пейзаж – уголок фруктового сада. Тона выбеленных стволов яблонь прекрасно сочетаются с белой рубашкой и передником кормилицы и с цветом младенческого тела, написанного с большой деликатностью. Композиция предельно естественна и проста; но ее уравновешенность и спокойствие, гармонирующие с внутренним состоянием молодой женщины с типично русским лицом и «лбом винчианских мадонн» (как поэт Дмитрий Кедрин сказал про рязанских крестьянок), переводят портрет в ранг картины.
Можно назвать еще ряд превосходных изображений крестьян и сельских девушек, выполненных с той же любовью и вниманием, что и портреты близких Серебряковой. Среди них очень много рисунков портретного характера углем и графитом, становящихся все смелее, увереннее и интереснее по образному решению. Так идет подспудная подготовка художницы к созданию через несколько лет серии картин, посвященных значимым событиям крестьянской жизни.
* * *
Говоря о начале 1910-х годов, нельзя не остановиться на довольно интенсивном общении Зинаиды Евгеньевны с четой известных петербургских литераторов Чулковых, перешедшем в дружбу. Поэт Георгий Иванович Чулков, друг А. А. Блока, был человеком, несомненно, незаурядным, автором теории «мистического анархизма» (впрочем, быстро исчезнувшей) – своеобразной смеси политического радикализма с некоторыми идейными установками символизма, издателем символистских альманахов «Факелы» (1906–1908) и «Белые ночи» (1908); его жена Надежда Георгиевна являлась известной переводчицей. Екатерина Николаевна писала сыну из Нескучного летом 1910 года: «Жаль, что вы в этом году не у нас – наши гости интереснее прошлогодних». В других письмах она восхищается тем, как мастерски Чулков читает Данте ее дочерям – Зине и Марусе; рассказывает о его попытках убедить Зину, что Лермонтов как поэт выше любимого ею Пушкина [54]. Это могло бы свидетельствовать о достаточно тесных связях Зинаиды Евгеньевны с литературным миром, как и отмеченное в ее письмах посещение премьеры «Балаганчика» А. А. Блока в постановке В. Э. Мейерхольда, и ее желание помочь своей приятельнице и модели, поэтессе В. Е. Аренс-Гаккель попасть в известное артистическое кафе «Бродячая собака» по «карточке» одного из братьев Лансере [55]. Но зная застенчивость и нелюдимость Зинаиды Евгеньевны, которая даже на заседаниях и вечерах «Мира искусства» не бывала, можно с уверенностью сказать, что сама она знаменитую шумную, экстравагантную, сверхсовременную «Бродячую собаку» не посещала. Не была она в те годы, несмотря на несомненный интерес к современной литературе, лично знакома с известными литераторами и поэтами, за исключением, как говорилось выше, Г. И. и Н. Г. Чулковых. Да и среди художников у нее было не слишком много близких знакомых. Несомненная дружба возникла у нее с К. А. Сомовым, с большим интересом и теплотой относившимся к ней как живописцу и человеку, с молодым искусствоведом С. Р. Эрнстом и, позднее, с другом последнего Д. Д. Бушеном. Прекрасные, хотя и не очень близкие отношения сложились у нее с М. В. Добужинским и знакомой с юношеских лет А. П. Остроумовой-Лебедевой. С «красавицами же тринадцатого года» (Анна Ахматова), например с Саломеей Андрониковой, да и с самой Ахматовой, в будущем моделями Серебряковой, она в те годы, по-видимому, вообще не была знакома.
Неоклассицизм
Одна работа молодой художницы, созданная в том же плодотворном 1911 году, стоит особняком: она в известном смысле завершает начальный отрезок ее уже приобретшего зрелость творчества и одновременно предвещает новые, чисто «серебряковские» живописные открытия. Зинаида Евгеньевна просит свою сестру Катю, очень похожую на нее внешне, позировать летом для картины «Купальщица». Эта новая для нее тема возникает, конечно, не без влияния увиденной ею в Париже живописи Ж. Д. Энгра, Т. Шассерио и, естественно, «Завтрака на траве» и «Олимпии» Эдуарда Мане. В России же Серебрякова оказалась первым художником, возродившим традицию изображения прекрасного женского тела в его живой прелести не в качестве «учебной» работы, а в самостоятельном эстетическом значении, полностью игнорировавшемся живописцами второй половины XIX века, в первую очередь передвижниками, с презрением отдавшими эту «асоциальную» по содержанию живопись на откуп мастерам академического или чисто салонного направления – от Г. И. Семирадского и К. В. Маковского до Н. К. Бодаревского и А. Н. Новоскольцева [56].
Серебрякова долго ищет композицию «Купальщицы»: в первых карандашных набросках, а затем начальном варианте маслом женщина еще «по-венециановски» стоит в прибрежных зарослях. Но это решение не удовлетворяет художницу; она решает написать купальщицу, чуть прикрытую белой драпировкой, сидящей на берегу реки на фоне густой зелени, так чудесно контрастирующей с золотистыми оттенками прекрасного юного тела. Легкий поворот головы, чуть лукавый взгляд и намек на улыбку придают изображению, при, казалось бы, традиционной «классичности», ощущение сиюминутности и удивительную естественность.
Характер этого произведения, при его кажущейся неожиданности и исключительности в те годы – в подлинном искусстве, а не в «масс-культуре» [57], – отнюдь не случаен. Серебрякова сумела, с присущей ей интуицией, уловить и воплотить в живописи стилевые особенности нового, возникшего в конце 1900-х годов явления – неоклассицизма.Его культурфилософские идеи, во многом противостоявшие зарождавшемуся авангардистскому движению, были основаны на возрождении и возвращении в русское искусство традиций Возрождения и русского классицизма конца XVIII – начала XIX века. Особенно полно и последовательно воплотились они в русской архитектуре второго десятилетия XX века – в творчестве молодых архитекторов И. А. Фомина, А. В. Щусева, дяди Зинаиды Евгеньевны Л. Н. Бенуа, В. А. Щуко, построившего в том же 1911 году в неоклассическом стиле имевший большой успех русский павильон на Всемирной выставке в Риме. Принципы, лежащие в основе искусства неоклассицизма, провозглашались и Исторической выставкой архитектуры, открывшейся весной 1911 года; вступительная статья к ее каталогу принадлежала перу А. Н. Бенуа. Эти же идеи пропагандировались в материалах журнала «Аполлон», который, несомненно, читала Серебрякова, и в ряде других изданий [58].
Однако менее широко и последовательно неоклассицизм проявлялся в живописи, для состояния которой была характерна, по определению А. Н. Бенуа, «растянутость художественной линии», то есть чрезвычайное разнообразие направлений – от решительного новаторства и левизны «Союза молодежи» и «Бубнового валета» до пейзажно-лирического реализма Союза русских художников и совершенно традиционного, более того, косного «академизма».
В мотиве серебряковской «Купальщицы» и его живописном воплощении дает о себе знать характерная для русского модерна возможность «разновариантной стилизации» – гармоничного сочетания непосредственного видения натуры с чертами неоклассики и Нового стиля в композиционном решении: изысканном и в то же время живом повороте фигуры, в выраженности линейной ритмики и особой уравновешенности, в безупречно найденных контрастах цветового решения. Но главное в этой картине, как и во всех произведениях Серебряковой этих лет (да и всей ее творческой жизни), – удивительная естественность и поэтическая точность.
В «Купальщице», с одной стороны, и во множестве живописных и графических портретов крестьян, созданных в это же время Серебряковой, – с другой, воплотились в разных ипостасях две основные темы, пронизывающие все ее творчество предреволюционных лет. Первая, более частная – воспевание человеческого тела, прекрасной наготы, представляющей, как писал редактор журнала «Аполлон» С. К. Маковский, «для современной живописи основу всякого синтеза, вдохновенного стиля, монументальной идеализации» [59](высказывание, показательное для адепта вступающего в силу неоклассицизма). Вторая, ставшая главной, тема – вернее, огромная тематическая область, в которой Серебряковой, безусловно, удалось сказать новое слово, – тема крестьянства: его труда, духовного и физического склада мужчин и женщин средней полосы России. Основные свои «крестьянские» картины она создала через пару лет, хотя внутренняя подготовка к ним шла, по сути, с ранней юности и не прекращалась в период создания одной из самых значительных ее работ 1912–1913 годов – «Бани». Именно «Баня» была – по вложенной в нее мысли и по тем живописным задачам, которые ставила перед собой художница, – первым сознательно картиннымпроизведением, над решением которого Серебрякова вдохновенно трудилась в течение почти двух лет. Одна из причин ее создания лучше всего сформулирована самим автором много лет спустя: «Что привлекало меня к теме “Баня” и вообще к писанию нагого тела? Я всегда увлекалась темой “ню” и сюжет “Бани” был лишь предлогом для этого, и Вы правы, что это просто “потому, что хорошо человеческое юное и чистое тело”» [60].
В течение 1912 года она работает над этой темой: летом – рисует обнаженных крестьянских девушек, наблюдая их во время купания на реке, в бане, иногда убеждая их позировать; зимой – пишет в мастерской домашних работниц своих знакомых. Это превосходные, очень живые наброски, быстро фиксирующие движения и характерные повороты молодых женщин. Серебрякова не приукрашивает натуру, рисует девушек такими, какие они есть, со всеми индивидуальными особенностями и неправильностями сложения. И все же даже в этих набросках ощущается восхищение художника своими моделями. Действительно, эти девушки – сильные, ловкие, с раннего детства привыкшие к нелегкому физическому труду и радостно воспринимающие минуты отдыха, возможность расслабиться – на рисунках Серебряковой хороши естественностью поз, движений, выражением лиц и просто здоровьем и чистотой юности.
Постепенно начинает все более четко и последовательно вырисовываться замысел картины. Появляется серия больших натурных рисунков углем на картоне. В них нет нарочитого приукрашивания, но чувствуется, что позы натурщиц избраны Серебряковой совершенно сознательно, пропорции их тел несколько облагораживаются. Это уже не случайные наброски, а гораздо более длительные по времени исполнения, тщательно промоделированные станковые штудии. В середине 1912 года Серебрякова начинает писать картину, которая окажется первым вариантом «Бани».
Художница избирает вертикальный формат, композиция разворачивается вглубь. На первом плане – две женские фигуры – стоящая и сидящая; но внимание Серебряковой сосредоточено на первой модели, чье тело с совершенными формами изображено в сложном, до сих пор не встречавшемся в ее рисунках повороте. В глубине – еще четыре юных девушки в различных позах. Вся композиция ярко освещена, движущиеся тени придают сцене выразительность и известную динамичность. Однако этот вариант не удовлетворяет живописца, по-видимому, некоторой сбивчивостью, дробностью композиции и слишком большой отдаленностью второго плана, мешающей подчеркнуть выразительность движений и пластичность обнаженных тел. Зато в новом, большем по размеру, горизонтальном варианте картины, включающем уже одиннадцать девичьих фигур, композиционное решение полностью продумано Серебряковой. Основное внимание она уделяет взаиморасположению и ритмической согласованности превосходно пластически проработанных женских тел. И уже ничто не нарушает равновесия и гармонической слаженности, во многом обусловленных энергичным и также ритмически продуманным светотеневым решением всех составляющих картину элементов. Первый план картины заставляет вспомнить античные барельефы. Возможно, это не входило в намерения живописца; хотя среди подготовительных рисунков есть один, на котором семь обнаженных женских фигур расположены в строго уравновешенном порядке, подтверждающем это сходство.
«Баня» Серебряковой, с таким глубоким уважением – более того, с восхищением – воспевавшая юность, чистоту и красоту крестьянок, явилась совершенно новым словом в живописи второго десятилетия века. Дело здесь не только в том, что тема наготы прозвучала на таком высоком живописном и нравственном уровне. Искания Серебряковой, намеченные этой картиной, шли вразрез с тем направлением, в котором открывали новые горизонты живописи ее сверстники – «бубнововалетцы» во главе с П. Кончаловским, И. Машковым, А. Лентуловым, Р. Фальком; неопримитивисты – в ту пору – М. Ларионов и Н. Гончарова, не говоря уже о К. Малевиче и П. Филонове. Абсолютно чуждая авангардистским исканиям, Серебрякова продолжала твердо идти своим путем, уже ясно намеченным и в ее портретах, и в пейзажах рубежа 1900–1910-х годов, что получило безусловное подтверждение в «Бане». Но ее реализм был, по существу, реализмом новымне только по глубинному смыслу, отражающему ее мировосприятие, но и по стилевым особенностям, вполне соответствующим содержанию ее живописи (кстати, в конце 1920-х годов путь многих живописцев, не принадлежавших к «авангарду», был обозначен видным искусствоведом А. А. Федоровым-Давыдовым как «неореализм»). С юности обладая самостоятельным видением, Серебрякова сумела, чутко усвоив то новое, что соответствовало ее живописному мировосприятию, воплотить его в первых же своих произведениях, чтобы развить и окончательно утвердить в дальнейшем.
Так, уже в «Бане» она отказывается от «бытовизма» сюжета, от жанровости. Вместе с тем она не идет и по пути импрессионизма, воздерживаясь во имя четкого, ясного, неоклассическогоизображения от иллюзионистской передачи влажности воздуха, пара и других, казалось бы, необходимых для изображения бани элементов. Достаточно вспомнить «Прачек» Архипова с социологичностью их сюжета и «московским импрессионизмом» живописного решения, чтобы понять, что живопись Серебряковой знаменует новый этап восприятия и передачи реальности. И поэтому так естественны, органичны и характерная для модерна ритмичность в чередовании цветовых пятен, света и тени, и всегда присущее Серебряковой стремление к красоте, и своеобразно преломленное – через изображение наготы простых девушек из народа – впечатление от великого искусства Античности и Возрождения.
Но этим не исчерпывается значение «Бани» в творчестве Зинаиды Серебряковой. Это был, несомненно, один из шагов на пути воскрешения и возвращения в русское искусство «картины», причем современной по содержательному и образному решению и глубоко продуманной, в лучшем смысле слова классической, а если придерживаться стилевого, важного для времени ее создания определения – неоклассической.
Под знаком Пушкина. Дети
1912–1913 годы – время окончательного утверждения и признания в художественных кругах и среди серьезных любителей искусств творческого «облика» Серебряковой – были не менее важны для нее и в чисто житейском плане. Через год с небольшим после рождения в январе 1912 года дочери Тани появилась Катя. Мальчики подросли, но наличие теперь уже четверых детей требовало бесконечных материнских забот. Правда, Екатерина Николаевна по-прежнему посвящает себя главным образом младшей дочери. В весенние месяцы Зинаида Евгеньевна все же получила возможность дважды съездить в Крым с матерью и сыновьями: сначала в Ялту и Гурзуф, во второй раз – в Симеиз. Из этих поездок она привозит много пейзажных этюдов поразившей ее яркой живописностью природы, столь непохожей на поля и холмы северной Украины цветовой насыщенностью зелени, причудливостью отрогов скал и камней, залитых солнечным светом.
В конце 1912-го и в 1913 году Серебрякова жила в Царском Селе, ненадолго выезжая, кроме Крыма, в Нескучное и, естественно, в Петербург. Пребывание в Царском было очень плодотворным: там был написан ряд поэтичных пейзажей озер, Камероновой галереи, парковых аллей и скульптур, в том числе «Пруд в Царском Селе», «Зима в Царском Селе», а также «Розово-павильонный пруд» близлежащего Павловска. Эти светлые, полные гармонии пейзажи лишены какой бы то ни было «мирискуснической» стилизации, зато овеяны тонким чувством поэтической грусти, питаемой вдохновлявшей Серебрякову ее всегдашней любовью к Пушкину. Еще одним подтверждением ее трепетного отношения к поэту стало относящееся к этому времени письмо к Н. Г. Чулковой: «Вы читали, верно, что будет новый памятник Пушкину в Петербурге. С отвращением представляю что-нибудь вроде московского в безобразном костюме 30-х годов и таким скучным. Боже мой, надо бы сделать его божественным, с улыбкой “поэт на лире вдохновенной рукой рассеянной бряцал” и гордым. В мечтах у меня я вижу его таким, а пробую сделать что-нибудь и вижу, что одной любви мало» [61].








