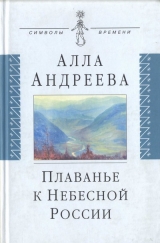
Текст книги "Плаванье к Небесной России"
Автор книги: Алла Андреева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Я всей душой была в театре. При школе в одной из комнаток жила Ольга Алексеева, актриса, родственница Станиславского. Она вела драмкружок. Помню два спектакля. Первый – «Люлли-музыкант», где я играла Люлли. Мне было лет одиннадцать. Мы с увлечением репетировали пьесу, но нам ее запретили! Герцог де Гиз брал там Люлли к себе, и, стало быть, не было настоящего классового подхода. Не разрешали тогда не только сказки, но и спектакли. Потом оказалось, что я знаю наизусть целиком «Бориса Годунова» и «Горе от ума». Я никогда не учила эти вещи, просто читала, как читают в детстве то, что особенно любят: по десять-двадцать раз. И вот мы с классом (это был пятый или шестой) решили поставить «Бориса Годунова». Я играла Самозванца. Костюмов мы не достали, играли в своих платьях, кто в чем. Меня долго потом поддразнивали. Длинноногая растрепанная белобрысая девочка в коротеньком бумазейном платьице тоненьким голоском упоенно восклицала: «Тень Грозного меня усыновила».
Через двадцать с лишним лет в мордовском лагере мы играли пушкинскую «Сцену у фонтана» в очень страшный день. У нас отобрали свои платья и выдали казенные, с номерами на спине, на подоле, на телогрейке и на косынке. Как будто отнимали имя. Человека уже больше не было, оставался только номер. Но Пушкина у нас отнять было нельзя. И все прекрасное на свете сконцентрировалось в пушкинских словах, и было с нами.
Моя детская способность к сопереживанию имела странное последствие. В двенадцать лет из-за нее я получила заболевание – тик. Я иногда возвращалась из школы трамваем, выскакивала у Петровских ворот, вприпрыжку бежала домой по Петровке, мимо Петровского монастыря. В этот раз у монастыря на земле сидел нищий. Голова у него дергалась. Меня залила такая отчаянная жалость, что мгновенно я как бы всего его вобрала в себя. Я стала этим нищим. Домой я пришла уже больной. И как меня ни лечили, тик остался на всю жизнь. Позднее я уже знала за собою эту особенность и, встречая на улице человека, например, с болезнью святого Витта, переходила на другую сторону. Эта странная способность острого сопереживания через много лет обернулась хорошей стороной, когда мы жили уже вместе с Даниилом и он работал над романом «Странники ночи», но об этом позже.
Существовало во время юности Даниила и моего детства пространство, где еще в 28-м или 29-м году мы могли бы встретиться. Тогда, на протяжении всего Тверского бульвара от Никитских ворот до памятника Пушкину, который стоял там, где ему и полагается, тянулся книжный развал. Там располагались продавцы, перед ними, кажется, на каких-то подстилках, лежали книги. А между ними торговали мороженым. Часто, возвращаясь из школы, я ходила вдоль этих развалов, жадно разглядывая книги. Книг лежало множество, они были разные, иногда и очень хорошие. Даниил в это время учился на Высших литературных курсах, помещавшихся посередине Тверского бульвара, где сейчас Литературный институт им. Горького, и где 21 июня 2000 года установлена мемориальная доска памяти Даниила Андреева. Кроме того, многое и в его жизни было связано с окрестными переулками. Он, конечно, тоже ходил вдоль этих книжных развалов. Наверняка мы проходили мимо одних и тех же книг. Может быть, даже стояли рядом над какими-то из них – худенькая длинная девочка, всегда растрепанная, с мороженым в руке, и стройный, смуглый, красивый молодой человек с очень необычной внешностью.
Часто, возвращаясь из школы домой Вознесенским переулком, я проходила мимо англиканской церкви. До ушей начитавшаяся Вальтера Скотта, я замирала перед этим прекрасным зданием и горячо мечтала, как бы я хотела жить где-нибудь поблизости! Теперь я живу в соседнем переулке.
Глава 8. КОЛЬЦО НИБЕЛУНГА
Мое детство было наполнено музыкой и книгами. Первое, что я помню – была музыка, но не та ритмизованная бесовщина, которая обваливается сейчас на нас с каждого угла, а море настоящей музыки, Божьего голоса. Книги же наполняли мой мир волшебными образами принцесс и рыцарей. Даже простоватые герои приключенческих романов тоже были образцами смелости, чести, порядочности и верности. Все они молча жили рядом и требовали равнения на них. В этих романах обычно были две героини. Одна черноглазая, смуглая, смелая, она отважно скакала на коне. У Эмилио Сальгари это была дочь предводителя индейского племени, ее звали Миннегага и она была совершенно великолепна. Вторая героиня всегда была голубоглазой блондинкой, все время плакала и падала в обморок. Конечно, моей героиней была первая. Я подходила к зеркалу, и оттуда на меня смотрело круглое светлое личико с голубыми глазами, и хоть бы косы на голове, а то нет – белобрысые лохмушки! Как меня это расстраивало!
Со временем, зачитанных до дыр Жюля Верна и Сальгари сменили – и уже навсегда – Шекспир, Гофман и Диккенс. Пушкин, Лермонтов и Гоголь казались чем-то органически живущим рядом, как воздух, деревья, рояль. Начитавшись Шекспира, я влюбилась в Марка Антония. Забавно, что мне совсем не мешало ни наличие Клеопатры, ни даже то, что он жил много веков назад.
Живущую в мире фантазий девочку трудно было назвать христианкой, хотя я себя таковой считала при полной неграмотности во всем, что касалось религии. Около меня не было ни одного не то что воцерковленного, а просто реального христианина. К заутрени мы ходили к храму на углу Столешникова переулка и Петровки – стояли с огромной толпой на улице. Теперь я знаю, что это был храм Рождества Богородицы. Думаю, благовест Москвы, начинавшийся с колокольни Ивана Великого, и подхватываемый всеми недоразрушенными, недовзорванными и недозакрытыми московскими церквями, делал с моей душою то, что не удавалось никому из людей. В церковь я не ходила, как и все, кого я знала. Но без слов этот светлый и магический звон делал свое Божье дело. Это принято называть неосознанным стремлением ко Христу, что, конечно, было творчеством моего Ангела Хранителя. Ведь потому колокола и сбрасывали – уничтожали голос Бога. Но не уничтожили. Это невозможно.
Мои попытки читать самостоятельно Евангелие были неудачными, а книга «Мифы и легенды Древней Греции» казалась понятнее и увлекательней. Соперничать с ней могли разве что рыцари Круглого стола. А потом произошло следующее. Я прочла книгу – по-моему, автором был Эберс, – а книга называлась «Серапис» и кончалась тем, что христиане разбивают статую бога Сераписа. Я со всей страстью пережила гибель статуи и решила стать язычницей. Никому ничего не говоря, я бегала в Музей изящных искусств молиться статуям греческих богов.
Откуда у меня возникло и вовсе странное желание стать ведьмой, я уж совсем не знаю. Оно было очень сильным, и я, со всей своей наивностью, стала искать в советских библиотеках книги с руководством по колдовству. Их я не нашла, но хорошо помню одну ночь. Все выглядело совсем буднично, у меня, как всегда, была бессонница. Я лежала и размышляла… И в потоке мыслей, как молния, мне ясно открылась греховность и недопустимость желания быть ведьмой. И я всей душой и навсегда от этого отказалась. Так прикоснулась ко мне рука моего Ангела Хранителя. Он был со мною всегда, и, конечно, это он вывел меня из того неописуемого душевного нагромождения, которое я только что попыталась описать. Конечно Ангел, но как? Но чем?
Сколько бы я ни всматривалась в то время, я вижу три опоры: невидимое присутствие в моей жизни Ангела Хранителя, книги и, конечно, музыка.
Если говорить о книгах, то совершенно особое место в моей жизни занимают легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Образ короля-рыцаря Артура проходит через всю мою жизнь. В 1994 году – в последний год, когда я еще видела – я была в Англии и работала в русском архиве университета города Лиддс. Создатель и заведующий этим архивом Ричард Дэвис, вместе с которым мы приводили в порядок тюремные черновики Даниила (я их передала туда), в свободное время возил меня по Англии. Все, что я видела: старинный Йорк, его древняя римская стена, длинные пологие холмы Англии – казались ждущими своего короля, который придет из Небесной Англии-Логриса, когда исполнится срок.
Мне, девочке, уже тогда стало ясно, что смысл жизни женщины – любовь. Какая любовь? Что касается вопроса о модном сейчас сексуальном воспитании, так у меня этого воспитания не было вовсе. Дома на эту тему никто и никогда не говорил ни слова, хотя отец был физиологом. Все, так сказать, «необходимые» сведения я получала во дворе в самом уличном изложении. Они не произвели на меня никакого впечатления. Думаю, что должна благодарить за это рыцарей и принцесс. Больше того, мои царевны и герои не только не свалились в подворотню, а наоборот – возникли сомнения в правильности сведений, полученных в подворотне. Что-то в них было не так, потому что к Тристану и Изольде они отношения иметь не могли. А в истинности Тристана и Изольды сомнений не было никаких.
Откуда у десяти-двенадцатилетней девочки, только что лазавшей с мальчишками по крышам, родилось это четкое представление о том, что ее назначение в жизни – любить, абсолютно ничего для себя не требуя? Что однажды я встречу того, кто будет предан какому-то важному делу, то есть рыцаря-крестоносца, и буду рядом с ним ради него и его дела.
Интересно, что я и мои подружки читали одни и те же книги, позднее вместе слушали «Лоэнгрина», но только я так представляла себе свою будущую любовь.
Сейчас мне иногда задают вопрос, почему же я подробно не расспрашивала Даниила о том, откуда он получал сведения, какие у него были состояния, из которых выросла «Роза Мира». А все очень просто. С тех самых пор и на всю жизнь я поняла, как трагически неправа была Эльза из «Лоэнгрина», как она потеряла любимого. И слова: «Ты все сомнения бросишь, ты никогда не спросишь, откуда прибыл я и как зовут меня» – выжжены в моей душе навсегда. Поэтому я не расспрашивала мужа о том, о чем не следовало. Такое понимание родилось тогда, у той растрепанной девочки.
Даниил тоже любил детство. И мне хочется задержаться в этом времени по нескольким причинам. Одна из них то, что я знаю, в какой штормовой океан вынесет уже скоро наши корабли. Другая – когда с конца жизни всматриваешься в начало, то видишь, как основные черты, кирпичики в фундаменте личности, закладывались там. А третья причина – забавная. У нас с Даниилом, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, какие-то вещи проходили параллельно, конечно, учитывая эту разницу. Вот об этих, немного смешных вещах я и расскажу.
Музыке тогда обучались все дети в так называемых интеллигентных семьях. Нас усаживали за рояль и учили играть. Со мной все было в порядке благодаря папе. Когда мне было, вероятно, лет пять, он посадил меня за рояль, подложив множество нотных папок, мы с ним играли в четыре руки. Происходило это так: вторая часть дивной Первой симфонии Калинникова очень проста – в правой части партитуры это терция, которую играют двумя пальцами. Это я и играла, а все остальное – папа. А я была безумно горда – мы с Дюканушкой (так я звала папу) играем в четыре руки! Со временем мы подошли к тому, что могли играть все, что хотели: вплоть до симфоний Бетховена. Благодаря этому я жила в музыке.
У Даниила с музыкой дело обстояло несколько хуже и быстро кончилось. Его тоже усадили за рояль. И вот однажды, спустя какое-то время, Филипп Александрович, сидевший в том же большом зале, где стоял рояль, несколько раз остановил его: «Ну ты же неправильно играешь, ты же фальшивишь! Ты ошибаешься!». Даниил продолжал ошибаться. Тогда Филиппу Александровичу это надоело, он ссадил мальчика с табуретки, сел за рояль и сказал: «Послушай, я сейчас тебе сыграю так, как должно быть». Он заиграл, увлекся, продолжал играть и играть. Через какое-то время из-под рояля донесся восторженный вопль: «Дядюшка! У рояля ноги, как у динозавра!». Хорошо, что Добровы вовремя поняли, что не надо ребенка мучить. Музыкой он больше не занимался, а вот динозавров обожал. Все его тетрадки покрыты изображениями доисторических животных.
Другой забавный случай произошел у нас обоих с оперой «Евгений Онегин». Тоже, конечно, в разное время. Тогда дети очень часто ходили в театры и на концерты. Причем нас отпускали в одиночку; просто давали в руки билет и говорили: «Вот иди в Художественный, Малый зал Консерватории или еще куда-нибудь». Так мы ходили, иногда на детские утренники, но часто и на настоящие вечерние спектакли. На «Евгения Онегина» меня взяла с собой мамина приятельница, у которой были две дочки. Сидели мы на галерке. А у меня – боязнь высоты, о чем никто тогда не подозревал. Уже из-за этого мне было скверно. Кроме того, в семь-восемь лет меня абсолютно не заинтересовало то, что происходило на сцене. Поэтому дома я заявила, что в оперу я больше не пойду, мне там не понравилось. Папа выждал время и, когда мне было лет десять, поступил очень просто и умно. Он купил билеты на хорошие места в ложу бенуара и взял с собой партитуру. Я сидела с папой на прекрасных местах и слушала «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». И так это сказание вошло в мою душу на всю жизнь. Кроме того, папа показывал мне, как написано в партитуре то, что происходит на сцене: «Смотри: то, что поют, вот здесь написано». И это удивительным образом закрепило впечатление от спектакля уже навсегда и определило мое отношение к опере, которую я особенно люблю.
У Даниила история с «Евгением Онегиным» получилась другая, но тоже забавная. Его отправили в театр одного. И он пришел неожиданно рано. Взрослые удивились: «Почему так рано? Разве спектакль уже кончился?». Даня ответил: «Да». Взрослым это показалось странным, и они принялись расспрашивать:
– Ну а что же там все-таки происходило, расскажи.
– Ну как, что там было? Убили его и все тут, чего же еще?
Для мальчика после того, как один герой убил другого, сюжет оперы был исчерпан. Он просто повернулся и пошел домой, считая, что это конец.
В 29-м году я окончила семилетку, и в этом же году были разогнаны Высшие литературные курсы, на которых раньше учился Даниил. Дело в том, что эти курсы были прибежищем молодежи из интеллигентских и дворянских семей. Этих молодых людей не принимали в университет именно из-за такого неподходящего происхождения. И преподаватели Курсов были такими же. Конечно, советская власть не могла долго терпеть такого гнезда «чуждой культуры» и это «злокачественное образование» было закрыто.
А окончание школы и для меня, и для Даниила было похожим. Я совершенно ничего не понимала в математике. Преподавал ее Константин Львович Баев, он работал еще и в планетарии, и сносно относился ко мне только потому, что я увлекалась астрономией, которую он же и ввел как школьный предмет. Про нас, девочек, он говорил, что у нас ушки – только красивые раковинки и больше они ни для чего не годны. На выпускной экзамен, последнюю контрольную по математике, я опоздала. Константин Львович рассердился и дал мне отдельное задание. Когда я взглянула на него, то сразу поняла, что нечего и пытаться решать. Я тут же переписала задание на листочки и разослала нескольким лучшим ученикам, тем, кто обычно мне помогал. Но, увы, от всех получила ответы: «Не могу, ничего не понимаю». Видимо, рассердившийся Константин Львович выдал мне такое, что вообще не имело решения. Я подумала, подумала, написала стихотворение и подала его вместо контрольной. И получила отметку успешно!
С физикой дело обстояло хуже. Последним заданием по физике была динамомашина. Как она работает, объяснял мне очень хороший преподаватель. Много раз объяснял папа. Объясняли все лучшие ученики класса. Пять минут, пока длилось объяснение, казалось, что все понятно. А еще через пять минут я опять ничего не соображала. Каким-то образом, не знаю как, но я все-таки сдала физику уже осенью. Это была переэкзаменовка. Но что такое динамомашина, как она работает, так до сих пор и не знаю.
Даниил тоже ничего не понимал в математике и не в силах был высидеть на уроках. И хотя он всячески пытался совладать с собой и приняться за дело, каждый раз уходил с урока и прятался. В конце-концов наступил последний урок, тот самый, контрольный. Он решил остаться. Но, как потом говорил мне, «как только раздался звонок, ноги сами вынесли». Он рассказывал об этом так: «Проторчал весь урок в соседнем пустом классе, к тому же на меня напал кашель, и я простоял урок на подоконнике, высунув голову в форточку и кашляя в переулок, чтоб не было слышно». Даниил был старостой класса. Это происходило уже при советской власти. Вместо частной Репмановской гимназии была советская школа. И вводились всякие новые порядки: старосты классов присутствовали на педагогическом совете, когда объявлялись отметки всех учеников. Даниил – староста, да еще фамилия Андреев – на «А». С него начинается обнародование отметок всего класса. Преподаватели по очереди называют свою отметку каждому ученику. Когда дело доходит до математика, он, не поднимая глаз, говорит: «Успешно».
Через несколько лет Даниил специально пошел домой к этому учителю, чтобы спросить: «Почему вы так поступили?». И вот что услышал в ответ: «Вы были единственным учеником, о котором я не имел ни малейшего представления. Я просто вас никогда не видал. Меня это заинтересовало, и я стал осторожно расспрашивать остальных преподавателей об ученике Данииле Андрееве. И из этих расспросов я понял, что все ваши способности, интересы, все ваши желания и увлечения лежат, так сказать, в совершенно других областях. Ну зачем же мне было портить вам жизнь?». Вот всем бы таких педагогов…
Кончилось мое детство, а юность Даниила была в самом разгаре. Юность трудная, сложная, многомерная и такая необходимая для всего, позже воплощенного им в его творчестве.
И вот опять мы, ничего друг о друге не зная, одновременно подошли к черте, которая оказалась очень значительной в жизни каждого из нас.
В середине двадцатых годов, как мне кажется, на Москву обрушилось кино. Кинотеатры возникали в самых неожиданных местах. Вряд ли кто-нибудь, кроме меня, помнит, что кинотеатром с названием «Колосс» был Большой зал Консерватории, и не такое уж короткое время. Кино было немое. На углу Тверского бульвара был маленький кинотеатрик, который так и назывался «Великий немой». А напротив, наискосок, где сейчас «Известия», только ближе – теперь там пустое место – был кинотеатр «Ша Нуар». По-французски это «Черная кошка», но написано было русскими буквами и произносилось попросту в одно слово – «Шинуар». Там, где сейчас театр Ленинского Комсомола, был кинотеатр «Малая Дмитровка». А на Тверской, где сейчас Драматический театр имени Станиславского, был кинотеатр «Арс». Вот тут и произошло событие. Сеансы сопровождались музыкой. В дешевых кинотеатрах на рояле играл тапер, в тех, что подороже – маленький оркестр. Во многих кинотеатрах шла немецкая двухсерийная картина «Нибелунги». В «Арсе» ее сопровождал оркестр, игравший Вагнера. Фильм и вправду был прекрасным. Первая серия называлась «Зигфрид», вторая – «Месть Кримгильды». Я, конечно, влюбилась в Зигфрида: он был само совершенство. Кримгильда тоже была прекрасна, особенно ее длинные белокурые косы – несостоявшаяся мечта всей моей жизни. Мне очень жаль, что я не могу вспомнить имени очень хорошей актрисы, которая ее играла, зато помню, что Зигфрида играл Пауль Рихтер. Потом мне попала в руки открытка – их в то время продавалось много. Это был очень красивый мужчина в изысканном европейском костюме, чуть ли не во фраке. Он не произвел на меня никакого впечатления. Не нужен мне был никакой Пауль Рихтер, никакой красивый мужчина, никакой актер. Нужен был только Зигфрид. Для меня музыка и смысл вагнеровской тетралогии, черты и образы рыцарства, верности, чести, рассыпанные повсюду, соединились в одном – в Зигфриде. Он был идеалом мужчины – рыцаря, отдающего себя всего и свою жизнь служению Свету. Музыка Вагнера вошла в мою жизнь еще и потому, что папа играл мне всю тетралогию, рассказывая обо всем, что там происходит. Он говорил, что Вотан положил любимую дочь валькирию Брунгильду на скалу и окружил ее огнем. И скала эта – Исландия, а огонь, ее окружающий, – северное сияние. С этих детских лет я страстно мечтала увидеть Исландию и северное сияние. Исландию я уже не увижу. А северное сияние увидела на Воркуте, и это чудо превзошло все мои ожидания.
Даниил, тогда уже взрослый юноша, тоже смотрел этот фильм. Естественно, у него все было гораздо глубже и сложнее. Он влюбился в Кримгильду, да так, что каждый вечер ездил в кино, чтобы ее увидеть. Так было, пока в Москве, хоть где-нибудь, шла «Месть Кримгильды». Он видел ее 70 раз! К тому времени относится замысел «Песни о Монсальвате» – ранней, юношеской неоконченной поэмы, которую он даже восстанавливать не стал ни в тюрьме, ни после освобождения. Ее сохранила семья историка Степана Борисовича Веселовского. В этой неоконченной, неровной работе есть удивительные места. Эти фрагменты замечательны и сами по себе, и еще потому, что в них, как в зернах, дремлют многие будущие темы и образы его творчества. Образ любящей и верной жены проходит через все творчество Даниила. Юношеская влюбленность в язычницу Кримгильду претворяется в «Песне о Монсальвате» в образ уже христианской королевы Агнессы:
И нежная, как голубиные крылья,
Скрестилась под брачною епитрахилью,
Ненарушимую верность суля,
Рука королевы с рукой короля.
Своей вершины женский образ в творчестве Даниила достигает в погибшем романе «Странники ночи». Героиня Ирина Глинская жертвует своей любовью и личным счастьем, внутренне протестуя против замысла любимого человека усилием воли умереть, чтобы воскреснуть для созидания нового совершенного мира.
Непосредственно к теме королевы Кримгильды Даниил вернулся во время войны. Поэма была сожжена «органами» после приговора. Как все сочинения Даниила. В тюрьме он ее восстановил. Но один из самых теплых и душевных фрагментов поэмы, который ее заключает, вспомнил не он, а я, чему забывчивый автор очень обрадовался. Вот он:
В горном лесу тропинка,
Ручей подо льдом бежит…
Убийства, а не поединка
Земля здесь память хранит.
Покров разорву я снежный,
Земную персть оголя —
Земля Бургундии нежная.
Родная моя земля.
Спит он, неотомщенный,
В мягкой ее груди.
Мой вечный! Мой обрученный!
Спи, мой любимый, жди!
Меч несвершенной мести
Между тобой и мной.
Жди меня, будем вместе
В земле родной.
Станем, чистые, оба
Перед судом Отца.
И жизни счастливой за гробом
Не будет конца.








