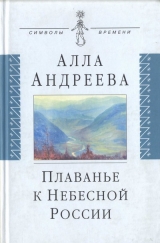
Текст книги "Плаванье к Небесной России"
Автор книги: Алла Андреева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Глава 3. ПЕРВЫЕ ВОЛНЫ
Дом соллогубовского имения, в котором разместили папин госпиталь, был длинный одноэтажный светло-желтый. Вероятно, фасад его выходил в сторону зеленого сада, где летними ночами заливались соловьи. А меня больше занимала другая сторона дома, где летом открывалась целая страна; очень большой фруктовый сад. Его я освоила мгновенно, и каждый день к завтраку папа снимал меня с очередного дерева. Первыми поспевали крупные светлые черешни, потом поочередно все остальное. К концу лета по маминому распоряжению на большой крытой веранде со стороны двора собиралась огромная куча яблок. Мама считала, что больные питаются недостаточно хорошо, и фрукты, которые поспевали в саду, не запасали и не продавали, а сваливали на террасе для всех, кто пожелает. На этой веранде обычно сидели выздоравливающие раненые солдаты и те больные, которые еще не уехали домой.
Папа был единственным врачом на все очень большое пространство вокруг госпиталя. Когда я много лет спустя читала «Записки юного врача» Михаила Булгакова, передо мной очень живо вставала атмосфера, в которой мы жили.
В соллогубовском доме мы занимали залу, потому что мама любила большие помещения. За залой была маленькая комната, где дамы в былые времена поправляли бальные платья и прически, мне там устроили детскую.
Если летом самым интересным в жизни был сад, то зимним развлечением – катание на розвальнях, на которых подвозили больных У госпиталя мы, дети, дожидались, пока приедет кто-нибудь, доставивший больного, и бежали за ним, крича: «Дяденька, подвези!». Нас высаживали на краю сада, а там мы поджидали, пока не появятся другие розвальни, которые подвезут нас обратно к дому. Но иногда папа выходил на крыльцо и строго говорил: «На этих не поедешь!». Это означало, что привезли какого-нибудь заразного больного.
Папа рассказывал, как шел однажды ночью пешком по зимней дороге из дальней деревни от больного. В рюкзаке он нес свой гонорар – телячью ногу, а в поле со всех сторон вокруг него блестели волчьи глаза.
Деревня того времени еще не была разгромлена революцией. Однажды нас всех троих – папу, маму и меня – на розвальнях привезли в крестьянский дом, по-видимому, папа кого-то там вылечил. Помню идеальной чистоты избу с выскобленным полом, большую божницу с лампадкой. Под образами стол, накрытый белой скатертью и заставленный угощеньем. Все это было замечательно, особенно езда на розвальнях, лучше которых нет средства передвижения. Но потом и у меня, и у мамы настроение было испорчено, хоть и по разным причинам. Из-за детского роста мое лицо утыкалось как раз подбородком в стол, где перед самым моим носом стояли сало и кислая капуста – и то и другое приводило меня в ужас. Хозяин и хозяйка в чистой светлой одежде стояли около стола и непрерывно кланялись в пояс, повторяя: «Кушайте, пожалуйста, гости дорогие!». У мамы от такой торжественности еда застревала в горле. Этим выражением в нашей семье потом долго дразнили друг друга.
Я не помню, сколько времени мы жили в этом имении: два лета и зиму? Два лета и две зимы? В детстве время течет совсем иначе, и его очень много. Родители, которые жить не могли без искусства, организовали в госпитале то, что позже стало называться самодеятельностью. Что за спектакли исполнялись – не помню. По-моему, это были «Ведьма» Чехова и «Женитьба» Гоголя. Я сидела в зале, заполненном солдатами, ходячими больными и обслугой госпиталя, а увидев маму на сцене, завопила: «Это моя мама!» – и полезла на сцену, с которой меня стащили.
До ближайшего города – Мценска – было далеко, и за покупками туда не ездили, жили, как на острове, но елки-то были, и Рождество, конечно, праздновали. Папа пришел однажды и сказал, что Дед Мороз не может пробраться к нам из-за больших сугробов, и на этот раз мы будем сами делать для меня подарок. Он принес вырезанную откуда-то из бумаги оранжевую лисичку с пушистым хвостом, положил ее на блюдце вниз изображением. Блюдце, вероятно, было смазано жиром, сверху налили гипс, в который заделали петельку. Когда гипс застыл, получилось настенное украшение – лисичка на белом гипсовом фоне.
В госпитале не было не только врачей, но и квалифицированных медсестер, уколы больным делала моя мама. А о внутривенных вливаниях никто тогда и не слышал.
И вот среди этого «райского сада», то занесенного снегом, то усеянного яблоками, впервые явились мне образы зла. Жилось мне в имении довольно скучно. Из детей там были только двое мальчишек лет восьми-десяти, сыновья женщин, которых взяли в обслугу, совершенно случайных людей. Маме не хотелось, чтобы я играла с ними. А я была общительная, очень живая и, конечно, лезла к мальчишкам, не понимая, почему это меня к ним не пускают. Как оказалось, права-то была мама Я тогда уже свободно читала книжки – сказки. И вот как-то летом мальчишки останавливают меня около дерева, на нем вырезаны три буквы. Мальчишки старше меня, но неграмотные и не верят, что я умею читать. «Врешь ты все», – говорят они и потом, чтобы проверить меня, а заодно и поиздеваться, предлагают:
– Умеешь – прочитай!
И я громко, вслух читаю слово из трех букв, конечно, то самое. Мальчишки гогочут и восторженно вопят:
– Вот теперь тебе от мамы попадет! Это поганое слово.
Я возражаю, что слово не может быть поганым, раз оно написано. Мимо проходит женщина из обслуги, на плечах два ведра воды на коромысле. Увидев эту сцену, она прикрикнула на мальчишек, а мне ласково сказала:
– Лялечка, не говори ты этого слова, оно плохое, и мама рассердится, не говори.
Тут я уже расшумелась:
– Плохих слов не бывает. Ведь это слово написано! Таким было мое искреннее отношение к слову, к книге. Каким-то образом мама все узнала, я оказалась у нее на коленях, и она очень ласково объяснила:
– Доченька, знаешь, бывают на свете плохие слова, и родителям неприятно, когда дети их говорят. Это слово – плохое. Ты его забудь.
Я и сейчас помню свое тогдашнее ощущение какой-то космической катастрофы, как я сказала бы теперь. Книжки – самое лучшее, что есть на свете. И вдруг оказывается, что существуют плохие слова, которые не надо говорить! Оказывается, есть что-то плохое. Плохое – само по себе живущее, непонятное!
Вторая встреча со злом оставила гораздо более глубокий след в душе. Мне подарили утенка. Не совсем кроху, но еще желтенького, пушистого. Мы чудесно играли с ним в саду, в том, где не было фруктов, зато была высокая трава. Я неслась изо всех сил, падала в траву и, притаившись, лежала. Утенок бежал по траве – она была для него, как высокий густой лес, – и всегда находил меня, подбегал на коротких лапках, издавая уморительные звуки. В доме жила большая серая хищная кошка. Она загрызла утенка. Это было далеко не единственное ее преступление, и кошку приговорили к смерти. А я ухитрилась выбежать во двор именно в то мгновение, когда один из приезжих, схватив кошку за задние лапы, размозжил ей голову о колесо телеги.
Тогда же произошел случай, казалось бы, касавшийся меня гораздо больше. Маме удалось где-то добыть индюшек, и по двору разгуливал очень важный индюк в сопровождении своих скромных спутниц и сереньких индюшат. Мальчишки, все те же, подучили меня дразнить индюка. Надо было кричать: «Индя, индя, красны сопли!». Я тут же решила попробовать, и результат не заставил себя ждать: индюк взъерошил перья, распустил хвост, раздулся, став величиной чуть ли не с меня. Красные части на голове и под клювом его напряглись и налились кровью. Он взлетел мне на голову и начал клевать в темя, сильно и больно. На мой оглушительный вопль прибежал папа, индюка скинули с моей глупой головы. Конечно, я никогда больше не дразнила индюков, но никакой царапины это вот приключение на душе не оставило. Совсем не так, как история с утенком и кошкой.
К тому времени я уже молилась на ночь, лежа в постельке, потихоньку от родителей. Никто не запретил бы мне молиться, и я не знаю, почему молитва эта была тайной. Вероятно, какое-то совсем иррациональное ощущение тишины и святости, не имевшее для ребенка объяснения, заставляло меня так поступать. Думаю, что я молилась за папу, за маму, но этого не помню, зато хорошо помню, что за моего погибшего утенка и за казненную кошку молилась несколько лет.
Это детское по времени переживание, мне кажется, соединилось с тем отчаянием из-за «разбойничка» из няниной песни, над которым я так рыдала совсем маленькой. Так складывалась одна из черт характера – странная способность к сопереживанию, к отождествлению себя с тем, кому плохо, и настойчивое стремление изменить несчастную судьбу, исправить ее. Позже я не дочитывала книг с плохим концом, иногда зачеркивала такие концовки в книгах или изменяла на хорошие.
Глава 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Мы вернулись в Москву к зиме 1920/21 года, то есть в Москву эпохи военного коммунизма. Но прежде чем писать об этом, я расскажу, что знаю о своих корнях. Знаю я немного – новая власть учила скрывать, не помнить, молчать о предках. Мой папа – Александр Петрович Бружес – был наполовину датчанин, наполовину литовец. Линия его матери шла от остзейских баронов фон Дитмаров и была, видимо, обедневшей ветвью этого рода. Бабушка, папина мать, Елена Александровна, совсем юной вышла замуж за сына жемайтийского мельника. Жемайтия – это та часть Литвы, которая была крещена лишь в XVII веке, но еще и в начале XX века там пылали ритуальные костры вайделоток, языческих жриц огня. Кем был человек, за которого вышла моя бабушка, тогда шестнадцатилетняя красавица? Все эти вещи при советской власти рассказывать было не принято. Насколько я могла судить, брак оказался неудачным, сын литовского мельника, выдававший себя за сына помещика, был унтер-офицером. Бабушка ушла от него. Он умер, когда папе было три года. Бабушка вновь вышла замуж за ростовского бумажного фабриканта Степана Ивановича Панченко, стала очень богата, путешествовала по всему свету, побывала даже в Австралии. Эту красивую русскую даму знали в Париже. Революция застала их за границей. Папин отчим, потеряв все свое состояние, умер от горя. Бабушка не стала впадать в отчаяние, пошла в гувернантки, воспитывала чужих детей и так вот прожила жизнь. А мой папа всегда оставался в России.
Когда мне было десять лет, бабушка отыскалась в Чехословакии. Позднее она не писала, знала: сюда писать нельзя. Связь с ней возобновилась уже после войны, и в 1962 году папа успел съездить в Чехословакию, повидаться с ней, а я не успела: бабушка умерла. Умерла она 94 лет с совершенно ясной головой.
Мама моя русская, Юлия Гавриловна Никитина. Семья ее происходила из Новгорода, но судьбе, наверное, показалось мало для меня этой смеси, и она прибавила маме еще и цыганской крови. История эта очень бесхитростная. Мамины прадед и прабабушка жили под Петербургом в Колпине. Он был богатым подрядчиком, и не хватало им, как в сказке, только детей. Как-то мамина прабабушка нарядная, в прекрасной шали, сидела на скамейке у ворот и болтала с приятельницами. Мимо шли цыганки, одна из них – с ребенком на руках. Конечно, они окружили скамейку, началась обычная история с золочением ручки и гаданием. Вдруг та цыганка, что была с ребенком, говорит моей прапрабабушке:
– Слушай, дай мне твою шаль.
– Отдай ребенка – получишь шаль.
– Да на!
Больше та цыганка никогда не появлялась. Отдала ребенка, взяла красивую шаль и пошла дальше.
Я как-то в шутку сказала своим подругам, что во мне нет ни единой капли рабской крови: в Литве не было крепостного права, в Дании тоже, и потом датские мои предки были баронами; цыгане уж, конечно, жили без крепостного права; и русская кровь у меня новгородская – вольная. Этим, может быть, объясняется многое в моем характере.
Эта цыганочка, выменянная за шаль, моя прабабушка. Она была красива, богата, хорошо выдана замуж, и единственное, что мы с братом о ней знали, это ее страсть к посуде. Как-то я пожаловалась ему на глупую привычку постоянно покупать ненужные чашки и кружки, а брат, засмеявшись, сказал:
– Разве ты забыла мамины рассказы о нашей прабабке-цыганке, которая с ума сходила по посуде, только покупала она не чашки и кружки, а сервизы.
Маминых родителей я видала, но не помню. Они жили в Петербурге, а мои отец и мать переехали в Москву. Отец – типичный интеллигентный атеист начала века. Многие ученые тогда были такими. Я за всю свою жизнь не встретила человека более христианского поведения и большего благородства, чем этот неверующий физиолог. Папа был очень музыкален, он учился у Римского-Корсакова и долго колебался между наукой и музыкой, но выбрал науку. У мамы был от природы поставленный прекрасный голос – драматическое сопрано очень красивого тембра и большого диапазона. Поэтому музыка в нашей семье была всегда, как если бы мы жили на берегу большой прекрасной реки, все время слыша ее течение. Папа закончил в Питере биологический факультет Петербургского университета и поступил в Военно-медицинскую академию. А потом произошло вот что: студентов академии обязали носить форму и отдавать честь высшим чинам. Группа питерских студентов, по-видимому, прирожденных демократов, демонстративно перешла на медицинский факультет Московского университета, в их числе и мой папа. Я как тогда, так и сейчас не понимаю, что оскорбительного в обязанности отдавать честь высшему офицерству, но из-за этого я и мои братья родились в Москве, которую я очень люблю, даже и такую изуродованную, как сейчас. А мама так и не смирилась с переездом в Москву. Ее мечта стать певицей не осуществилась. В Петербурге она начала понемногу выступать, в Москве же ее никто не знал, да тут еще я родилась, уж не говоря о революции… В нашей совсем не религиозной семье вкусно и красиво праздновали Рождество и Пасху. И меня, а позже брата Юру, конечно, крестили. Мама была живой, веселой, темпераментной, очень доброй, вспыльчивой, никогда никому не сделавшей ни капли зла, но нелегкой в жизни.
Итак, мы вернулись из Орловской губернии в голодную, заснеженную послереволюционную Москву. Советская власть уже начала показывать свою страшную личину: уже гибли священники, дворяне, офицеры; начался разгром Церкви – так называемое изъятие священных предметов из храмов. Уже появились коммунальные квартиры – дьявольское изобретение большевиков, не менее страшное, чем концлагеря. Последние тоже уже были – 5 сентября 1918 года Ленин подписал указ об их учреждении. Но я, шестилетняя, ничего этого не знала. Сейчас странно даже подумать, что такой ребенок спокойно ходил один по городу. Мы поселились на Плющихе, а детский сад, в который меня отдали, находился на Девичьем поле, и я каждый день ходила туда одна. Да и гулять по городу меня спокойно отпускали, и я много бродила по той Москве.
Одна я ходила и на Спиридоновку, где жила семья тети – маминой сестры. История этой семьи – тоже штрих того времени, военного коммунизма. Мой дядя, Кениг Евгений Леонидович, был очень крупным и знающим мелиоратором. Он женился на одной из маминых сестер, а когда она умерла от тифа, женился на второй сестре. Первой, умершей, тети Оли я не помню, а она была моей крестной матерью. Мой крестный отец, папин двоюродный брат Евгений, пропал без вести в первую мировую войну. Это тоже рука судьбы, что я осталась в жизни без крестных, Ольги и Евгения. На Спиридоновке, когда я приходила туда, жили уже вторая сестра, тетя Аля, дядя Женя и их дети – Галя и Леонид. А попала эта семья в Москву так: петербуржцы, как и мои родители, они пытались в гражданскую войну эмигрировать и добрались до Крыма, чтобы бежать с Врангелем. Но не успели – в Крым вошли красные. Дядю арестовали и несколько раз выводили на расстрел, но потом вдруг пришла телеграмма от Ленина, который распорядился поименно привезти в Москву нужных новой власти специалистов, а остальных пленных расстрелять. Так вместо эмиграции и казни семья Кенигов очутилась в Москве.
В переулках Москвы стояли огромные чаны, в которых варился асфальт. Видимо, целый день под котлами горели костры. Вечером же и ночью никто не работал. И вот под чанами ночевали беспризорники, в основном брошенные дети. Их было много. Я ясно помню их лица, совершенно черные от сажи. Потом эту проблему решили, во всяком случае так считалось. Была книга А. Макаренко об одной из колоний, кинокартина «Путевка в жизнь». Сколько в этом правды – не знаю. И, собственно говоря, куда дели этих детей – никто не знает. Мне кажется, что это тоже одно из темных деяний советской власти.
Мои бесконечные хождения по городу продолжались несколько лет, и я не могу различить по годам облик той Москвы. Но облик этот был прекрасен и больше всего запомнился зимним, наверное, потому что летом мы всегда уезжали в какую-нибудь деревню. Я бродила по Москве бессознательно, подчиняясь какой-то неясной потребности, Даниил же, которому в то время было лет 14–15, тоже странствовал по Москве, но совсем не так, как я – вроде киплинговской кошки, а нащупывая в этих скитаниях черты своего будущего Пути и своей будущей личности.
Это различие не было связано только с разницей в возрасте. Это и разница масштабов личности, различное строение мужской и женской, даже в шесть лет, души и предуготованность к разной работе души в этой жизни.
И жили-то мы тогда недалеко друг от друга: я на Плющихе, Даниил – в Малом Левшинском. Потом мы переехали на Петровку, и этот многолюдный «морской порт» стал моим пристанищем надолго. На углу Петровки и Рахмановского стоит и сейчас большой дом с серыми колоннами. Тогда это был ЦИТ – Центральный институт труда. Папа там работал сколько-то лет. Он был одним из основоположников физиологии труда, а директором института был поэт Алексей Гастев. Его потом расстреляли, а сына, моего ровесника, посадили. Через много лет мы с ним вспоминали наш двор, по которому бегали – тогда Ляля Бружес и Ляська Гастев. Во дворе был дом, принадлежавший институту, и мы занимали три комнаты в коммунальной квартире в бельэтаже. Эта роскошь – три комнаты, две смежных и маленькая за кухней, бывшая комната для прислуги – оказалась нашей вследствие трагедии. Издевательское «уплотнение», лишавшее людей умственного и творческого труда, всякой возможности таким трудом заниматься, привело к самоубийству очень известного скрипача Крейна (я могу путать фамилию, но факт не путаю). Это самоубийство и оставленная скрипачом записка, объяснявшая причины ухода из жизни, послужили поводом для образования ЦЕКУБУ – Центральной комиссии по улучшению быта ученых. Среди прочего комиссия разработала льготы – 20 квадратных метров дополнительной площади для ученых и артистов. Поэтому папа и получил эти комнаты.
В 1922 году родился мой брат, и он с няней жил в комнатке за кухней. Кроме нас в квартире было еще две семьи, и мама нахлебалась коммуналки во всей полноте.
Мы вернулись в Москву зимой, и такой она больше всего мне запомнилась. Зимняя Москва вся белая. Мостовые и тротуары в снегу, по сторонам улиц – большие сугробы. Всем хватает места, никто не толпится. Конечно, нет ни одной машины, зато есть извозчики, слышно цоканье копыт, и на улицах стоят невысокие фонари. Даниил застал еще голубоватый свет газовых фонарей и конки. А я уже только трамваи.
Все дома в Москве тогда отапливались печами, и на каждом была не одна труба. Очень часто шел снег. Он падал белыми крупными хлопьями, и над всеми домами из труб валил дым. Мы, дети, всегда смотрели на этот дым, потому что, если все столбы поднимаются из труб прямо к небу, – это к морозу. Тогда мы ждали, когда верхний кончик дымового столба «сломается», пойдет книзу, – значит, мороз «сломался».
Этот образ города моего детства спит в душе, как огромная тихая радость.
Глава 5. ДОБРЫЙ ДОМ
Семья Добровых, как я уже говорила, жила в Малом Левшинском переулке, на Пречистенке. До 60-х годов там стоял двухэтажный, ничем не примечательный домик. Он был очень стар и пережил, как говорили, еще пожар Москвы при Наполеоне. Такие дома в Москве называли «донаполеоновскими». На месте этого снесенного в 60-х годах дома так ничего и не построили.
Квартира, в которой жили Добровы, занимала весь первый этаж дома, а кухня и всякие подсобные помещения были в подвале, куда шла узкая и крутая лестница. Входная дверь в квартиру вела прямо из переулка, большая, высокая, с медной табличкой «Доктор Филипп Александрович Добров». Кстати, на двери коммунальной квартиры, где мы жили, висела табличка «Доктор Александр Петрович Бружес».
Войдя в дом, надо было подняться по небольшой лестнице с широкими деревянными ступенями, которая упиралась в огромное, во всю стену, очень красивое зеркало. Дальше большая белая застекленная дверь вела налево в переднюю. Направо из передней был вход в кабинет Филиппа Александровича, в котором позже жил его сын Саша и где Филипп Александрович раз в неделю принимал больных. Позднее, когда Саша женился и уехал жить к жене, это была комната Даниила, а еще позже наша с ним, любимая. В книге «Русские боги» она присутствует в названии одной из глав: «Из маленькой комнаты». Левая дверь из передней открывалась в зал. Я застала его уже по-советски разгороженным занавесками на клетушки, в которых ютилось все старшее поколение семьи: Филипп Александрович, Елизавета Михайловна и еще одна сестра Велигорская – Екатерина Михайловна, по мужу Митрофанова. Елизавета Михайловна по профессии была акушеркой, хотя к тому времени уже давно не работала, Екатерина Михайловна – медсестрой. Она добровольно пошла работать в психиатрическую клинику, так как считала, что душевнобольным помощь нужнее всего.
В детстве Даниила зал играл важную роль. Дом Добровых был патриархальным московским домом, а значит, хлебосольным и открытым для множества самых разных, порой несовместимых друг с другом людей. Он остался гостеприимным, открытым и после революции, хотя, конечно, уже не тем, что прежде. Приходили те, кто уцелел, не уехал в эмиграцию. После уплотнения передняя часть зала стала общей для семьи столовой, и там спал Даниил. С тех пор на всю жизнь у него сохранилась привычка спать, затыкая уши двумя руками.
Из передней шел длинный коридор, упиравшийся в так называемый совмещенный санузел, как их потом стали называть. В обыкновенном туалете была установлена ванна, и это послужило местом действия одной из «удачнейших» шалостей мальчишки Даниила. Самой дальней от ванной по коридору была комната Александры Филипповны – Шуры, старшей дочери Добровых. Шура Доброва была яркой, интересной, темпераментной и очень своеобразной женщиной. Она крайне заботилась о своей внешности, и частью ее ежедневного, точнее еженощного, ритуала было очень долгое принятие ванны, которую она занимала, когда все уже спали. Свет в коридоре зажигался на другом его конце, в передней. И вот однажды Шура, выйдя из ванной и потушив там свет, наткнулась на стул. Сначала на один, а потом совсем запуталась: весь коридор до самой ее комнаты был заставлен стульями, перевязанными веревкой. Свет, конечно, не горел, и из темноты доносилось еле сдерживаемое мальчишечье хихиканье, особенно в ответ на ее возмущенные и очень несдержанные вопли. Ну, конечно, утром взрослые сурово отчитали Даню за такое безобразие, но скрыть сочувственных улыбок не могли, а он с удовольствием рассказывал мне об этой своей проказе в 1945 году, то есть спустя 30 лет.
Эта история совсем не означает, что он не любил сестру. Он очень ее любил, Шура много значила в его жизни, но не озорничать Даня просто не мог, как я не могла не лазить с мальчишками по крышам и не плавать на обвалившейся двери в подвале нашего дома, заливаемом водой из Неглинки.
Отголоски прежнего быта я еще застала, как застала огромный стол в передней части разгороженного зала. По праздникам его раскладывали при помощи раздвижных досок, по-моему, метров до пяти в длину.
Соседней с залом комнатой в прежние времена была спальня Филиппа Александровича и Елизаветы Михайловны. Из-за двери, разделявшей эти две комнаты, точнее сквозь замочную скважину, маленький Даниил разглядывал Шаляпина и Бунина, Скрябина и актеров Художественного театра, Горького и многих еще гостей Добровых.
С Художественным театром семья была связана и через Леонида Андреева, и через дочь Добровых Шуру, которая была подругой Аллы Тарасовой и сама стремилась стать актрисой. Другом дома была актриса Художественного театра Надежда Сергеевна Бутова. Она сыграла несравненную по своей значимости роль в жизни Даниила. Ему было 15 лет, когда Надежда Сергеевна принялась за его религиозное воспитание, ввела его в ритм церковной жизни, помогла понять глубокий смысл православного богослужения.
Избалован Даня был невероятно. Потому что был младшим, любимым – ну и потому что сирота. Он иногда слышал за спиной шепот: «Бедный мальчик, сиротка!». Это сердило его и раздражало, ведь на самом деле он был очень счастлив. Даниил не только любил Добровых – их любили все, – не только воспринимал эту семью как родную, но и не раз повторял: «Как хорошо, что я рос у Добровых, а не у отца».
Меня часто спрашивают о связи отца и сына. Связи реальной было очень мало. Леонид Николаевич года через два после смерти Александры Михайловны женился. У него была другая семья. И Анна Ильинична, его вторая жена, для Вадима, старшего брата Даниила, стала мачехой. А у Даниила, к счастью, мачехи не было.
Маленьким мальчиком его иногда привозили к отцу. Даниил помнил, как они за ручку с отцом шли по Петербургу, вдруг остановились и отец заговорил с каким-то высоким человеком. Даниил сначала стоял смирно, потом начал скучать. Наконец взрослые распрощались, и, отойдя немного, Леонид Николаевич сказал:
– Это был Александр Блок.
– Как? Он не умер? – удивился Даня.
– Да почему умер? Он жив.
Даниил ответил:
– Я думал, что все великие поэты умерли.
После одного случая Даню перестали привозить в дом отца, а если привозили на Черную речку – «на дачу», то снимали отдельный дом. Дело в том, что однажды зимой Анна Ильинична приказала няньке пустить трехлетнего Даниила на саночках с горки. А под горой была прорубь. Историю эту я слышала от Елизаветы Михайловны Добровой и от самой няни Дуни, которая Даниила спасла. Ей тогда было шестнадцать лет. Она говорила, что не хотела пускать санки, но «барыня приказали». Тогда няня отпустила их, но бежала рядом с санками. Она была совсем молоденькой девушкой и примчалась вовремя. Ребенок уже упал в прорубь, но она выхватила его из воды. Сам Даниил об этом помнил смутно: мокрую варежку на берегу и разгневанную бабушку.
Нельзя сказать, что Даниил не любил отца, но настоящим отцом был для него муж тетки, Филипп Александрович Добров, а родной отец – далеким дядей. Отношение Даниила к отцу изменилось после тюрьмы. Он глубже понял его душевный облик. Очень любил рассказ «Иуда Искариот», который считал лучшей вещью Леонида Николаевича. И еще я помню, как он читал мне вслух «Рассказ о семи повешенных». Закончив, он сказал: «Слушай, что за безобразие: апология терроризма! Полное сочувствие семи повешенным, но никакого понимания, что это же убийцы, что они-то убили!». Его страшно возмутила такая постановка проблемы, кстати, характерная для интеллигенции того времени.
И все же между отцом и сыном существовала связь генетическая, более глубокая. Леонид Николаевич, несомненно, обладал способностью слышать иной мир. Двум своим сыновьям от первого брака, Вадиму и Даниилу, он очень интересно передал свое дарование: Вадиму – большой талант писателя-реалиста, Даниилу – эту способность слышания иного мира. Но у Даниила она была уже иной, откристаллизовавшейся и сознательной. И если Леонид Николаевич воспринимал темные миры, то Даниил слышал и светлые, и темные. Я думаю, что это различие связано с неопределенной религиозностью Леонида Андреева и совершенно определенным православием Даниила.
Детскую Даниила я уже не застала, только из его рассказов знаю, что по всей комнате на уровне детского роста были развешаны нарисованные им портреты правителей выдуманных династий – отголосок поразившего детскую душу впечатления от кремлевской галереи царей. На потолке этой галереи были выложены мозаикой замечательные портреты великих князей и царей московских.
В школе Даню называли королем игр. Он в любую игру вкладывал все воображение, способность к полной самоотдаче. Вот еще одна чудесная шалость. Даниил учился в частной гимназии сестер Репман, потом ставшей советской школой. Она находилась в Мерзляковском переулке. Как-то ребята страстно заспорили о том, сколько груза поднимут воздушные шарики, и решили это проверить. Сложив деньги, выданные родителями на завтраки, они купили связку воздушных шаров и привязали к ним маленькую дворовую собачку. Спор-то шел всего-навсего о том, приподнимут шары песика или нет. Каково же было изумление ребят, их восторг и страх за бедное животное, когда шарики подняли собаку на высоту второго этажа и она с громким лаем понеслась вдоль переулка, задевая по дороге окна.
Не так ли и не тем же ли переулком летела на метле Маргарита, разбивая окно негодяя Латунского? Кстати, одно время Михаил Афанасьевич Булгаков жил в Малом Левшинском напротив добровского дома. Но знакомы они не были.
В крови Даниила не было такой смеси, как у меня. В его жилах текла русская, польская и украинская кровь. Бабушка, Евфросинья Варфоломеевна Шевченко, была дочкой Варфоломея – троюродного брата, свояка и побратима Тараса Шевченко, который очень любил племянницу и звал ее по-украински Прысей (это по-русски Фрося). А Велигорские – боковая ветвь графов Виельгорских, потерявшая титул и состояние за участие в польском восстании. По отцу Даниил был правнуком орловского дворянина и крепостной, внуком польской дворянки из обедневшей семьи.
Доктор Добров – врач потомственный. Его отец был врачом в Тамбове, где его звали не «Добров», а «доктор Добрый». Хоронил его весь Тамбов. У Филиппа Александровича были брат юрист и сестра органистка.
В семье был еще один брат, странный человек, все время уходивший из дома бродяжничать «на дно», на Хитровку. Каждый раз, возвращаясь, он бывал принят Добровыми с величайшей любовью и терпением, но опять уходил и в конце концов там сгинул.
В семье Добровых старшему сыну полагалось наследовать профессию врача, поэтому Филипп Александрович и стал врачом, хотя страстно любил историю и музыку, которую хорошо знал, прекрасно играл на рояле. У очень музыкальных людей бывает особое глубокое и чуть отстраненное выражение глаз, а на лицах их лежит как бы тень легкого светлого крыла. Таким было лицо доктора Доброва. Елизавету Михайловну, которую Даниил называл мамой, и другую его тетю – Екатерину Михайловну я застала уже старыми, очень добрыми женщинами. Такими и хочу их оставить с благодарностью на этих страницах.








