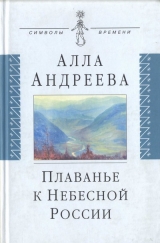
Текст книги "Плаванье к Небесной России"
Автор книги: Алла Андреева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Глава 25. ДВЕНАДЦАТЬ ВЕРСТ СВОБОДЫ
Лагеря кончались. Но прежде чем рассказать о последних месяцах лагерной жизни, хочу вспомнить сначала одну историю, прямо-таки детективную, которая началась много раньше. 1-й лагпункт располагался глубоко в лесу километрах в трех от «кукушки», железнодорожной веточки, отходящей от дороги Москва – Караганда. «Кукушку» эту называли «треплушкой», потому что никто не знал, когда придет поезд. По этой самой «треплушке» на фабрику подвозили материал. Оставшиеся три километра его везли на лошадях.
Девочки-возчицы, работавшие за зоной, доставляли к поезду продукцию. В стороне от основной дороги несколько раз они натыкались глубоко в лесу на странную картину: видели издалека на дороге мужчин в полосатых каторжных куртках. Видели они их только издали, потому что каторжников мгновенно куда-то убирали. Разумеется, приехав в зону, девочки об этом рассказывали, конечно, шепотом, только самым близким. Эта информация оседала у нас в мастерской, в библиотеке, куда все приходили.
Потом пропал тот самый начальник КВЧ, который приносил нам голубя и собачку. Через несколько дней выяснилось, что, увлекшись охотой, он куда-то не туда забрел в лесу. Оказывается, в нашем глухом лесу было такое место, куда забредать не полагалось никому. Вернулся начальник похудевший и молчаливый. Мы, конечно, потихоньку все же разузнали, что его удалось откуда-то вызволить. Откуда «откуда-то»? Стало еще интересней. Постепенно мы разведали, что где-то в лесу есть место под названием Курган. Дальше происходило разное. Вот по нашей «кукушке» привозят материалы для фабрики, большие рулоны ткани защитного цвета. За ними едут девушки. На той же «кукушке» прибывает что-то непонятное в сопровождении солдат-конвоиров, которые не говорят ни слова по-русски и по виду из Средней Азии. Затем выяснилось, что в лесу, где видали каторжных заключенных, никаких строений нет: ни бараков, ни заборов. И просочились сведения, что там все находится под землей.
А потом наша милая начальница КВЧ Тамара, о которой я уже упоминала, рассказала свою историю. Она любила одного офицера. Был он совершенно одинок, и его отправили на этот самый Курган. Тамара не могла даже позвонить ему, телефонистка не соединила бы, а кроме того, это грозило не просто неприятностями, а даже сроком для него. Он не мог оттуда прийти к ней, хотя это было совсем рядом с нашим лагпунктом. Они не могли встречаться. Зимой Тамара иногда уходила на лыжах в лес в том направлении. Он тоже в свои выходные имел право кататься на лыжах и шел ей навстречу. Так изредка им удавалось увидеться. Обо всем этом нам по-женски рассказала Тамара.
Был на нашей фабрике инженер, вольный, тоже очень трагично туда попавший. Он хорошо к нам относился, женился потом на одной из заключенных, у них родился сынишка. Судьба его складывалась сложно: он откуда-то сбежал, переменил имя и спрятался в этой системе от нее же самой. Кое-что он нам рассказывал.
И вот так по капле, по кусочку за несколько лет мы составили следующую картину. В глухом лесу недалеко от 1-го лагпункта под землей находился очень большой, как тогда выражались, «объект». Видимо, это было подземное производство, лагерь, где люди жили и работали под землей. Туда собирались такие же одинокие охранники и переводчики, а раз нужны переводчики, значит, работали не только русские. Охраняли их не знающие русского языка конвоиры. Все эти люди были обречены на то, что никогда уже оттуда не выйдут, никогда никого не увидят. Позже стало ясно, что там делали: водородную бомбу, сахаровскую. Потому что Арзамас-16, где жил Сахаров, был неподалеку. Работали на Кургане, наверное, и ученые, серьезные специалисты, тоже одинокие, которых никто не станет разыскивать. Возможно, Сахаров туда приезжал наблюдать за тем, как идет работа.
Однажды на Курган чуть не попала моя подруга Вера Петровна, та, которую дразнили березками. Она была тоже одинока, не получала ни писем, ни посылок, а так как вернулась из Германии, было известно, что знает немецкий язык. Более того, она знала его с детства, потому что была полулатышка-полунемка из-под Петербурга. Однажды Веру вызвали к лагерному начальству. Сидели там еще какие-то незнакомые ей начальники. Ее стали расспрашивать о жизни, о родных, о том, хорошо ли она знает немецкий. Вера отвечала, что немножко знала, а теперь совсем забыла. Когда она мне об этом рассказала, я со своим вечным стремлением что-нибудь новое увидеть, узнать воскликнула:
– Да почему ж ты не сказала? Может, там что-нибудь интересное? Но Вера была умнее меня и четко почувствовала опасность. Она ответила:
– Нет, если нужен совершенно одинокий человек, знающий язык, ничего хорошего не жди.
И была права. На Курган, видимо, попала одна женщина с нашего лагпункта, Оля Мартиновайте, литовка. Она была полностью расшифровавшая себя стукачка. Все знали, что она стучит, и хотя, как правило, драк и жестокости у нас не было, однажды ее избили, надев на голову ведро. Ведро надевалось, чтоб не видно было, кто бьет, и не могли потом донести. Была она одинокой, тоже не получала ни писем, ни посылок и знала несколько языков. Вот эта женщина и пропала. Мы обычно узнавали, кто куда уехал. Сведения попадали из Центральной больницы, где могли встретиться заключенные из разных лагпунктов. А эта литовка исчезла бесследно. По-видимому, попала на Курган.
Много лет спустя я приехала в Дивеево на Первые Серафимовские чтения. И четверых из нас пригласили в Арзамас-16 (правильно Саров) – закрытый город. В автобусе по дороге я спросила своих новых знакомых:
– Скажите, где я была? Я же была где-то рядом. Мне ответили:
– Тут, тут, Алла Александровна. Лесочек видите? Вот прямо за ним и начинаются ваши лагеря.
При въезде в Арзамас мы проходили через такую вахту, какую я прежде видела только в тюрьме. А потом был чудный город, выступления, хорошая, теплая обстановка. Вечером мы у кого-то пили чай, и я рассказала хозяевам все, о чем сейчас пишу. Они внимательно слушали, расспрашивали и в конце концов сказали:
– Да, это наша точка.
Мне показали потом в Арзамасе-16 коттедж Сахарова, «отца водородной бомбы», где он лет семнадцать жил и работал. А воплощались в жизнь его идеи в нескольких километрах оттуда, под землей. Говорят, условия у этих людей были очень хорошие, но все они были обречены никогда уже не увидеть солнечного света.
Когда заключение наше уже подходило к концу и нам разрешили выходить за зону, я, конечно, отправилась в ту сторону. Удержаться было невозможно. Я долго шла по лесной дороге, а потом вдруг услышала крик петуха. И так было странно слышать в лесу петуха, что я остановилась. У меня появилось чувство, что петух меня предупреждает: «Не валяй дурака!» И повернула назад.
Шел 1956 год. Была образована Комиссия по пересмотру дел политзаключенных, которая сначала работала в Москве. Потом подобные комиссии приезжали во все лагеря и тюрьмы. Работала такая и у нас, пересматривала дела. И тут очень важно сказать вот о чем. На 1-м лагпункте, где я тогда была, находилось около двух тысяч женщин – политических заключенных, «страшных врагов» советской власти. Когда все пересмотры закончились, там осталось одиннадцать человек. Можно поспорить и о виновности этих одиннадцати. Но достаточно и этого: из двух тысяч – одиннадцать. Остальные поехали домой, то есть было признано, что осуждены они неправильно.
А тут вышло постановление: выпускать на волю с заполненной трудовой книжкой с печатью и характеристикой. У меня там от начала до конца одно написано: художник. А многие девочки, работавшие на фабрике, приобрели профессию именно в лагере: швея-мотористка, электрик и так далее. У нас к тому времени был уже другой начальник КВЧ – Огарков, очень хороший человек, от которого мы никогда не видели зла. Писать характеристики полагалось ему. Но он мог выдать от силы две в день, а на волю люди шли потоком. Что делать? Он пришел ко мне:
– Андреева, ты можешь писать характеристики?
– Могу.
– Знаешь что: пиши, а я буду подписывать.
Какие я писала характеристики! У меня все девочки блестяще работали на фабрике, все проявили чудеса дисциплинированности и трудолюбия. Это помогало на воле устроиться, потому что тех, кто ехал из тюрьмы с хорошей трудовой книжкой и прекрасной характеристикой, обязаны были принимать на работу. Я написала шестьсот характеристик, и все начальник КВЧ подписал не читая.
Освободившиеся ехали к разбитым семьям, к старым больным родителям, к детям, которые Бог знает где провели эти годы. Первое время они еще писали нам, сообщая, как там, на воле. И все благодарили меня. Писали: «Передайте Аллочке – помогло!» И как мне сейчас странно, что латышки, эстонки, литовки, которые ведь не только от меня добро видели, но и от очень многих русских, с ними сидевших, все это забыли.
Потом произошло следующее. Нас оставалось уже очень мало и мы были выселены в опустевшую казарму, находившуюся за зоной, а на наше место привезли уголовниц. Это тоже был спектакль. Этап политических заключенных женщин обычно выглядел так: впереди два надзирателя с собакой, сзади тоже два надзирателя с собакой, а между ними человек триста заключенных. Этапы с уголовницами были другими: впереди два надзирателя с собакой, сзади два надзирателя с собакой, а между ними две-три заключенные. Вот так наш лагпункт стал лагерем уголовниц.
Уходя из зоны, я оставила тем, кто приезжал на наше место, самое дорогое: кисточки, краски, развернула на пианино в столовой ноты мазурок Шопена. Только человек, выросший с музыкой, может понять, чем были для нас эти мазурки, присланные моим папой, и с каким чувством я оставляла их тем, кого должны были привезти на наше место.
Я была глупа. Уголовницы обгадили весь лагерь в буквальном смысле: они добрались до наших костюмов, аккуратно сложенных, спрятанных в кладовой, разделись догола, обвязались поясами, надели на головы картонные шляпы от литовских танцев и в таком виде разгуливали по зоне.
1-й лагпункт находился чуть ниже у реки, а там, где мы поселились в казармах, было всхолмие. И вот оттуда мы видели, что творилось в зоне. Сколько души вложили мы в те костюмы! Это зрелище было совершенно невыносимым. Я с криком «Они растреплют наши костюмы!» помчалась к начальству, мне дали лошадь с подводой и в помощницы девушку-возчицу. Начальники знали меня несколько лет, видели наши спектакли, и это, наверное, подействовало.
Мы погрузили все костюмы на подводу, вывезли, и только потом я догадалась, что, по-видимому, наше спокойствие загипнотизировало уголовниц. Они могли сделать с нами что угодно: разорвать в клочья костюмы, избить и изнасиловать. Что такое две женщины для целой зоны уголовниц? Но мы совсем об этом не думали. Если бы мы испугались тогда хотя бы на минуту, все могло бы кончиться плохо.
Остается рассказать еще об одном. Когда мы въехали в зону за костюмами, она была полна пар. Это были так называемые «коблы» и «ковырялки» – как теперь принято выражаться, представительницы сексуальных меньшинств. Они носили определенную форму. «Ковырялки» были с челочками и бантиками по обеим сторонам головок. А «коблы» ходили в рубахах с поясом, в брюках, которые заправлялись в сапоги, и говорили хотя и не мужским голосом, но и не вполне женским. Стриглись они по-мужски. Это были супружеские пары. Хотелось бы, чтобы те, кто сейчас столь высокомерно называет себя сексуальными меньшинствами, взглянули на этот свой примитивный вариант.
В наших лагерях тоже, конечно, присутствовала однополая любовь, но редко и очень трагично. Одну такую историю, может, стоит и рассказать. Была у нас литовка Стефка, прекрасный товарищ, веселая, кудрявая, похожая на юного Блока. Ее арестовали, когда ей, к сожалению, только-только исполнилось шестнадцать. Поэтому она не попала под «указ о малолетках» и освободилась, по-моему, уже по концу срока. А история ее такова. Когда Каунас захватили немцы, эта веселая девчонка была против оккупации и помогала евреям. Помогала следующим образом: садилась на велосипед, увешанный пакетиками с едой, и ехала туда, где евреев вели на работу. Вели их, как и нас, – надзиратели в начале, надзиратели в конце, а посередине – колонна евреев. Стефка на своем велосипеде с воплями «Бей жидов! Дави жидов!» врывалась в колонну и выезжала из нее, когда с велосипеда уже успевали снять все пакетики с едой, а вслед ей несся шепот благословения и благодарности. Когда Каунас оккупировали советские войска, Стефка тоже, конечно, не сдавалась, но была уже за независимую Литву. Ее арестовали, добили до припадков эпилепсии, выбили все передние зубы, а потом отправили на Север, в Инту. Там она оказалась в женском бараке на верхних нарах рядом с очень молоденькой украиночкой. Это были годы, когда мужчины жили еще практически в той же зоне и по ночам приходили к женщинам, где на нижних нарах все и происходило с полной простотой и цинизмом. А девочки наверху замирали от омерзения и страха. Передаю рассказ Стефки, которую я спросила:
– Слушай, ну как же это началось-то?
Она ответила:
– А я не знаю как. Мы с Марийкой вцепились друг в друга, и так нам было противно все, что делалось внизу. И не было у нас никого, кроме друг дружки, вот так все и началось.
Потом их с северным этапом привезли к нам, еще на 6-й лагпункт. Украинки кольцом окружили ту молоденькую украиночку Марийку, они ее из этого извращения вырвали. Ну а Стефка была нарасхват у женщин намного старше нее, стосковавшихся хоть по какой-то ласке, очень тяжело переносивших отсутствие мужчин. Так вот она во все это и попала.
Много лет спустя, на ее сорокалетие, я прилетела в Каунас. До этого мы тоже приезжали туда с Женей Белоусовым. Стефка была такая же милая, веселая, жила с какой-то подругой. Помню, попробовала еще раз поговорить с ней на эту тему. Сказала:
– Что ты дурака валяешь? Ну ладно, лагерь лагерем, там никого не было. Ты посмотри, кругом столько парней литовских, почему тебе, в конце концов, не попробовать, может тебе понравится? Что ты ерундой занимаешься?
Она хохотала и отвечала:
– Аллочка, вы ничего не понимаете. Мужчины годны только на то, чтобы играть с ними в настольный теннис и пить водку. Больше они ни на что не годятся.
Так я потерпела полное поражение в попытке перевоспитать Стефку.
Итак, костюмы мы из лагеря вывезли. Мне дали в офицерском общежитии узенький чуланчик. Возчица помогла перетащить костюмы, и я аккуратно их складывала. Господи! Как же я плакала над этими костюмами! Никого рядом не было. Был день. Я в голос рыдала над каждой картонной шляпой, над каждой юбкой, над каждым литовским кикликом. А гуцульские костюмы! Когда же мне в руки попался белый плащ Ивана и деревянный меч, я совершенно захлебнулась от рыданий. Так я все там уложила, закрыла на замок и больше никогда не старалась узнать, что с этими костюмами произошло. Этот этап моей жизни закончился, и дверь за ним закрылась. Довольно было того, что нашу кошку в зоне (что может быть лучше кошки в доме?) убили.
Нас оставалось все меньше. В итоге в количестве, кажется, семнадцати человек нас отправили на 17-й сельскохозяйственный лагпункт, где заключенными были бытовики, в основном растратчицы, нарушившие что-то бухгалтеры. Везли нас туда на грузовике, и дорога в двенадцать километров заняла часа два – вот что такое мордовские дороги. С собой мы везли кошечку, дочку той, которую убили уголовницы. Звали ее Масочка, потому что она была черненькая, а мордочка ниже глаз беленькая, как полумаска – последнее существо оттуда, из зоны. Уже зная про все ужасы, Масочку мы повезли с собой. И вот эта молоденькая кошечка в конце двухчасовой дороги оказалась в глубоком обмороке. Она лежала на боку, хвостик свисал, глазки были закрыты, животик судорожно вздымался. Мы были все в синяках, но сознание не теряли, хотя растрясло нас хорошо. На 17-м лагпункте нас встретили те немногие из наших, которых привезли туда раньше. Конечно, первой мы передали с рук на руки кошечку. Она оправилась, выжила, потом там и осталась.
Из нас сформировали отдельную бригаду. Дело в том, что растерянность лагерных начальников не поддавалась описанию. Они привыкли властвовать над тысячами, десятками тысяч, миллионами заключенных. Таких, например, слов, как «права человека», тогда не слышали не только в лагерях. Я думаю, их воспринял бы с искренним изумлением любой человек в Советском Союзе. Это было абсолютно непонятное словосочетание. Никаких прав у человека не было и быть не могло. Это тоже достижение советской власти. И вот вдруг наши «граждане начальники» видят полное крушение того, что привыкли воспринимать как нечто совершенно незыблемое. Они считали, что всю жизнь будут «гражданами начальниками», имеющими в своем распоряжении крепостных, абсолютно бесправных людей, которых можно использовать как угодно. И вдруг этому приходит конец. Начальники были растеряны совершенно, а мы, по-моему, просто не в себе. Потому что надо представить себе, что значило года за два расстаться с двумя тысячами заключенных, а за каких-то два месяца проводить шестьсот подруг, каждую поцеловав и обняв. В голове у нас было одно: «А когда я поеду домой?..»
Из нас сделали отдельную сельскохозяйственную бригаду, и меня назначили бригадиром. Дали в руки тяпки и уводили подальше от остальных, чтоб мы не могли ни с кем общаться. Жили мы тоже в отдельной комнате. Работали на участке, где надо полоть бурьян почти метровой высоты, внизу под ним, говорят, была посажена свекла. Надзиратель у нас, по-видимому, был. Участок располагался недалеко от реки Вад, но до нее мы никогда не доходили, значит, не разрешалось. Иначе я, увидев вольную негрязную реку, конечно, полезла бы в нее. Несколько дней мы честно пытались работать. Бурьян стоял выше пояса, а где-то внизу торчали чахлые листики свеклы. Сначала мы выдирали бурьян, оставляя свеклу, словом, что-то делали, выполняя норму, кажется на 24 %, что прежде было абсолютно недопустимо, означало карцер, лишение пайки, все что угодно. Но ведь приказать-то нам уже было нельзя. Вообще сделать с нами ничего не могли. Времена были другие. Кроме того, когда начальники подходили к нам, пытаясь уговорить работать, мы встречали их общим ревом и, рыдая, задавали один и тот же вопрос: «Гражданин начальник, когда я поеду домой? Гражданин начальник, когда со мной будет все решено?». Они видели, что нас даже наказывать бессмысленно, потому что мы действительно невменяемые. Что бы нам ни говорили – мы только в ответ рыдали и спрашивали: «Когда я поеду домой?»
Потом мы быстро сообразили, что делать: вырубали тяпками абсолютно все вместе со свеклой и говорили: «А тут ничего не росло». Просто оставляли после себя кучу бурьяна. Свекла была нам безразлична.
Так продолжалось какое-то время. Каждый день кто-то уходил на волю. И я вышла на волю необыкновенно буднично. Был вечер, наверное, 10 или 11 августа. Вошел надзиратель и сказал: «Андреева, собирайся с вещами, завтра идешь на волю».
Эту ночь я спала. Наутро собрала вещи, попрощалась с оставшимися подругами и поступила странно. Вещи оставила, а сама пошла пешком на 1-й лагпункт, где находились еще три-четыре пожилых женщины в вольной бухгалтерии, в том числе Екатерина Алексеевна Ефимова, которая когда-то в ранней юности училась в одном классе с Вадимом Андреевым. Их не увезли вместе с нами, потому что вольные бухгалтеры не могли без них справиться с работой. И вот я прошла через мордовский лес те самые двенадцать километров, разделявшие наши лагпункты.
Мордовские леса странные, совершенно дикие: огромные деревья, трава выше меня ростом. Надо сказать, что, когда нас переселили в казарму за зоной, мы могли гулять по лесу. Все равно убегать без документов никто не стал бы, когда работает Комиссия по пересмотру дел. И я не могла вдоволь нарадоваться хождению по земле. Странно, и прибалтийки, и украинские крестьянки, хотя и жили среди природы, но не бегали по лесу так безумно, как я. Они почему-то боялись ходить в одиночку. Правда, я давно заметила, что и в русской деревне женщины никогда не ходят за ягодами по одной. А я не могла набегаться, хотя были у меня и всякие приключения. Один раз я, по-видимому, наступила на хвост то ли ядовитой змеи, то ли ужа. Хвост был покрыт листьями, которые доходили мне до щиколотки. Думаю, что змея испугалась не меньше меня, а я – до истерики, потому что под ногами вдруг зашевелилось нечто огромное. А однажды я шла-шла, и вдруг земля стала покачиваться. Я поняла, что зашла, куда не следовало. Очень осторожно, не поворачиваясь, стараясь ступать в свой след, задним ходом кое-как выбралась на твердую землю. Пройди я дальше по той трясине – меня не было бы уже очень скоро.
Было еще одно чудесное приключение. Я даже по вечерам не могла успокоиться, не могла набегаться по лесу, одна, в тишине. Как-то вечером выбежала из казармы, шла по дороге – и вдруг замерла в удивлении от запаха. Пахло земляникой, да так, что я даже не могла себе представить, что такое бывает. Конечно, я пошла туда на следующее утро. Боже мой, что же я увидела! Вся поляна была красная от земляники. Как бывает весной луг одуванчиков, летом – луг, покрытый ромашками, так большая-большая поляна была красной от земляники. Собрать ее всю было невозможно. Я присела, ела, ела, сбегала за банкой, собрала дополна. Не было даже заметно, что кто-то здесь побывал. Наверное, останься я там дальше, единственный, кого я могла бы встретить, – это медведь, тоже ходивший по землянику. Но мне это в голову не приходило.
И вот по такому лесу я пошла на 1-й лагпункт. Попрощалась с нашими старушками, с тем вольным инженером, который много хорошего для нас сделал. (Потом уже, когда ему удалось уволиться с работы, он прислал мне телеграмму, состоящую из двух слов: «Освободился. Владимир».) И пошла я тем же лесом обратно на 17-й лагпункт, с которого освобождалась. Лес огромный, совершенно безлюдный. Грибы растут на дороге. Гигантские деревья, и, хотя еще середина августа, верхушки уже золотистые. В тот год листья начали желтеть очень рано. Он очень красив, этот мордовский лес, только временами страшен. Может быть, потому что он весь переполнен страданием. Это не те Саровские леса, хоть и близко лежащие, где спасался преподобный Серафим. Я думаю, мы совсем не понимаем, что вообще происходит с землей, с деревьями, и какое взаимодействие существует между природой и человеком.
И вот я иду одна по этой лесной дороге, необыкновенно красивой, и вижу удивительные вещи – в редкой ярко-зеленой тонкой и высокой траве стоят громадные красные мухоморы. Эта поляна казалась заколдованной. Еще там были гигантские муравейники, метра полтора-два высотой. Вокруг муравейников росли свинушки, стоя шляпка к шляпке, как высокая крепостная стена вокруг муравьиного города.
Может показаться странным, что я не кинулась сразу на поезд, в Москву, к маме и папе, прорываться во Владимир к Даниилу. Вот и сейчас я задерживаюсь здесь, на этой дороге в лесу. А причина одна. Я иногда, смеясь, говорила, что в моей жизни было двенадцать верст свободы – только та дорога лесом. Мне и сейчас трудно уходить из этого леса, как трудно было покидать детство, трудно было отрываться от наших с Даниилом вечеров в Малом Левшинском. Просто потому, что я знаю, что будет потом.








