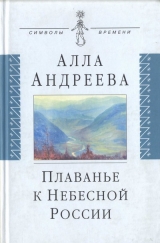
Текст книги "Плаванье к Небесной России"
Автор книги: Алла Андреева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Глава 32. ЗЕМЛЯ, ОТКРЫТАЯ НЕБУ
Так называлась моя персональная выставка, открывшаяся в 1994 году в музее Культуры Востока. Там была серия моих работ, посвященных Монголии и Западному Памиру. «Монголия» теперь является собственностью этого музея; памирские работы принадлежат саратовскому литературному музею. Еще там было несколько акварелей, составлявших очень мною любимую лирическую «лесную сюиту» – она подарена Евгению Колобову.
В 1972 году в Доме художника на Кузнецком проходил мой первый в жизни творческий вечер. До тех пор свои работы я видела или в мастерской, или в комнате на полу, прислоненными к стулу либо кнопками пришпиленными к стене. И лишь две-три работы попадали на общие выставки. Первый раз в жизни я увидела себя как художника, когда мне было 56 лет. Я вошла в маленький зал, где уже были развешаны работы, и у меня было такое чувство, как если бы я в 56 лет впервые взглянула на себя в зеркало. До тех пор я совершенно не представляла, какой я художник и художник ли вообще. Помню это чувство: я вошла, смотрела-смотрела и поняла: художник. Как его расценят, как будут к нему относиться – мне было совершенно безразлично! Неважно, что станут обо мне говорить, хотя говорили много хорошего. Потом мои работы выставляли в Союзе писателей, были и еще выставки.
В 1974 году была моя большая персональная выставка, там было сто моих работ. Если бы ее не было, не было бы и квартиры, в которой я сейчас живу (она куплена на деньги от продажи работ с этой выставки).
Больше всего я люблю пейзажи. Часть моих работ написана на севере. У севера есть особое обаяние, которого лишен юг. Он околдовывает своей суровой одухотворенностью. У меня был большой цикл работ с довольно унылым, на первый взгляд, названием: «Уголь Заполярья». Это пейзажи Воркуты, которую я очень полюбила: с терриконами, незаходящим солнцем, с грязными и заснеженными дорогами.
В 1968 году мы с Женей и еще тремя художниками ездили на Полярный Урал. Есть там такая железная дорога, построенная заключенными: «Сейда – Лабытнанги». Сейда – станция недалеко от Воркуты. От нее поперек Полярного Урала идет одноколейка до места, называемого Лабытнанги, что в переводе с коми означает «семь лиственниц». Эта дорога пересекает границу между Европой и Азией. Вот поезд медленно-медленно идет в гору. Справа – разрушенный лагерь. Все лагеря похожи друг на друга, и мы сразу видим, где была каптерка, где вахта. А вот столовая, вон бараки. Потом остановка и пограничный столб. В 1968 году, когда я его рисовала, столб уже ничего особенного собою не представлял: высокий полосатый конус с земным шаром наверху и официальной надписью: с одной стороны «Европа», с другой – «Азия». Но когда мы с Женей в первый раз приезжали в те места, году в 65-м, пограничный столб выглядел замечательно. Это был кол высотой метра 3–4, выдранный, скорее всего, из лагерного забора. К колу была прибита доска, на которой от руки, чернильным карандашом, написали с одной стороны «Европа», а с другой – «Азия».
Мы вышли тогда на станции под названием Харп, это по-комяцки «северное сияние». Нам отвели место в одном из бывших бараков, мы жили там впятером несколько дней, ходили в горы рисовать.
Горы Полярного Урала холодные, суровые, похожие на свернувшихся спящих зверей. Они очень старые, со множеством ложбин, сходящихся в одну точку. В этих ложбинах всегда лежит белый снег. И от этого горы выглядят, как спящие тигры.
Был июль. И мы видели, как вся природа тянется, тянется к солнцу, не заходящему ни на секунду, чтобы успеть как-то вырасти. Незабудки Полярного Урала не такие, как у нас, стройные стебельки с голубыми цветочками. Таким не выжить за полярным кругом. Те незабудки плашмя лежат на земле, прижимаясь друг к другу крупными ярко-голубыми цветами, так что весь куст кажется куском бирюзы. Они могут существовать и расти только как бы взявшись за руки, держась вместе, как люди в несчастье.
Всюду на камнях росли исландские тюльпаны. Их еще называют исландскими маками. Листья у них резные, кружевные, не тюльпанные, а цветы ярко-желтые. Как только солнце скрывается за облаками, они закрываются, складываются в бутоны. Но едва солнце появляется, цветы раскрывают все лепестки, чтобы хватать, хватать его лучи, пока можно.
Однажды мы вышли и увидели нечто невероятное. Вчера кругом были серые камни и чуть-чуть зеленой травы. А сегодня – никаких камней, все сиренево-розовое. Побежали смотреть. Оказывается, расцвел мох на камнях! Мелкие цветочки ползли прямо по камням, прижимаясь друг к другу. В этом поразительный героизм северной природы. Я сделала тогда рисунок, который назвала «Земля цветет».
Когда я работаю над пейзажем, то хочу одного: насколько хватит сил передать Божий замысел этой части Земли, ту гармонию, которую Творец вложил в нее. Каждая складка падающей ткани в натюрморте, каждый блик хрусталя или металла – тоже Божий мир, красота нашего мира. И работа над портретом – это попытка проникнуть в замысел Творца о человеке, в невидимый душевный мир того, чей образ пытаешься передать.
Выражаю ли я себя при этом? Неминуемо, если есть, что выразить. Как бы ни отодвигал себя художник на задний план, передавая гармонию мира в картине, в льющемся на него потоке музыки или поэтических строк, он не уйдет от себя самого как инструмента, передающего услышанное. Ответственность заключается в смысле того, чему дает форму художник: Свету или Тьме, работает он во Славу Божию или в помощь дьяволу. Ничего третьего на Земле нет, нет никакого самостоятельного существования человека – только Свет и Тьма, Бог и противобог, и человек выбирает между ними.
То, что я пишу сейчас, мои мысли о сущности искусства, то, что я формулирую, как принцип работы художника, медленно осознавалось на протяжении всей моей творческой жизни. Сложилось все в систему взглядов, по существу, недавно, может быть лет 15–20 тому назад. Дело в том, что раньше не было этого термина «самовыражение». Вот когда он возник, тогда и стало во мне расти осознанное противостояние самому этому понятию, в том числе и такому взгляду на труд художника.
Что же было раньше? Что было в начале, что привело меня к моей профессии? К искусству, конечно, привели все детство и юность: музыка, звучавшая в доме с первых дней моей жизни, мамина мечта о театре, папа, который колебался между наукой и музыкой и, хотя выбрал науку, музыкантом-то хотел стать театральным.
К счастью, я рано поняла, что при советской власти мне надо выбирать работу с закрытым ртом. Молчаливую профессию. Это и был путь в изобразительное искусство и, прежде всего, в живопись. А дальше, возможно, сработали особенности характера. Я так любила природу, так любила быть в ней одна, так застывала в очарованном восторге перед самыми разными, самыми простыми пейзажами, совершенно забывая о себе, что естественно было стать пейзажистом.
Ни минуты в жизни не приходило мне в голову выражать в пейзаже себя. Да по правде говоря и не знаю, как это можно было бы сделать, как влезать в Божее творение с какими-то своими вопросами.
Вот так и родилось то, что можно назвать моим Credo.
А теперь мне хочется тихонько отойти в сторонку и попробовать найти слова об искусстве трех удивительных людей, с которыми Господь свел меня в моей жизни.
Конечно, ничего искусствоведческого в моих словах не будет, только слова благодарной восхищенности и преклонения.
Прежде всего о Данииле. Двадцатидвухлетней, девчонкой не по возрасту, меня познакомил с ним и ввел в его родной, добровский дом Сережа, мой первый муж. Мы подружились сразу и навсегда. С первых дней знакомства Даниил ввел меня в круг своего творчества (Сережа-то в нем давно находился). С первых строк «Странников ночи» мы жили в пространстве этого романа. Потом – фронт. А потом мы – муж и жена, и я с ним вместе живу в восстанавливаемом романе с первых его страниц.
Потом – арест, следствие, уничтожение «органами» всего творчества, потом срок, годы неведения, и с 1953 года, с нашего месяца июня (в июне 44-го мы решили быть вместе) сначала – письма из тюрьмы, наполненные новыми стихами, и, наконец, последние 23 месяца его жизни – завершение по тюремным черновикам «Розы Мира» и его смерть.
Так вот, за все годы, всю жизнь, целиком отданную творчеству, у этого очень большого поэта и человека не было ни мгновения, ни желания «выразить себя». Всегда, во всем он воспринимал себя как инструмент в Божьих руках, как передающий людям увиденное и услышанное там, то есть, принимая его терминологию, вестником. Этим полна «Роза Мира». А стихи? Вот из далекой-далекой юности: «Мечты высокой вольный пленник ятолько ей мой стих отдам…» (курсив мой. – А.А.).
В конце моей жизни Господь подарил мне две встречи с людьми, творчество которых вызывает благоговейное изумление.
Дирижер Евгений Колобов [1]1
Евгений Владимирович Колобов, гениальный русский дирижер, родился в день Крещения Господня в 1949 году, скончался на Троицу в 2003.
[Закрыть].
Я – счастливый человек: всю мою внутреннюю жизнь, с детства, не сопровождала, а наполняла музыка, самое лучшее, что есть на свете, самое близкое к Богу. И привелось мне слышать многих прекрасных музыкантов, вероятно, самых прекрасных из тех, которые были. И конечно, никто из них, исполняя музыку, не стремился показать себя, не «самовыражался», потому и был прекрасен. Тем сильнее было потрясение, когда судьба привела услышать музыку из рук Евгения Владимировича, услышать ее ближе, чем из первого амфитеатра Большого зала Московской Консерватории (я уже писала, что он был одним из главных «храмов» Москвы).
Мы даже немного познакомились с Колобовым, мне даже разрешено было иногда на минутку заходить в его кабинет после спектакля, видеть его еще не полностью вышедшим из того океана, в котором он только что был. Именно был в океане музыки, а не «распоряжался» ею, не управлял снаружи, а, не помня себя, был весь погружен в этот мир Голоса Бога и оттуда приносил его нам, слушателям. Потому его исполнение всегда волшебно, потому от него исходит колдовское, а правильнее сказать, магическое, захватывающее слушателя обаяние и власть над оркестром, над певцами и над всеми нами в зале…
Потому так удивительны бывают у него давно знакомые вещи – они звучат по-иному.
Я еще немного видела, когда мы познакомились. Я еще видела эти колдовские руки, эти тонкие пальцы, держащие всю музыку спектакля. Я еще видела Колобова на сцене, вышедшего на приветствие восторженной публики. Всегда было впечатление, что он попал на сцену неожиданно для себя, откуда-то из другого, прекрасного мира, где был «дома», где звучал Божий Голос, а никак не «самовыражался».
Режиссер Петр Фоменко.
А счастье знакомства с этим удивительным человеком, это-то за что мне дано? Как-то в разговоре я, очень рассмешив Петра Наумовича, сказала, что он похож на огромный, старинный замок, где не знаешь, куда войдешь по переходам и каменным лестницам: то ли в рыцарский зал с оружием и щитами на стенах, то ли в маленькую, таинственную комнату с узким окошком, выходящим на серебряное озеро. Он, развеселившись, стал фантазировать на тему комнаты пыток в этом замке, а я-то мысленно поднималась на высокую башню, с которой видно далеко-далеко кругом, с которой раскрывается огромная долина духа. Я вполне отдаю себе отчет в странности этого образа: замок, как определение человека, но не могу от него отказаться. Возможно, здесь как-то звучат отголоски давней моей работы – эскизов к «Гамлету», погибших после ареста. Я немногие из своих работ любила, но эту работу любила очень. И образ замка, цельного, могучего, загадочного и прекрасного, мне близок и дорог.
Спектакли театра Петра Фоменко не смотришь, на них не присутствуешь, их, находясь в зале, глубоко переживаешь вместе с актерами, с действующими лицами, которые стали совсем родными и любимыми. Но переживаешь не жалостливо, не в бытовом, будничном смысле. Может быть, лучше всего это состояние передано Даниилом в стихотворении «Художественному театру»:
…Казалось, парит над паденьем и бунтом
В высоком катарсисе поднятый зал,
Когда над растратившим душу Пер Гюнтом
Хрустальный напев колыбельной звучал.
Каждый спектакль прекрасен, целен и кажется естественно выросшим, как чудесный цветок у дороги. А ведь все не так, ведь все, что происходит, все образы, которые там есть, возникают и живут в огромной душе, в горячем (а потому и больном) сердце этого человека, который так, совсем попросту, называется режиссером.
И как бы ни был спектакль безжалостен и жесток по содержанию, надо всем всегда, как веяние крыльев, – доброта. О нет, не назидание, не поучение – нет! Может быть, самое правильное сказать: каждый спектакль обращен к лучшему, что есть в зрителе. Даже если зритель этого в себе не знает.
И все, что творится этим человеком, никогда не имеет целью «самовыражение».
Самовыражение, как цель, есть свидетельство гордыни, она же – прямой путь к духовному падению, за которым неотвратимо возникает образ падшего первоангела Люцифера…
Глава 33. РОЗА МИРА
Весной 1997 года в Москве в Музее народов Востока проходила моя выставка. Среди посетителей появилась женщина, которая, увидев маленький пейзаж, рядом с которым висела табличка «Место на Кавказе, где зарыт экземпляр „Розы Мира“», подошла ко мне и сказала:
– Алла Александровна. Вы зарыли «Розу Мира», зарыли так, что найти ее, оказывается, уже нельзя, а смотрите, «Роза Мира» пробивается везде.
И это правда.
После смерти Жени я опять осталась одна с рукописями. Рукописи пока тихо лежали. Семидесятые были очень страшными годами, я понимала, что стоит мне вылезти с произведениями Даниила, как меня снова заберут, а эти рукописи сожгут. И на этот раз никто уже ничего не восстановит.
Моя жизнь поворачивалась самыми неожиданными сторонами. Откуда-то возникла целая компания хиппи во главе с Алхимиком и его другом Валерой. Они начитались отрывков из «Розы Мира», бродивших по Москве, и отыскали меня, предварительно помолившись в соседнем храме. Явились застенчивые, длинноволосые, все в бусах. Мы потом много бродили по Москве, разговаривая обо всем на свете.
Вернулся из заключения, отбыв 10 лет, Коля Браун, сын петербургского поэта Николая Леопольдовича Брауна, напечатавшего, как я уже рассказывала, в конце 60-х годов в «Звезде» несколько стихотворений Даниила. Из лагеря Коля привез прекрасные стихи, и много времени я провела в Комарове под Петербургом, перепечатывая их. А за стенами дома летали дятлы, прыгали белки, по ночам было слышно, как шумит море.
Коля познакомил меня с Львом Николаевичем Гумилевым. У нас был очень интересный вечер: мы пришли в гости к Льву Николаевичу и его милой жене Наталье Викторовне. Так получилось, что сначала Лев Николаевич рассказал, как он сидел в конце 30-х годов, потом мы с ним сравнивали, как оба сидели в конце 40-х, а потом Коля рассказывал, как он сидел в конце 60-х. А потом все мы начали смеяться – так что же это такое в России – тюрьма? Где же была настоящая жизнь, по какую сторону забора?
Через Колю я познакомилась с ассирийцем Михаилом Садо. Он был членом ВСХСОН. Это особая страница современной русской истории. ВСХСОН расшифровывается как Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. После тех трагических антисоветских групп, в которые как-то объединялись отчаянные и отчаявшиеся люди сталинского времени и которые тут же уничтожались, ВСХСОН – его программа теперь известна и напечатана – был первой русской православной организацией, ставившей своей целью свержение коммунизма. Организация эта в основном зародилась в Ленинградском университете в среде студентов-гуманитариев. Членов ВСХСОНа посадили по доносу предателя в 1967 году. Его руководитель Игорь Огурцов сидел, считая ссылку, 20 лет, с 1967 по 1987 год; Михаил Садо – 13 лет, с 1967 по 1980 год, когда мы с ним и подружились. Писатель Леонид Бородин (это был его первый срок), эфиопист Вячеслав Платонов и еще несколько человек получили меньшие сроки.
Освободившись, Михаил Садо стал преподавателем Петербургской духовной академии. С ним, как и с Колей Брауном, меня до сих пор связывает дружба, основанная на глубоком душевном единстве.
В 86-м году Даниилу исполнилось бы восемьдесят лет. Я всегда в день его рождения 2 ноября ездила на Новодевичье. Одна. На кладбище и в церкви я любила бывать одна.
Могила тогда выглядела так: два холмика, между ними дубовый крест и вокруг много сирени. Ограда была прямоугольная с прямыми прутьями, ее еще Даниил ставил.
В тот день я приехала и – остолбенела. Не было ни креста, ни холмиков, ни сирени. Во всю площадь могилы лежала огромная гранитная плита, а на ней громоздился гранитный «шкаф». Больше я тогда ничего не увидела – бросилась бегом прочь. Уборщица, которая меня хорошо знала, сказала:
– Идите скорей к директору!
Директора я не застала, было воскресенье. Произошло же вот что. Великолепный скульптор Николай Андреевич Андреев, автор старого памятника Гоголю, тоже похоронен на Новодевичьем кладбище. Его родные хлопотали, чтобы Министерство культуры поставило ему памятник. И рабочие, найдя могилу другого Андреева, решили, что это она и есть. Вышла чудовищная ошибка.
В тот же вечер я позвонила в Петербург своему другу Коле Брауну и все ему рассказала. Ночью он перезвонил мне:
– Начало твоего телефона – 229. Запомни: по статье Уголовного кодекса 229-й надругательство над могилой влечет уголовную ответственность сроком до трех лет.
На следующий день я кинулась к директору. Сначала он заявил, что я вообще никогда не бываю на кладбище и понятия не имею, кто у меня тут похоронен. Я молча вынула толстую пачку квитанций оплаты уборщицам, положила перед ним.
– У вас была не могила, а козий загон!
Я сказала:
– Русская могила – это холмик с травой и крестом. Поняли?
Он продолжал хамить. А у меня и правда никогда не хватало духу выдирать ландыши, сыпать песок. Я всегда просила, чтобы зимой оставался снег, а летом – трава. Это было похоже на деревенскую могилу и было мне дорого.
Мы долго препирались, а потом я сказала:
– Да что вы так со мной разговариваете? Вы же знаете, статья 229 – до трех лет. О чем вы спорите?
Он мгновенно переменил тон, стал кому-то звонить:
– Вот она говорит, что русская могила – это земля, трава и крест… ага… угу…
Гранит все-таки содрали, а крест потом нашелся далеко в Подмосковье. В 1986 году у меня совсем не было денег. Тут уж взялись помогать все. Кончили мы только к лету. Мне до сих пор трудно бывать на кладбище, не могу забыть тех двух холмиков с крестом посредине и кустов сирени.
Мы всегда праздновали день рожденья Даниила. И тогда, в 1986 году, вечером пришли Боря Чуков и еще молодые ребята, которые Даниила не знали, но очень любили. Я никак не могла прийти в себя после того, что произошло. Пришлось рассказать. Боря расшумелся:
– Все изменилось, теперь Горбачев, перестройка, надо печатать стихи Даниила Леонидовича.
– Не хочу получать по морде! – отвечала я. – Это все то же самое, что было!
– Вы чего еще ждете?! – кричал он. – Вот уже надругались над могилой. Чего вам еще надо?
Мы довольно долго орали друг на друга. В конце концов я сказала:
– Ладно. Берите, несите.
– Я понесу в «Новый мир».
– Еще не хватает «Нового мира»! Какое «Новому миру» может быть дело до Даниила Андреева! Ладно. Валяйте! Несите и получайте по морде вы!
Боря Чуков отнес стихи в «Новый мир» и по морде не получил. Это было то, с чего потом все началось: первая публикация стихов Даниила в «Новом мире», сделанная Олегом Чухонцевым. Быть может, без того издевательства над могилой, без того особого состояния у меня и у тех, кто меня слушал, история публикаций творческого наследия Даниила сложилась бы иначе.
Публикацию в «Новом мире» прочитал Борис Николаевич Романов. Он дружил с Витей Василенко, издавал его стихи. Романов разыскал меня и стал «пробивать» в издательстве «Современник», где тогда работал, очень тоненький, как он сначала предполагал, поэтический сборник, который потом стал прибавлять и прибавлять в объеме. Это был 1987 год. Борис Николаевич включил в эту книжку стихотворение «Беженцы» – о войне:
Шевельнулись затхлые губернии,
Заметались города в тылу.
В уцелевших храмах за вечернями
Люди ниц рыдают на полу —
О погибших в битве за Восток,
Об ушедших в дальние снега
И о том, что родина-острог
Отмыкается рукой врага.
В издательстве Романова тогда проработали на «пятиминутке», а стихотворение сняли. Теперь его печатают везде, а Борис Николаевич – редактор всего собрания сочинений Даниила. В 1989 году в «Новом мире» опубликовали первые отрывки из «Розы Мира», главы о Лермонтове и Блоке со вступительной статьей Станислава Джимбинова «Русский Сведенборг». А потом публикации пошли одна за другой.
Наконец, странная психологическая перемена произошла и во мне. Все годы после смерти Даниила я жила как бы опустив голову и закрыв руками его произведения. И вдруг как будто с меня сняли страх. Не сняли, а снял Даниил – я в этом совершенно уверена. Я подняла голову и заговорила. Заговорила даже буквально – стала читать его стихи. По приглашению Саши Андреева, сына Вадима, в 1987 году я поехала в Париж и там впервые читала стихотворения Даниила собравшимся русским парижанам. С тех я читаю постоянно, от Лондона до Владивостока, где только можно.
На одном из выступлений в Смоленске меня смущенно предупредили:
– Знаете, Алла Александровна, вы будете выступать в библиотеке, в Союзе художников, а вот еще очень просили сотрудники исправительно-трудовых лагерей. Вы простите, пожалуйста, но они так просили…
Я ответила:
– Да что вы извиняетесь! Мне это самой интересно. Художникам я уже читала, писателям тоже, а сотрудникам «органов» – еще нет.
Зал был полон, и почти все в нем – в погонах. Сначала мне стало не по себе, а потом думаю: ну, как хотите, а сейчас будете слушать.
Сначала я рассказала им биографию Даниила и, когда дошла до ареста и следствия, учитывая специфику их работы, говорю:
– Вам, наверное, это будет профессионально интересно…
А им и вправду было интересно. Затем прочла стихи и сказала:
– Теперь любые вопросы…
Глянула в зал и увидела на глазах слезы.
С тех пор как я начала читать, меня не оставляло чувство, что Даниил рядом и что он снял с меня страх за свои стихи, за «Розу Мира». Это были совсем не легкие годы, но я выступала, не опуская головы. И бывают странные моменты во время чтения стихов. Я выхожу, читаю стихотворение, над которым много работала, так, как задумала. И вдруг – что-то происходит. Я начинаю читать гораздо лучше, забываю о плохом самочувствии, полностью растворяюсь в тексте. И кажется, что кто-то рядом. Даниил рядом. И здесь надо, мне кажется, подробнее сказать об особенности его дара.
Мы живем в разделенном, раздробленном мире. Разбиты наша жизнь, все понятия. Разорвана связь физической жизни с духовной, раздроблены на части все профессии. Иногда еще соединяются в одном лице поэт и прозаик, но чаще даже поэты пишут или лирические, или гражданские стихи, а талантливая шутка породила пародиста как профессию.
Но если бы мы отправились в глубокую древность, босиком или в грубых сандалиях прошли по выжженным солнцем пыльным или каменистым дорогам очень давних и очень дальних стран, то неминуемо встретили бы на одной из таких дорог человека, который казался бы странным только для нас, но для тех, кто жил рядом с ним, был совершенно понятен. Кто он? Поэт – в том древнем значении этого слова, которое мы сейчас потеряли. Вероятно, и в древности, как и позже, в самой обыкновенной семье рождался странный мальчик и вырастал необычным человеком. Он слышал, а часто и видел то, о чем окружавшим его людям было известно только «умственно». Такова уж особенность душевной структуры человека, наделенного религиозным чувством. Такими были и поэты Древней Эллады, и ветхозаветные пророки, и средневековые миннезингеры – не авторы куртуазных любовных песен, а создатели «Парсифаля» и «Тангейзера».
Люди этого строя воспринимали мир цельным, образным и нераздельно слитым с миром Иным. Для них религиозный, философский, поэтический и музыкальный лики Вселенной представали как единое целое, не поддающееся расчленению, нашей теперешней раздробленности.
Во все времена были люди, обладавшие особым свойством: они слышали не земное, а Божье время. Такими были первые христиане, ожидавшие немедленного пришествия Христа, такими были обезумевшие от страха перед близившимся концом света последователи Аввакума и Савонаролы. Такими бывают поэты, таким был Даниил Андреев в своей мечте о братстве и единении перед Богом всех живущих на земле. Он слышал Божью правду и Божье время, порой смешивая его с земным, потому что сам жил на некоей пограничной полосе. Только такой человек и мог стать автором «Розы Мира».
Жизнь распоряжалась по-своему. Как из светлого тумана возникают лица. Все молодые, все очень разные, но одинаково бедные той самой всеобщей советской бедностью, которую сейчас как-то быстро подзабыли и которую на Западе называют нищетой. Не было ни у кого из них ни денег, ни положения, ни «будущего», ни, естественно, никакой власти. У всех были семьи, которые они любили и берегли. Именно они тихо обступили меня и стали помогать: ксерокопировали, переписывали, сверяли.
Только у меня были все подлинники произведений Даниила. Что-то со мной случится – и все: останутся искореженные, Бог знает какие, ксерокопии. Неожиданно приехал Юра Кочетков, а с ним Таня и Сережа Тарасовы, тогда еще жених и невеста, казак и казачка, высокие, милые. И втроем они сфотографировали первый экземпляр «Розы Мира». Это был уже 1985 год. А потом Таня, беременная, перепечатывала с фотографий книгу, печатала и смотрела, сколько осталось страниц до конца и сколько недель, а потом и дней до родов. Успела допечатать рукопись и родила сынишку.
Весной 1987 года появился и тот, кто сумел сделать казавшееся невозможным: издать впервые «Розу Мира». Его зовут Саша Палей. К печати книгу готовили Саша и моя крестница Вероника Сорокина. Корректуру читали у меня дома. Первое издание «Розы Мира» – момент исторический и об этом надо рассказать отдельно.
Издательство «Прометей», впервые напечатавшее «Розу Мира», принадлежало МГПИ им. В. И. Ленина, где научным сотрудником на педфаке и работал Саша Палей. Он был знаком с директором издательства Валерием Николаевичем Букреевым, философом по образованию и человеком смелым и рисковым. В этом издательстве, кстати, впервые в СССР, был опубликован сборник работ Н. А. Бердяева. И это самое издательство фатальным образом оказалось единственным на тот момент, где можно было попытаться опубликовать «за счет средств автора» книгу такого содержания (у автора, точнее у его вдовы, денег не было совсем, поэтому «Роза Мира» издана на средства, собранные друзьями). Выпустить книгу было очень трудно по целому ряду причин, и она вышла только в 1991 году, хотя и немыслимым для нынешнего времени стотысячным тиражом (машинописный оригинал был сдан в издательство в мае 1988 года). Знаменательно, что «Роза Мира» впервые увидела свет в год окончательного краха коммунистической системы в России – за несколько месяцев до августовского путча.
А круги расходились все шире. Появилась Ирина Залешева – русская, замужем за чехом. Она организовала перевод на чешский язык и издание «Розы Мира» в Чехии. Тогда же, в 1990 году, Саша Козачков перевел большую часть «Розы Мира» на испанский. Книгу издали на острове Майорка, там, где жили Шопен и Жорж Санд. В 1997 году вышло в свет английское издание «Розы Мира». Японец Юсике Сато перевел «Розу Мира» на японский язык. К сожалению, все эти переводы, кроме чешского, не полны.
Первый диплом по творчеству Даниила Андреева защитила в МГУ моя крестница Маша Гладкая. А теперь диссертации, посвященные его творчеству, защищают по всему миру от Германии до Австралии.
Еще в черные андроповские времена, в 1983 году, мне удалось переправить хранителю «Русского архива» в Лидсе Ричарду Дэвису подлинники тюремных черновиков Даниила. А он смог привезти мне в Москву ксерокопии всех этих рукописей только через 10 лет – в 93-м, до этого его сюда не пускали. В 1994 году я была в Англии и мы вместе с Ричардом разбирали и приводили в соответствующий архивный вид эти тюремные записи.
Наступил 1996 год – девяностолетие Даниила. Мы его отметили тепло и красиво в Музее музыкальной культуры имени Глинки. Все было особенным и теплым. Евгений Колобов – оказалось, что он любит и знает творчество Даниила, – с присущей ему широтой и щедростью прислал своих лучших молодых певцов, а у него поют только молодые. Вот тогда мы с ним и познакомились.
Композитор Алексей Рыбников привел свой камерный хор. Он автор очень интересной, значительной работы «Литургия оглашенных». Она навеяна тремя русскими судьбами: отца Павла Флоренского, Осипа Мандельштама, Даниила Андреева. Его хор пел отрывки из этой «Литургии». Когда я услышала эти чистые, ясные молодые голоса, я поняла, что мой корабль качнулся и вышел в какие-то другие волны и меня окружает безбрежная ширь горизонта.
Ждала нас всех еще одна радость. В 2000 году, в том самом нашем с Даниилом июне, была установлена мемориальная доска его памяти. История возникновения этой доски достойна отдельного, почти детективного рассказа, и я ее опускаю. Самым главным была необыкновенная творческая удача талантливого скульптора Валерия Евдокимова. Доска была открыта под звуки первого концерта Чайковского. На открытии присутствовали члены московских городских властей, самые близкие и дорогие мне люди и многие из тех (кто смог прийти), для кого творчество Даниила стало неотъемлемой частью жизни. Полную машину роз привез Андрей Шестопалов, так называемый «новый русский» родом из Тюмени. Именно Шестопалову мы обязаны материальным воплощением этого замысла. Он же был одним из тех немногих людей, которые оказывали материальную поддержку во всем, что связано с именем и творческим наследием Даниила. Доска установлена во дворе Литературного института им. Горького в Москве на Тверском бульваре рядом с досками памяти Андрея Платонова и Осипа Мандельштама.
Весной 1997 года тоже было чудо. Началось оно просто, с телефонного звонка из Германии. Композитор Александр Сойников просто и буднично сообщил мне, что написал мистерию «Роза Мира», посвященную Даниилу Андрееву, и она в мае будет исполняться в Иркутске.
Я пропускаю наш разговор.
Мы познакомились у трапа самолета, направлявшегося в Иркутск, и подружились во время полета.
Мне позволили быть на всех репетициях, и я впервые в жизни присутствовала при рождении музыкального произведения – с первых нот и до конца. Дирижировал Олег Зверев.
А потом были три премьеры: 13, 14 и 15 мая в Ангарске и Иркутске.








