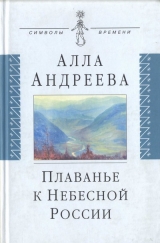
Текст книги "Плаванье к Небесной России"
Автор книги: Алла Андреева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Этот вечер – одно из самых счастливых воспоминаний моей жизни. Даниил вспомнил его в тюрьме и написал стихотворение «Сочельник»:
Речи смолкли в подъезде.
Все ушли. Мы одни. Мы вдвоем.
Мы живые созвездья
Как в блаженное детство зажжем.
Пахнет воском и бором.
Белизна изразцов горяча,
И над хвойным убором
За свечой расцветает свеча.
И от теплого тока
Закачались, танцуя, шары —
Там, на ветках, высоко,
Вечной сказки цветы и миры.
А на белую скатерть.
На украшенный праздничный стол
Смотрит Светлая Матерь
И мерцает Ее ореол.
Ей. Небесной Невесте —
Две последних, прекрасных свечи:
Да горят они вместе.
Неразлучно и свято в ночи.
Только вместе, о, вместе,
В угасаньи и в том, что за ним…
Божий знак в этой вести
Нам, затерянным, горьким, двоим.
Глава 18. УЛЫБКА ДЖОКОНДЫ
Наступил год, который, казалось бы, мог стать переломным в нашем с Данииилом материальном положении, а оно было отчаянным. Сначала я расскажу об одном приключении в МОСХе. Меня приняли туда в 42-м году, а в 45-м году всех нас, принятых три года тому назад, вызвали посмотреть, что мы за это время сделали. Я опять поступила наивно, как и с портретом брата. Для показа взяла свои эскизы к Гамлету, в них душа была вложена, да и Даниил любил эту мою работу. Ему вообще нравилось то, что я – художник. И вот я с открытой душой принесла на просмотр не то 11, не то 13 эскизов к «Гамлету». Получилось то же самое, что в 39-м с черным роялем. Комиссию возглавлял Соколов-Скаля. Он заявил: «Что это за советский художник, который без всякого заказа пишет эскизы к „Гамлету“, и почему к „Гамлету“? Что мог советский художник найти в „Гамлете“? Кроме того, замок серый, все черное, тусклое, атмосфера какая-то нежизнерадостная, ничего народного, никакого критического отношения к принцу датскому, да и вообще следует поставить вопрос о пребывании такого странного персонажа, как Алла Андреева (к тому времени я уже была Алла Андреева), в Союзе художников». Выручил художник Руцай, который когда-то учил меня писать натюрморты. Он заступился: «Но ведь человек-то явно талантливый. Хорошо, сейчас она написала к „Гамлету“, а через год напишет эскизы к чему-то другому. Все-таки нельзя же так вышвыривать людей». В общем меня каким-то образом оставили в МОСХе, было постановлено, что Соколов-Скаля возьмет надо мной шефство, будет воспитывать. Но «органы» потом распорядились иначе.
Я пыталась найти какую-то работу. Ничего из этого, конечно, не выходило. Есть такое распространенное мнение, его повторяют за границей до сих пор, что все члены МОСХа писали картины со всякими вождями, идеологически выдержанные, поэтому были богаты, а вот будущие диссиденты заказов не имели, они – настоящие художники, которые бились где-то в подполье. Все было совсем не так. Заказы имело очень малое число членов МОСХа. Я была членом Союза художников с 42-го года, но первый заказ получила в 74-м году.
А зарабатывать на жизнь было надо. И вот друг Даниила Витя Василенко договорился со своим знакомым, работавшим в Третьяковке; там тогда решили выпускать хорошие репродукции русской классики, печатая их в Лейпциге. Технология была такая: печаталась очень большая бледная фотография картины, служившая основой, а художник масляными красками делал по ней очень точную, но уже цветную копию картины, которую отвозили в Лейпциг.
Фамилия сотрудника Третьяковки была Житков. Мы ужасно нуждались в деньгах. Поэтому, когда я пришла в Третьяковку и Житков меня спросил: «Что Вы могли бы сделать?», я ответила: «Да все, что угодно».
Я имела в виду, что буду копировать, что угодно, лишь бы работать. А он воспринял мои слова совершенно иначе, рассмеялся и сказал:
– Мне Ваша самоуверенность мила. Хорошо. Делайте «У дверей Тамерлана» Верещагина.
О Боже! Дверь, изображенную Верещагиным, я думаю, все помнят и могут мне посочувствовать, но никто даже не подозревает, как трудно было копировать штаны двух стражей, широкие, сафьяновые, узорчатые. Я сидела над этой копией, по-моему, недели три. А Житков проходил мимо и посмеивался, но как-то доброжелательно. Видимо, все остальные художники от этой работы шарахались и правильно делали, потому что это было настоящее мучение. В конце концов я ее сделала и сделала хорошо. Тогда, так же ласково посмеиваясь, он дал мне следующую работу – «Март» Юона, которую я скопировала за пять дней.
Но мы были уже обречены. Шла зима 46/47 года. Вспоминая потом один эпизод, я поняла, что конец был уже предрешен. Однажды ко мне подошел молодой человек с фотоаппаратом и попросил разрешения сфотографировать. Я спросила: «А зачем?». Он назвал какой-то журнал, сказал, что ему нужен именно такой кадр: женщина с кистью в Третьяковке, копирующая картину. Мне было безразлично: «Да снимайте, если это вам нужно». А это, конечно, была уже подготовка к нашему аресту, потому что все строилось псевдосерьезно. То, что я сижу в Третьяковке с кистью в руках, тоже что-то должно было значить в обвинении.
У Даниила тоже появилась работа, благодаря чудесным людям, давним его друзьям. Муся, Мария Самойловна Калецкая, училась в той же гимназии, что и Даниил, кажется, на класс старше. Ее мужем был Сергей Николаевич Матвеев. Оба они, географы по профессии, несколько месяцев в году проводили то на Тянь-Шане, то на Алтае, словом, в горах. Смеясь, они говорили, что по полгода проводят не только вне советской власти, но и вообще без всякой власти. Мы всегда так радовались, когда они приезжали в Москву. Это были удивительной чистоты и ума люди, веселые, с каким-то чудным, прямо-таки музыкальным звучанием, какое бывает у людей, много времени живущих среди природы, особенно в горах. Но мне кажется, что, будь они другими людьми, то и с гор бы тоже приезжали не такими чистыми, глубокими и обаятельными. И вот эти друзья решили помочь Даниилу. Сергей Николаевич дал ему материалы, относящиеся к русским путешественникам. И Даниил написал маленькую книжечку – биографии нескольких русских исследователей горной Средней Азии. На ней стояли две фамилии, потому что с Даниилом никто не заключил бы договора. У издательства договор был с Сергеем Николаевичем, которого знали. Книжка понравилась, и следующий договор заключили с Даниилом.
Это должна была быть тоже маленькая книжка о русских путешественниках в Африке. Помню, как Даниил сияющий вернулся из Ленинской библиотеки, где читал нужные для работы материалы. Он нашел реку, названную в честь Гумилева. Николай Гумилев был любимым его поэтом и любимым образом поэта.
Сережу Матвеева мы погубили. Его арестовали по нашему делу. Оснований для ареста не было ровно никаких. Он получил срок и погиб от прободения язвы на каком-то этапе, кажется, его везли с лагпункта в больницу…. Эти чудесные лица я никогда не забуду. У Сережи были необыкновенные ярко-голубого цвета глаза, удивительной прямоты и чистоты…
А еще у них были друзья Авсюки – Григорий Александрович и Маргарита Ивановна, которую звали Гулей. По большим праздникам они приходили к Коваленским вчетвером и мы к ним присоединялись. Традиционно сначала они приходили именно к Добровым, а потом – к Коваленским. Григорий Александрович был специалистом по ледникам, потом он, насколько я знаю, участвовал в первых антарктических экспедициях. Даниил был прямо без ума от него, в полном восторге от всего облика этого человека. Для него это действительно был идеал – высокий, светлоглазый, смелый, в нем было все, что Даниил так ценил в мужчинах. Жена его – обаятельная и очень женственная. В связи с Григорием Александровичем помню смешную нашу с Даниилом стычку. Как-то все мы были у Коваленских, и наши друзья рассказывали о горах, эти рассказы можно было слушать бесконечно. Потом мы, естественно, вернулись к себе, Даниил взахлеб восторгался Григорием Александровичем, а я поддакивала: «Да, угу. Да, конечно». Даниил на меня набросился: «Почему ты так вяло отвечаешь?! Ты не в восторге от него, не так относишься к нему, как он того заслуживает». Я тогда сказала: «Слушай, а как тебе хочется, чтобы я относилась к другому мужчине?» Тут мы, конечно, оба принялись хохотать!
Серьезных же споров было два. Первый – в связи с Лизой Калитиной из «Дворянского гнезда». Даниил относился к ней с благоговением, а я фыркала, возмущалась: «Ну как это так?! Она же его любила, зачем пошла в монастырь?» Вот так мы спорили, спорили, и через много лет я поняла: прав был он.
А вот в чем он для меня до сих пор не прав, так это в отношении к картине Репина «Гоголь, сжигающий „Мертвые души“». Я даже не хочу долго об этом говорить. Каким образом он ухитрялся в этой картине видеть то, что видел, не знаю. Наверно, для этого надо быть не художником, а писателем, и притом такого масштаба, как Даниил.
Еще мы виделись с чудесным человеком, Даниным другом Витей Василенко. О нем я уже писала. Они дружили, по-моему, лет с двадцати. Витя был очень хорошим человеком, славным, ранимым, трогательным, к тому же прекрасным искусствоведом и поэтом. Его тоже арестовали по нашему делу. После освобождения Витя вернулся к преподаванию в МГУ. Он необычайно интересно соединял искусствоведение и фольклор. Я заслушивалась его рассказами о славянских языческих обрядах и образах. И мне очень жаль, что я этих рассказов не могу воспроизвести. Они с Даниилом читали друг другу свои стихи, и роман Даниил ему тоже читал. Именно Витя принес нам написанную на листке бумаги «Владимирскую Богоматерь» Волошина. Сейчас уже мало кто понимает, что это могло тогда означать и до какой степени русские люди были лишены доступа к собственной культуре. Бывали у нас и еще некоторые Данины друзья. Никогда не собиралось много народа, это в то время было невозможно, разве что на Новый год. Потому что если собиралось человек шесть, то ясно, что это антисоветская группа и кто-то из соседей мог донести. А в нашей квартире жила женщина, которая ордер на комнату получила в ГБ. Думаю, что не без ее участия произошло то, что случилось потом. Но дело было не только в ней. Это была сложно организованная акция.
У Даниила полностью отсутствовало чувство собственности. Насколько Сережа был ревнив, настолько Даниил лишен тени ревности, вероятно, из-за четкого сознания нашей неразделимости друг с другом. Ему нравилось, когда за мной кто-то ухаживал, кто-нибудь говорил обо мне хорошо. Ни тени не было на его лице, когда он сам мне об этом рассказывал или видел, как около меня кто-то начинает «подтаивать».
Вообще, несмотря на все трудности нашей жизни, в памяти у меня только свет, бесконечный свет и глубина. Это шло от нашей душевной близости – один начинает фразу, другой – кончает. Иногда я даже не могла вспомнить, кто из нас высказал какую-нибудь мысль, настолько мгновенно она подхватывалась другим. Все, что происходило в «Странниках ночи», разворачивалось около меня, происходило со мной, с самыми близкими людьми. Все, что я говорила, мгновенно подхватывалось Даниилом. Однажды я рассказала ему о давнем воспоминании, о том, как не могла заснуть, потому что одеялу холодно, и он включил эту сцену в роман, где об этом рассказывает очень сложный, скорее отрицательный, но значительный персонаж – некто Клементовский. Он поддерживает богоборческий замысел Адриана и рассказывает ему об этом детском воспоминании.
Вот так мы жили вдвоем с милыми, светлыми друзьями и героями романа «Странники ночи», которые даже сейчас стоят для меня рядом с Мусей, Сережей Матвеевым, Игнатом Желобовским и Мусенькой Летник, живыми друзьями, и я не ощущаю четкой границы между теми, кто жил рядом и приходил к нам, и теми, кто жил в этом романе.
Было у нас еще одно общее лето 1946 года. Мы поехали тогда в Задонск всей семьей: мама с папой, мы с Даниилом и мой младший брат Юра с молодой женой Маргаритой. Жили на окраине Задонска, где мама сняла чистые беленькие комнатки. Мама хозяйничала, готовила какие-то вкусные вещи. Папа, как всегда, добрый и немногословный, был центром притяжения для всех. Очень юная Маргарита и такой же мальчишка Юра ходили в каком-то растерянно-городском виде, она в красивом платье, в туфельках на высоченных каблуках и с красным зонтиком. А мы с Даниилом, как обычно – он в выцветшей гимнастерке, я в задрипанном сарафане, оба босые, с непокрытыми головами, – часами бродили по задонской степи. Солнце нам было только в радость, и чем больше, тем лучше. Все вместе мы ходили на Дон, очень любили купаться ночью. Дон был действительно тихий, во всяком случае в Задонске, в нем совсем не чувствовалось течение и изумительно отражались звезды. Мы входили в звездную воду.
Я ухитрилась покалечиться – засадить в ногу целую щепку. Папа ее вытащил, перевязал, но несколько дней я не могла ходить. Первую ночь от боли я не спала, и Даня читал мне вслух всю ночь. Потом они с папой, передавая меня с рук на руки через забор, выносили под тенистое дерево, и там произошла забавная сцена. Даниил рассказывал мне план продолжения «Странников ночи». Война должна была быть и в романе. Один из самых близких Даниилу героев поэт Олег Горбов – одна из проекций его самого – с фронта возвращается слепым. Боже, как я плакала. Как плакала! Пришел папа посидеть с нами под деревом, а я заливаюсь слезами, совершенно не могу остановиться. Папа, как всегда, сделал вид, что ничего не видит и не слышит. Вероятно, решил, что мы поссорились. Даниилу пришлось объяснять: «Александр Петрович, посмотрите на это „над вымыслом слезами обольюсь“. Я рассказал ей о судьбе одного из героев романа – и вот, пожалуйста, получите».
Я в своей жизни боялась трех вещей: тюрьмы, старости и слепоты. И получила все, чего боялась. Тюрьма оказалась огромным духовным и душевным богатством. Старость – прекрасным временем жизни. Пока еще не пойму, что хорошего в слепоте, придется еще ждать, вдумываться, стараться понять.
Возвращались мы назад в битком набитом товарном вагоне. Ведь прошел только год с небольшим после войны, и победившая страна была совершенно разгромлена. В памяти остался замечательный белый храм на холме, храм Тихона Задонского. Конечно, тогда он был закрыт, но сейчас, думаю, в нем давно уже идут службы. Около храма веселый базар, как всегда в русских небольших городках и не только русских (около Эль-Регистана в Самарканде тоже веселый базар). До горизонта расстилалась степь, и воздух над ней дрожал от зноя.
И еще воспоминание. В Задонске было довольно много детей, одинаково одетых, которые всегда держались вместе. Нас удивляло, что эти дети были очень приветливы, никогда не хулиганили, были ласковы с животными. Мы узнали, что они из детского дома для сирот военного времени, все потерявших. Отчего эти дети были такими хорошими, не знаю: страшное ли несчастье, которое они пережили, а может, так счастливо сложилась судьба, что нашлись воспитатели, которые отнеслись к ним как к родным. Мы были поражены поведением детей и вообще всем их душевным обликом. Для Даниила это была еще одна подсказка, подтверждавшая давнюю мечту, которая так и прошла через всю его жизнь и не осуществилась: основать школу для этически одаренных детей, где их будут не просто учить что-то читать и что-то делать, а воспитывать из них тех, кого в «Розе Мира» он называет «человеком облагороженного образа». Мне кажется, что та встреча с детьми еще больше укрепила его в этой мечте.
Наша судьба была уже решена. Даже странно, как, зная обо всем, что делается вокруг, мы совершенно не обращали внимания на многие вещи. Не думаю, правда, что что-нибудь нам помогло бы. То вдруг неизвестно почему к нам заявился какой-то человек и начал уговаривать обменять комнату на другую на углу Остоженки. То внизу в подвале, в бывшей кухне Добровых, начали стучать, скрести… говорили, что там делают сапожную мастерскую. Конечно, никакой мастерской не было. Просто в пол нашей комнаты вделывали подслушивающий аппарат. То пришел без всякого вызова телефонный мастер и объявил, что нам надо чинить телефон. Телефон у нас работал, чинить ничего не надо было, а вот глаза этого «мастера» и какой-то странный холод, пробежавший у меня по спине, я даже сейчас помню.
Через десять с лишним лет, вернувшись, мы пришли в эту квартиру повидаться с соседями, с которыми у нас были прекрасные отношения. Из соседнего маленького домика пришла в слезах просить прощения у Даниила очень милая женщина. Она просила прощения за то, что тогда, десять лет назад, видела, как на наружный подоконник нашей комнаты (мы жили на первом этаже) залез человек, он стоял там и что-то делал с форточкой. Она побоялась предупредить Даниила, и десять лет ее мучила совесть.
Вот таких реальных вещей мы не замечали. Но нереальное нечто я ощущала все время: кольцо гигантской змеи, которое медленно-медленно сжимается, сдавливает. Я все время жила, чувствуя присутствие этого змеиного кольца.
И еще странная вещь: очень часто по ночам я слышала звонок в дверь. Даниил сидел за машинкой, а я, засыпая, четко слышала звонок в дверь и замирала – открывать никто не шел, значит, опять послышалось. И когда звонок действительно раздался, я его узнала – это был тот самый звонок.
В это время произошло еще одно событие. Мы познакомились с одним поэтом, точнее поэтом и актером Вахтанговского театра. Человек он был интересный и как-то невероятно нужный Даниилу. Я могла только любоваться и радоваться, как они с полуслова понимали друг друга, как читали друг другу, как говорили, как совершенно, что называется, «нашли друг друга», словно два наконец встретившихся очень близких человека. Я не знаю, работал ли этот человек в ГБ или его просто вызвали, но он нас «сдал». И еще нас «сдала» моя школьная подруга. Тут, я думаю, ее вызвали. Вряд ли она пошла бы сама, но если вызвали, пригрозили, напугали, она, конечно, рассказала о романе «Странники ночи», о моих антисоветских воззрениях. Я не могу не простить их, хотя, когда вернулась из лагеря и однажды на улице увидала ее издали, у меня все как-то оборвалось внутри, не смогла подойти. Зла у меня нет ни на нее, ни на того человека, который был так дорог Даниилу каким-то своим духовным родством, как ни странно это звучит. Дело в том, что трагизм того времени невозможно разложить по полочкам, раскрасить черно-белыми красками. Это будет уже не та эпоха, не тот ужас, который так до сих пор и не понят до конца. И виноваты в этом люди, которые никак не хотят осознать всю немыслимую сложность трагедии России. Когда черные крылья распростерлись над страной, все сделалось черным и страшным. Поэтому люди, которые в других условиях никогда не совершили бы ничего плохого и подлого, в тех обстоятельствах – делали это.
А другие люди делали хорошее, потому что заставляли себя закрывать на все глаза и не воспринимать плохого. Таким был мой отец. Он был удивительным человеком, я другого такого просто не встречала в жизни. И не только я это понимала, а все, кто с ним общался, хотя в доме родителей никто никогда и не бывал, кроме родной сестры мамы и двух школьных приятелей отца. Но как он мог себя проявлять вот таким прекрасным человеком? Единственным образом: не видеть того, что делала советская власть. Просто смотреть и не видеть. Он не был членом партии, никогда и не собирался в нее вступать, но он был из тех людей, которые могли быть только честными. Если бы он позволил себе полностью все понять, тогда пришлось бы или вообще не жить, или становиться таким, как мы, что тогда называлось быть антисоветчиком.
Объяснить простыми словами то, что происходило, невозможно. Я помню, как с одной женщиной, честной и милой, мы заговорили о человеке, арестованном за то, что он «что-то сказал». И она совершенно искренно спросила: «Но ведь, может быть, он и правда что-то сказал?» Если человек серьезно думает, что можно арестовывать за какие-то сказанные слова, то чего еще надо?
Итак, мы приближались к концу. Когда Даниил написал книгу о русских путешественниках в Африке, она уже была в гранках и должна была скоро выйти, ему неожиданно предложили по телефону полететь в Харьков и прочесть лекцию по материалам этой книги. Даниил очень удивился, но почему бы и нет? Ему сказали: «Знаете, такая интересная тема, такая хорошая книга, мы предлагаем вам прочесть об этом в Харькове лекцию». Мы опять ничего не поняли. Даниил отправился 21 апреля 1947 года в эту командировку в костюме моего папы, потому что его собственный годился только для очень близких друзей, но не для официальной лекции.
Очень рано утром к нашему дому подъехала машина. Я вышла проводить Даниила. Он сел в машину, и она тронулась по переулку. Когда машина отъезжала, Даниил обернулся и посмотрел еще раз на меня через заднее стекло. И только тут меня кольнуло: точно так же один из героев романа «Странники ночи» Леонид Федорович Глинский обернулся, чтобы еще раз взглянуть на сестру, которая стояла у двери, провожая его. Глинского везли в тюрьму на Лубянку.
Даниила взяли по дороге. Мне прислали фальшивую телеграмму из Харькова. Она меня удивила, потому что была какая-то странная по стилю. Ну я удивилась – только и всего. Тот поэт, о котором я говорила, взял у нас роман Даниила, чтобы прочесть, и позвонил очень взволнованный:
– Как Даниил Леонидович?
Я отвечаю:
– Да все в порядке. Телеграмма из Харькова пришла. Он очень обрадовался, может, в ту минуту подумал, что все не так уж страшно. Он сказал, что хочет принести роман. Я возразила:
– Да не спешите, Даниил же вернется через два дня, тогда придете.
– Нет, нет, я принесу.
Он принес книгу, не вошел даже, а просто с порога отдал ее мне в руки. Книга была переплетена Даниилом.
Поздно вечером 23 апреля пришли за мной. Вошли трое. Капитан, возглавлявший визит, вел себя вполне корректно. Обыск был для него привычной и обыденной работой. Он длился четырнадцать часов. Всю нашу большую библиотеку перебирали по книжке: искали роман и стихи, о которых уже знали. В конце концов капитан сказал:
– Ну, сколько мы еще будем искать? Дайте рукопись.
Я подняла руку, взяла с полки «Странников ночи» и положила. Они бы не ушли без романа, но обыск продолжался бы не четырнадцать часов, а двадцать восемь.
В квартире никто не спал, и все время звонил папа. Всю ночь. Он, конечно, понял. Обычно мы перезванивались – просто услышать голос, узнать, что все в порядке. И тут папа позвонил поздно вечером. Трубку взял кто-то из них и казенным голосом ответил: «Ее нету». И так же он отвечал до утра. Все было ясно.
Меня из комнаты не выпускали. Один раз мне понадобилось в туалет, и меня провожал солдат. По дороге я сумела схватить свой тоненький дневничок. Даниил, как-то прочтя его, сказал смеясь: «Ну, знаешь, твой дневник ничуть не лучше „Странников“». Я это запомнила, ухитрилась его стащить и в туалете уничтожить.
Хотелось спать, просто ничего не чувствовать. Я не плакала, отвечала на какие-то вопросы. Когда обыск закончился и мы ждали машину, капитан оглядывал стены. Там висела работа, которую очень любил Даниил: букет белых роз на окне. Я писала ее, когда ждала его, – такой букет невесты.
– Это вы рисовали?
– Я.
Он кивнул на портрет Даниила:
– А это тоже вы нарисовали?
– Тоже я.
У нас в комнате висела еще очень большая коричневая репродукция «Джоконды» в необычной золотой парчовой раме. Капитан и на нее посмотрел:
– А себя тоже вы нарисовали?
Я сказала:
– Нет, это не я, и вообще это пятьсот лет тому назад нарисовано.
Я разговаривала с ним, но в то же время пыталась понять, где Даниил. В вазочке стояли цветы, я поставила, чтобы он их увидел, когда вернется из Харькова. Пыталась оставить ему кусок хлеба – поесть. Но одновременно я понимала, что и его уже взяли. Значит, я не останусь тут одна, я буду там же, где он…
Когда мы вышли в переднюю, в квартире стояла тишина. Меня провожала одна соседка. Муж ее отсидел, вернулся, и она сама тоже, так что уж кому бояться, так это им, а именно она вынесла мне кусок черного хлеба и несколько кусочков сахара: «Вам это пригодится». Я ее поблагодарила и сказала в ответ: «Вот, Анна Сергеевна, мои керосиновые талоны, возьмите их». Ведь не пропадать же талонам.
За мной подъехала легковая машина – не «воронок», а бежевого цвета. И меня повезли на Лубянку в новом очень красивом пальто, которое я успела поносить дня два. Мне его сшила мама. Книги, письма они увезли отдельно.
На Лубянке меня сразу повели вниз, в подвал, и я решила, что ведут пытать и расстреливать. Вот тут кончилось мое ошеломленное спокойствие, конечно, совершенно ненормальное, и я разрыдалась. А конвоиры смеялись. Они, видимо, привыкли к таким реакциям тех, кого тащат в подвал, тащили-то не пытать и расстреливать, как обычно ждали все арестованные, а просто брать отпечатки пальцев. Я была совершенно сломлена и заливалась слезами, плакала навзрыд. Я была убеждена, что Даниил уже расстрелян. И с того дня плакала несколько месяцев. Не сознательно, просто все время текли слезы. Говорили, что я и во сне плакала. Когда на первом допросе следователь о чем-то меня спросил, я перекрестилась, считая, что с Даней уже все кончено и еще немного и со мной тоже будет все. Только бы не очень долго пытали.
Так началась эта наша дорога: тринадцать месяцев следствия на Лубянке, а потом полгода – в Лефортово.








