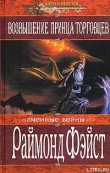Текст книги "Фэнтези-2005. Выпуск 2"
Автор книги: Алексей Пехов
Соавторы: Генри Лайон Олди,Андрей Уланов,Святослав Логинов,Александр Зорич,Роберт Шекли,Вера Камша,Роман Афанасьев,Кирилл Бенедиктов,Игорь Пронин,Алексей Бессонов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
Ромуальд закусил губу. Ему было стыдно признаться тестю, имеющему репутацию прославленного воина, в том, что свой любимый спаренный «КПВЗ» он заложил перед свадьбой, чтобы купить подарок невесте. (Золото, полученное от излеченного им князя, он берег.) К тому же, раз тесть предлагает ехать на охоту с пиками, делать нечего – не мочить же штаны! Дворянская честь дорога.
Хотя если уж честно, то пикой Ромуальд не владел совсем. Но он надеялся, что тесть при случае сумеет показать свое искусство, а там уж лавры победителей они поделят пополам, и вообще – ведь все равно тестева часть рано или поздно достанется ему по наследству.
Видя, что любимый зять вполне снаряжен для предстоящей экспедиции – на нем были латы, пожарный шлем, а вместо белья – ОЗК, – барон кликнул пажей и велел немедля готовиться к охоте. Сам же, извинившись перед зятем, спустился в подвал. Наполнив не одну и даже не две фляги, он коротко задумался и, вздыхая, все же отворил запретный оружейный сейф. Некоторое время ушло на то, чтобы набить патронами непокорный диск пулемета. На самом-то деле папаша Ромуальда несколько ошибся – Кирфельд выиграл в кости вовсе не «Льюис», а старый проверенный «дегтярь», но так было даже лучше.
Все еще вздыхая, барон облачился в свой старый ОЗК, приладил охотничий панцирь и, спрятав под плащом пулемет, вышел на двор, где его уже ждали зять и свита. Верный Пупырь, чуя недоброе, колотил хвостом и шипел на бегавших у него под ногами поросят.
– Он под водопадом! – вскричал зять, горяча своего мерина. – Не более двух лиг! Поспешим же, ваша милость! Нас ждет слава!
«О, черт, – удивленно подумал Кирфельд. – И с какой стати этой несчастной ящерице вздумалось поселиться на моей земле? Места, что ли, мало?»
Ободрив достойного юношу взмахом фляги, он скомандовал играть зарю и первым выехал за ворота замка. К счастью, супруга его была на дальнем свинарнике, и, таким образом, препятствовать сему походу было попросту некому.
Проскакав около лиги, они заслышали далекий еще шум водопада. Ромуальд крепко сжал начищенную до нестерпимого блеска пику, выданную ему старшим оруженосцем барона, и посмотрел на своего тестя. Тот невозмутимо покуривал «Казбек», более того – невесть почему успокоился и Пупырь, с любопытством оглядывающий окрестности. Мерин же Ромуальда тем временем с каждой минутой вел себя все более нервно.
Молодой дракономахер прислушался к себе и, о ужас, вдруг ощутил приближение диареи. Тесть его тем временем поднял над головой флягу, и ароматный напиток полился прямиком в его глотку. В тот миг Ромуальд осознал, что кишечник вот-вот выйдет из-под контроля. Это было ужасно. Позор никак не входил в его планы.
– Пришпорим наших коней, дорогой тесть, – проговорил он, стараясь не выдать дрожи в голосе. – Наша цель уже близка.
И, едва дав шпоры своему мерину, тут же свалился оземь. Содержимое кишечника немедленно нашло себе дорогу, но, благодаря прорезиненному костюму, не сразу дало о себе знать.
– Что с вами?! – вскричал Кирфельд, тотчас останавливая своего скакуна. – Вы ранены?
– Боюсь, что да, – простонал дракономахер, испытывая неодолимое желание ощупать задницу, – мой конь, увы, бывает столь неуклюж…
– Очень неосмотрительно с вашей стороны отправляться на охоту на ненадежной лошади, – воскликнул барон. – Пьеро, Жакоб! Что вы стоите как два барана? Немедленно берите господина маркграфа и везите его домой!
– А вы, любезный тесть? – простонал Ромуальд, в то время как двое пажей, страдая от невозможности зажать носы, тащили его в сторону обозной телеги.
– Не в моих правилах бросать начатое дело! – флегматично ответствовал барон, вытряхивая из пачки новую папиросу. – Прощайте, дорогой зять! Надеюсь, я смогу навестить вас за ужином!
И, сказавши так, он пришпорил верного Пупыря.
Вскоре впереди показался могучий водопад. Пупырь, сторожко прядая ушами, подошел к самой воде, и тогда барон, нисколько не стесняясь бьющих в лицо ему брызг, горделиво выпрямился в седле и бросил клич:
– Выходи, подлый дракон! Выходи на честный бой, и пусть судьба рассудит… – А что нужно говорить дальше, он позабыл, поэтому предпочел достать флягу.
– И шо, тебе вот это надо? – неожиданно прогудел чей-то голос, идущий, как показалось славному Кирфельду, прямо из-под копыт его коня.
– Ты кто? – недоуменно вымолвил он, оглядываясь по сторонам.
– Хто, хто, – фыркнуло в ответ. – Ходют тут всякие. Шо ты орешь как подорванный? Пришел, так говори что-нибудь.
Барон сделал два или даже три глотка да так и застыл с флягой в руке.
– О, – раздалось из-за водопада, – а шо это у тебя? Медовый, что ли?
И раздался шум, напоминающий шипение паровоза.
– Точно. Медовый. Слышь, мужик, так это ты, что ли, пчел на Сизом лугу разводишь?
– Я, – признался Кирфельд. – Точнее, для меня. А я гоню. А что?
– Да ты уж заходи, что ли? – предложил все тот же таинственный гулкий голос. – Или воды боишься?
– Я? – обиделся могучий барон. – Ну вот еще…
Пупырь противу всяких ожиданий прошел сквозь водопад не только без страха, а еще и с удовольствием. Едва оказавшись во влажном полумраке, барон с ужасом разглядел гигантское гладко-золотистое тело, свернувшееся клубком в глубине пещеры. Такие же золотые, правда, с зеленоватым отливом, смотрели на него огромные глаза зверя.
– Так это ты, получается? – изумился барон.
– Вот всегда всех идиотов страшно удивляет тот факт, что драконы умеют говорить, – вздохнуло чудище. – А еще и думать. Вот ведь хвеномен, а? Ну давай уж, шо там у тебя? Я ж чую, шо с медом.
Плохо соображая, что он делает, храбрый Кирфельд протянул дракону флягу, а сам снял с верного Пупыря другую, ничуть не меньше прежней. Более всего его поражало то, что конь отнюдь не ощущает страха, а, напротив, с кошачьим любопытством осматривается в жутком логове и беспрестанно нюхает воздух.
– М-м-м, ничего так, – констатировал дракон, отпив добрую половину фляги. – Как звать-то тебя, убивец?
– Кирфельд, – машинально ответил барон и на всякий случай поправил пулемет под плащом.
– А меня вот – Шон, – вздохнуло чудовище. – Ничего себе имечко, да?
– Всякое бывает, – вздохнул Кирфельд, разглядывая своего неожиданного собеседника.
Только сейчас он вдруг понял, что дракон на самом деле красив. Его золотистое тело не вызывало ни тени отвращения, напротив – гладко-золотое, оно восхищало плавным совершенством своих мягких, живых линий.
– Попробуй-ка моего, – предложил Шон и, изогнувшись, выпростал из-под себя почти человеческую руку – рука пошарила на полутемной полке, чтобы вскоре поднести барону изящный глиняный кувшин с притертой пробкой.
– У меня окорок есть, – сказал барон, принюхиваясь.
– О, – обрадовался дракон. – Так шо ж ты страдаешь как потерпевший! Мне уже три дня ни одного порося не приносили – дождешься от твоих пейзан! С голоду тут сдохнешь… слушай, а это правда, что у вас на землю частной собственности нет?
– Правда, – удивился Кирфельд. – Я, в сущности, тоже герцогов арендатор. А что?
– Дурдом, – почему-то вздохнул дракон. – Ладно, какое это в общем-то имеет значение… как тебе продукт-то мой?
– Я не пойму, – признался барон. – Он что, на перце, что ли?
– А то. Его, конечно, если по-хорошему, так под борщик надо. Но под щи тоже покатит.
Барон задумчиво погонял во рту добрый глоток непривычного ему продукта. При мысли о том, что такую замечательную вещь можно и, наверное, нужно потреблять именно под щи с кислой капустой, ему сразу захотелось есть. Он оторвал себе небольшой кусок от прихваченного из дому окорока, протянул остальное дракону и присел на краешек здоровенной каменной скамьи.
– Слушай, а как ты с брагой-то? – спросил он.
– Да как, – вздохнул Шон, – пейзане твои то пшенички, то еще чего принесут. Буряк опять же, куда без него. А котлы у меня там. – Он махнул хвостом, указывая в темную глубину бездонной пещеры. – Это я их с собой…
– С собой? А сам-то ты откуда?
– Откуда… – Дракон отломил изрядный кус окорока и заработал челюстями. – Отовсюду. Последние сто лет в Житомире жил. Фейерверки детишкам, погоду летал разведывал. Так выгнали…
– За что? – поразился такой несправедливости барон.
– За то. Я ж продавал – ну, хорошим людям, понятно. А теперь, при новой власти, говорят, без лицензии нельзя. Раньше было как? Участковому канистру нацедил, и полное тебе уважение. А теперь тот участковый на подписке сидит, а мне говорят – хочешь, покупай лицензию, строй себе завод, все по закону. А еще говорят, мы тебя к ВВС припишем. Не хватало!
Дракон шмыгнул носом и раздраженно махнул рукой с зажатым в ней окороком.
– Слушай, – проникновенно начал барон, в благородном уме коего уже зрела удивительная идея, – а пошли ко мне, а? Хозяйство у меня приличное, ну да не в нем дело… мы вот твой с перчиком и мой с медом… да мы такое сварим!
– А жена твоя? – покосился недоверчиво Шон. – Разное ведь говорят… я, ты пойми, тебя обидеть не хочу, но у тебя еще и зять – этот вот… махер…
– Да плевать! – возопил барон, заставив содрогнуться стены пещеры. – Мы ж с медом да с перцем! Да через активированный уголь ежели пропустить! Эх-х!
На этом наша история заканчивается. Хотя на самом деле все, конечно, только начиналось.
Правда?
ПРОКЛЯТИЕ ЛЮБВИ
Юлия ОстапенкоСТИГМАТЫ
Жизнь нас ничему не учит; так говорят, но какая же это глупость.
Сегодня очень чистое небо. Надо сказать, редкость для этих мест: ни облачка, не говоря уж о тучах. Солнца, впрочем, тоже нет, но как раз это неудивительно. Здесь его никогда не бывает.
Я выхожу во двор, на ходу поднимаю воротник плаща, по-прежнему смотрю на небо. Странное небо, до чего же странное. Нет, я уже давно перестал воспринимать подобные мелочи как счастливое предзнаменование. Смешно, раньше я любую ерунду принимал за благоприятный знак. Не сразу, конечно: только когда здешняя зараза въелась в меня до мозга костей. Чёрт, да тут ведь все верят в предзнаменования. И, что характерно, только в хорошие. Они зерно сеют, только если его чёрная курица поклюёт. Я как-то спросил мамашу Эклиф, отчего так, а она только плечами пожала. Понятное дело: сила привычки. Вот и со мной так же. С чего я взял, что ясное небо – это хорошо? Может, потому, что это бывает нечасто? Ну хоть изредка, хоть время от времени можно давать мне шанс? Настоящий шанс, а не ту иллюзию, которой ты пичкаешь меня уже… не надо, не надо, прекрати, я не знаю, какой уже год.
Так о чём это я? Жизнь нас ничему не учит? Чушь. Она учит тому, что мы никогда не захотим учиться. Это слишком больно. И физически – тоже. В моём случае.
– Тпр-ру, скотина, пошла! – хрипло горланит старина Патрик, нещадно пиная вьючную кобылу. Бедняжка тужится из последних сил, налившиеся кровью глаза вылезают из орбит, пена клочьями свисает с оттопыренной губы, от надсадного хрипа разрывается сердце, сбитые копыта загребают землю. Патрик лупит её с усердием, достойным похвалы. Я могу его понять. В последнее время бедняга совсем сдал. Он очень много пьёт. Порой я составляю ему компанию, мы надираемся на пару под старым предлогом «кто кого перепьет», и меня приносят к Нерине тёпленького и размякшего, чтобы она меня утешила или высекла – в зависимости от настроения. Сечь она любит, это правда. У неё есть небольшая склонность к садизму, но моя девочка очень стесняется этой слабости, и мне приходится самому давать ей повод. Так безопаснее.
– Да пшла-а же ты! – надрывается Патрик, и кобылка надрывается следом, и вот так они надрываются вдвоём: старик-извозчик и вьючная лошадь вместе, в унисон. Это тоже своеобразная гармония. Я немного завидую им: мне не дано даже такой.
В этой части замка сейчас тихо: после полудня активность челяди перемещается под крышу, в кухню, мастерские, пыльные душные залы… нет, что это я – в ослепительные великолепные залы, сверкающие блеском тысяч начищенных плиток, зеркал… что ещё, канделябров? Да… Нет. Нет, нет. Чёрт подери, один только раз Нерина имела неосторожность показать мне, как всё обстоит на самом деле, а я не могу забыть. Этой пыли, паутины, могильного холода, веющего из продуваемых сквозняком коридоров…
Залы, светлые залы. Пышность и великолепие, тепло и уют. Старина Патрик, мамаша Эклиф, вьючная кобылка, мучительно кряхтящая в пяти шагах от меня. Протяну руку, коснусь тёплой шелковистой морды, влажный нос ткнется мне в ладонь. И я снова подумаю – с изумлением, с восхищением: чертова ведьма!
Ведь ничего этого нет.
Интересно, неба без облаков нет тоже?.. Хотелось бы верить, что она ещё не сумела дотянуться так высоко. Хотелось бы верить, что хотя бы это она мне оставила.
Но чёрт с ним. Каждый раз я говорю себе: чёрт с ним, каждый раз встряхиваю головой, поднимаю воротник плаща (а плащ настоящий? да? ты так думаешь?), хмурюсь, твёрдым шагом пересекаю двор, иногда не удерживаясь от соблазна перекинуться парой фраз со слугами, которых, я знаю, не существует вне моего воображения – вне иллюзии, которая заменила мне настоящий мир. А иногда…
– Рэндал!
Она одна умеет так произносить моё имя. Я понял это, как только она сделала это впервые – много-много лет назад; оно спорхнуло с ее губ, как мотылёк, пугливо срывающийся с цветка за миг до того, как вы сжимаете его тонкие крылышки грубыми мозолистыми пальцами. И вам остаётся только смотреть на лениво колышущуюся головку цветка. Смотреть до тех пор, пока вы не поймёте, что это мак.
Поэтому – именно поэтому – я останавливаюсь, хотя, казалось, уже решил: чёрт с ним! – останавливаюсь и оборачиваюсь, и смотрю вверх, щурясь от нестерпимо яркого света. Ну, что на этот раз?.. Как всегда или…
Я вижу Нерину в окне ближайшей башни, на самом верху. Она высунулась в окно по пояс, наклонилась вниз, белые, как иней, волосы струятся по опрятной каменной стене. Я щурюсь сильнее, словно близорукий, стискиваю зубы, с силой кусаю себя за язык – не так давно я обнаружил, что внезапная острая боль помогает на миг сбросить оковы её чар, – и действительно долю секунды вижу хищно изогнутый, обугленный скелет готовой обрушиться башни, вижу изломанные ветки мёртвого плюща у окна, вижу чёткий оскал обтянутого тухлой кожей черепа… Или не вижу. Вот, уже и не вижу. И кто разберёт, не было ли это плодом моих… не фантазий (здесь все свои, не надо эвфемизмов) – галлюцинаций. Да, назовём вещи своими именами. Давно пора сойти с ума, давно пора.
– Рэнда-ал! – отчаянно зовёт она и тянет вниз белоснежные руки. Я сухо улыбаюсь, посылаю ей воздушный поцелуй, она всплёскивает голыми руками, сердито качает головой. – Ты опять?!
– Опять, душа моя, опять, – говорю я сквозь зубы и отворачиваюсь. Услышала, не услышала, не важно. Она всегда говорит «Рэндал, ты опять!», и всегда я отвечаю одно и то же, только разными словами.
– Ну перестань! – доносится до меня ее низкий, бархатистый альт, когда я уже шагаю к замковым воротам. – Это уже становится просто смешно! Слышишь?!
В этом она, пожалуй, права. Мне не уйти. Я прекрасно это понимаю, но нет в мире силы, которая могла бы заставить меня прекратить попытки. Я все надеюсь: вдруг… вдруг настанет день, и я…
– И ты что? – кричит Нерина из окна; кажется, она всерьёз сердится. Почему, непонятно, я ведь не уходил почти неделю.
Мне тоже это надоело, Рин, хочу сказать я. Ей-богу, так надоело. Ну отпусти ты меня. Просто – позволь мне наконец уйти. Ты же знаешь, что я тебя ненавижу. И я не верю, что тебе настолько нравится моё тело. Так зачем же ты мучаешь нас обоих? Ты ведь страдаешь тоже, я вижу. И не испытываю к тебе ни малейшего сочувствия. А от этого еще больнее. Что же ты за человек, что ты за женщина, хоть и ведьма, если способна терпеть такое?
Я очень хочу сказать ей это. Но не говорю. Потому что ей и так известны мои мысли. Это самое малое из того, на что она способна.
На что еще способна моя Нерина? У вас богатая фантазия? Ну так прикиньте, каким – примерно – может быть могущество ведьмы, два тысячелетия живущей в полном одиночестве на самом северном краю мира. Я подчёркиваю: в полном одиночестве. В глубине души она очень, очень стеснительна. И никогда не стала бы демонстрировать своё могущество глупому и грубому миру. Пускать пыль в глаза – это не в её духе. Вот и живет одна уже сколько столетий. Вы спросите: а как же я? А я не в счёт. Порой я сомневаюсь, не выдумала ли она меня.
Впрочем, если верить Нерине, я не первое ее увлечение (Она это так мило называет – увлечение. Страшно подумать, что бы она вытворяла, если бы влюбилась по-настоящему). Раньше у неё было несколько пассий. Все они, как я понял, закончили свою дни плачевно. По правде говоря, она их попросту замучила. Может, запытала в своих уютных подвальчиках, а может, заездила до смерти на шестиспальной кровати, которую я в последние годы ненавижу почти так же сильно, как саму Нерину. Но с ними она упорно пыталась опровергнуть народную мудрость «Насильно мил не будешь» и, как это всегда бывает в стычках с народными мудростями, потерпела поражение. Мне повезло больше. Я всего лишь не могу уйти.
Или могу?
Да, я могу. Вот и сейчас, оставляя за спиной её обиженные гортанные выкрики, я подхожу к воротам. Иствик, неуклюжий полноватый привратник с вечно тупой алебардой под мышкой, привычно клюёт носом, крепко сжимая в кулаке связку ключей. Я дружески хлопаю его по плечу, он мгновенно открывает глаза, говорит: «А! Милорд! Вы снова…», и я только усмехаюсь в ответ, хотя внутри всё холодеет от жалости, скользящей в глазах старика. Это тоже иллюзия, не правда ли, Нерина? Ты специально поставила его сюда, чтобы помучить меня ещё больше перед самым выходом… Хотя я знаю, что, даже будь Иствик настоящим, живым, я видел бы в его глазах всё то же едва уловимое, несмелое сострадание.
Не надо, старина. Я самый несчастный человек в этом проклятом месте. Знаю и без тебя.
Он вздыхает, кряхтит, отпирает свою кибитку, приводит в действие незамысловатый механизм. Ворота со скрипом опускаются. Густая коричневая пыль медленно вздымается клубами, тянется к непривычно, подло ясному небу.
Я выхожу на свободу.
Здесь другой воздух. Еще не свободный, но уже – почти… Слева море, бездны воды, проклятой воды, по которой много лет назад мы прибыли в это кошмарное место. Спереди и справа горы. Сизые, неимоверно высокие. Где-то за ними – настоящий мир. Мир живых людей, живого солнца. Где-то там осталась Гвиневер. Но она, наверное, давно уже умерла. Наш сын давно умер, и его дети, и его внуки тоже. Здесь, по эту сторону гор, нет времени. Здесь нет смерти, нет жизни, только умирание. Я когда-то слышал, что эти места называют Зимней Агонией. Зимы здесь, впрочем, тоже нет. Когда я впервые рассказал об этом Нерине, она засмеялась, но это был странный смех. Никогда больше она так не смеялась.
Я иду быстро, подняв голову, не сводя глаз с гор. Ни одному человеку не удавалось их перейти. И даже если случится чудо, даже если я дойду до них на этот раз, мне их не одолеть. Там страшный холод, и снег, и ветер, и нет воды, и не растёт даже чертополох. Я умру в этих горах. Но лучше там. Господи, лучше бы там. На свободе.
Что? Да, я тоже думал, что это глупости, чёртовы сентиментальные глупости. Первые десять лет.
Чем дальше, тем холоднее, тем свежее воздух, тем сильнее запах моря, хотя на самом деле я от него удаляюсь. Но еще даже близко нет того щемящего, почти вызывающего слезы чувства, когда начинает казаться, что да, да, ДА, я смог, слышишь, гребаная ты стерва, я всё-таки СМОГ! Восхитительное чувство – наверное, оно даже стоит того, чем я за него неизменно расплачиваюсь. Иногда оно приходит позже, иногда раньше, но ни разу мне ещё не удавалось достичь гор. Однажды подошёл почти вплотную. Странный случай, кстати – тогда я сильно болел, от кашля просто лёгкие разрывались. Сразу после того, как я бросился в море, хотел… да нет, не утопиться. Не даст она мне утопиться. Хотел вплавь добраться до людей. Разумеется, птички-сестрички вытащили меня, но к тому времени я успел основательно нахлебаться ледяной воды. Провалялся с лихорадкой недели две. А потом, едва смог подняться, ушёл. И надо же, выдержал как никогда долго. Но все равно – не до гор.
Я никогда не выдерживаю до гор.
Я никогда не могу уйти.
Потому что рано или поздно, как бы я ни спешил, как бы ни держался, у меня на ладонях открываются стигматы.
Я останавливаюсь, круто оборачиваюсь, вскидываю голову. Они уже тут… Милые-милые, птички-сестрички… Мизариэль и Патоэль, сволочные твари, чья внешность и нрав полностью отражают натуру их создательницы. Полуженщины-полуптицы с человеческими лицами, с торсом и руками первобытных людей, с мощными обвислыми крыльями за накачанными плечами. У них очень милые улыбки. Они всегда улыбаются. Когда тебя хватают за шкирку и пихают мордой в твоё собственное дерьмо, конечно, гораздо приятнее видеть на лице того, кто тебя унижает, ласковую и дружелюбную улыбку. Нет, правда. Они очень меня любят. Нерина очень меня любит. Просто любовь у них такая же, как они сами.
Зимняя Агония… Красиво, да?
Мизариэль и Патоэль парят надо мной пока ещё вдалеке: ведь я прошёл совсем мало. А они никогда не торопятся. Они дождутся, пока ладони у меня треснут ровно по линии жизни, изрыгая тёплую яркую кровь, они двинутся по алым следам, которые я оставлю на твёрдой серой земле. Они будут лететь, паря надо мной неспешно, задумчиво, словно стервятники, пока я не упаду без сознания, вконец обессилев от потери крови, а потом возьмут меня своими сильными мускулистыми руками и отнесут к нашей повелительнице – обратно. Она наложит заживляющее заклятие на мои раны, споёт мне песню про лорда Рэндала и вытрет мои взмокшие от пота виски.
Потом я отдохну немного. И все повторится сначала.
И сначала.
И сначала.
Так хочется добавить: до самой смерти, но смерти здесь нет. Одна только агония.
Если задуматься, это очень удобно. Мне кажется, она давно придумала этот способ – задолго до того, как корабль, на котором я плыл, прибило бурей к её берегам. Она убила всех, кроме меня. Чем-то я ей понравился. И никогда, ни одной минуты я не думал, что мне повезло – даже в самом начале. Ее дружелюбие и любезность меня не обманули. Я сбежал в тот же день и, помню, страшно удивлялся, что за мной не было погони. Только эти птицы, не пытавшиеся напасть, – просто спокойно парившие чуть в стороне, пока я, задыхаясь, мчался по скалистой пустоши к морю… В тот раз я прошёл совсем немного. Никогда мне не забыть ужаса, который охватил меня, когда из моих ладоней начала сочиться кровь – сама по себе… Я застыл, глядя на истекающие кровью руки, а птички-сестрички уже были рядышком, ласковые, улыбчивые – ну, нагулялся? Они отвели меня обратно; я был так шокирован, что и не думал сопротивляться. А кровотечение прекратилось, лишь только я ступил в замковые ворота. Теперь оно прекращается совсем быстро – иногда птички даже не успевают приземлиться. А я уже знаю. Она опять победила.
Рэндал, опять?!
Опять.
И опять, и опять – я иду по серой пустоши, сначала глядя прямо перед собой, потом низко пригнув голову под порывами ветра, тянущегося с гор. Я затылком чувствую их жёлтые глаза без зрачков, их ядовито-простодушные улыбки. О чём они говорят, когда остаются одни? Им-то это ещё не надоело? Им хоть что-нибудь в мире может надоесть? Их хотя бы двое… Попросить, что ли, Нерину вылепить мне из тумана брата-близнеца? А впрочем, было уже. Она быстро начинает ревновать, а меня бесит её ревность. Фантом все равно умрёт страшной нарисованной смертью в камере пыток, я напьюсь со стариной Патриком, а она меня высечет. По причинным местам. А потом будет плакать, жалеть, говорить: бедный мой, бедный…
Стоп, что это я?! Я не вернусь! Надо думать так: я не вернусь. На этот раз всё у меня получится. Небо-то ясное, правда? Небо ясное… Птички-сестрички в ясном-преясном небе… Здесь никогда не бывает других птиц. Интересно, а чем питаются наши канареечки?
Я останавливаюсь снова, оборачиваюсь: птички уже ближе, а прошёл я даже больше, чем думал. Горы, правда, ещё далеко, но силуэт замковой стены уже подёрнулся сумраком. На таком расстоянии иллюзия не действует, во всяком случае, целиком, и я вижу Зимнюю Агонию такой, какова она на самом деле: заброшенный заплесневевший склеп, населённый полуразложившимися трупами. Здесь это не так пугает. Как ни крути, лучше быть на таком от неё расстоянии. Никак не ближе. Вырыть тут землянку, что ли?
Я чувствую влагу в ладонях. Уже?! Нет, это только пот… пока. Ну да, в самом деле. Землянка – это не то… Это конура для любимой собачки. Это не свобода. Свобода дальше. Ещё немного дальше. Там, где я начинаю почти верить: я смог… на этот раз я смог…
На этот раз я смог пройти столько же, сколько проходил обычно в последние несколько лет. Примерно треть расстояния до хребта. Один раз глотнул пронзительного, обжигающего горного воздуха. Стало холодно, свежо. Птички сохраняли дистанцию, но такая тактичность с их стороны была излишней.
Я поворачиваюсь лицом к замку, сажусь на землю, вытираю ладони о камни, не сводя взгляда с подёрнутого дымкой силуэта моей далёкой тюрьмы. Камни быстро становятся красными, ладони – грязными. От заражения крови я тоже не умру; пробовал. Я никогда не умру.
Я никогда не умру. Теперь это уже не пугает меня так, как раньше. Наверное, я привык к этой мысли. Нерина всё только смеётся: «Как говорили древние, трудно только первую тысячу лет…» А я ещё и сотни здесь не пробыл. Господи, сколько же моей крови выпила эта земля? Что могло бы вырасти на ней, если бы…
Мысль я закончить не успеваю: Мизариэль и Патоэль плавно пикируют на землю, пригибаются в прыжке, распрямляют стройные спины, идут ко мне, улыбаются. Прогулка окончена. Теперь, мальчик, умыться и – спать…
Спать…
Может, мне стало бы легче, если бы я сумел убить кого-нибудь из них. Но я и этого не могу.
– Что так по-оздно вернулся, лорд Рэндал, мой сын…
Голова раскалывается. Всегда она раскалывается, словно с перепоя. Тело подрагивает от иссушающей, испепеляющей слабости. Нет сил даже руку поднять, а уж тем более сказать: «Заткнись». Но придётся. Долго я этого не выдержу.
– Что так по-оздно вернулся, о мой паладин…
За… за-мол-чи-же.
– Я охо-отился, мать, постели мне постель, я уста-ал на охоте и креп-ко ус-ну-у…
– Заткнись же ты! – кричу я, стиснув веки: плотно-плотно, чтобы ни один луч проклятого мёртвого солнца, которого даже нет, не просочился сквозь этот заслон и не сжёг мне глаза.
Что-то мягкое касается моего лба. Батист. Уже успевший вымокнуть насквозь. Я осторожно прижимаю подрагивающие от усталости пальцы к ладоням, нащупываю вечно живые, вечно свежие шрамы, уже много лет заменяющие мне линию жизни. Не больно. Но пока еще холодно. Нехорошо мне что-то…
Пока меня тошнит, Нерина заботливо придерживает мою голову. Потом помогает лечь, оправляет задравшееся одеяло, поднимает с пола золочёный таз, придерживая его перед собой, как прачки держат корзины с бельём. Только на моей Рин зеленая парча, а не выцветший хлопок, и в руках у неё золото, а не пенька. Правда, в ёмкости отнюдь не пахнущее морозной свежестью бельё. Очень символично, кстати: парча и золочёный таз с блевотиной. Чертовски символично.
– Почему ты так не любишь эту песню?
– Она у меня уже в печёнках сидит!
– Мне кажется, очень подходит.
– Иди ты…
Она заливается грудным смехом, очень сексуальным. Первое время мне даже нравился этот смех. Разговоры у нас всегда одни и те же: из года в год. Почти ритуал: ничего не меняется. Наверное, это бесит меня больше всего. Все ещё. До сих пор.
Нерина отдает таз служанке, розовощёкой дурнушке с пухлыми губками и бородавкой над бровью (порой изобретательность моей девочки просто умилительна!), снова садится рядом со мной, скрывшись в тени балдахина, берёт мою руку тонкими холодными пальцами. Они всегда остаются холодными. Мне кажется, это та малая толика правды, которую она не может спрятать даже от себя.
– Рэндал, ну зачем ты?
– Что – зачем я? Что – зачем?
– Зачем ты уходишь?
– Я всегда уходил. И всегда буду.
– Зачем, зачем? – Она уже почти плачет. В такие минуты мне её немного жаль. Но это только потому, что, пока кровь не заструится по сосудам в привычном объёме, на злость просто нет сил. – Ну что такого есть там? Что из того, что не могу дать тебе я?
Это тоже часть ритуала. Я давно ответил ей на этот вопрос и давно понял, что ответа она просто не слышит. Он выпадает из её сознания, из её памяти – он вне сферы её восприятия. И это, наверное, тоже можно понять. Я стараюсь…
Гвиневер? Да нет, я уже почти не думаю о ней. Как не думаю о земле, которую считал своей родиной. Вспоминается почему-то колодец во дворе дома, где я вырос. В детстве я любил спускаться в него днём, забравшись в кадку (младший брат всегда стоял наготове и вытаскивал меня по первому крику). Говорят, днём из колодца видны звёзды.
Я когда-то попробовал рассказать об этом Нерине. Она ужасно растрогалась и долго плакала. А я после этого не мог вспоминать о том колодце без отвращения. Странно, что я раньше не понимал, какая все это глупость.
Знать бы, что надо вспоминать. К чему надо хотеть вернуться.
– Я же даю тебе то, что никто никогда не даст, – шепчет она, прижимая мои пальцы к своей щеке. – Вечную молодость, вечную жизнь… Ты бы уже давно умер в том… в том мире.
– Я и так давно умер, – отвечаю я и, отняв руку, отворачиваюсь к стене. Нерина вздыхает (слуезы сегодня будут? нет? из года в год она становится все плаксивее), сидит ещё немного, несмело гладит меня по голове, поднимается. Вот сейчас скажет… сейчас…
– Ничего. Когда-нибудь ты привыкнешь.
Все. Ритуал завершён. Теперь она даст мне выспаться. Эти вечно безуспешные попытки побега отнимают чертовски много сил. Интересно, жаль ли ей меня хоть немного? Или ей на самом деле нравится наблюдать, как я тупоголовой мухой бьюсь о стекло, не замечая непреодолимой преграды? Она умеет черпать в этом одной ей ведомое наслаждение? Почему-то мне с трудом в это верится. Мне кажется, она была бы по-настоящему счастлива, если бы я просто любил ее, как она того хочет. Она ведь пыталась показать мне настоящую себя. Просто не учла, что нет человека, способного выдержать это и не сойти с ума.
Нерина не уходит; я слышу её дыхание. Вот ведь дрянь, отошла и села в углу, думает, что я не замечу. Ну ладно, к чёрту. Хотя я всё равно не могу заснуть в её присутствии, особенно если она сидит у меня за спиной, глядя мне в затылок глазами птичек-се-стричек, улыбаясь мне в спину их сладкой безжалостной улыбкой. И мне остается только лежать, и смотреть в стену, и вспоминать, как давным-давно она пыталась открыть мне часть той правды, которой смертный вынести не может.
А ведь я сам упросил её. Меня снедало болезненное любопытство: хотелось знать, как она выглядит, как выглядит место, которое она называла моим новым домом и которое на самом деле было моей тюрьмой, кто приходит к ней вечерами, когда она закрывает восточную часть замка и оттуда до утра доносится странная, очень медленная музыка, словно идущая из-под земли… Она отпиралась долго, ломаясь и жеманясь, хотя я видел, что ее ужасно взволновала эта идея. До сих пор не понимаю, как можно прожить без малого две тысячи лет и быть такой наивной. Впрочем, это, наверное, моя вина. Не знаю, почему, но Нерина вообразила, будто я в самом деле люблю её. А я понял это слишком поздно. Ведь не могла же она принять за изъявление нежных чувств яростную страсть, с которой проходили наши первые ночи?.. Как оказалось, могла. Глупо было с моей стороны не понимать этого: почти любая женщина воспринимает секс как форму объяснения в любви. И почти любой мужчина слишком эгоистичен, чтобы раскрыть ей глаза раньше времени.
![Книга Попаданец. Герой [СИ] автора Алексей Поправов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-popadanec.-geroy-si-135591.jpg)