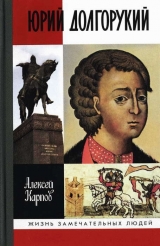
Текст книги "Юрий Долгорукий"
Автор книги: Алексей Карпов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
КАЗНЬ БОЯРИНА КУЧКИ
Длительное пребывание князя в Суздальской земле не могло не привести к обострению отношений между ним и местным боярством. Процесс вовлечения Северо-Восточной Руси в государственное строительство приобрел при Юрии Долгоруком необратимый характер. Это проявилось и в строительстве новых княжеских городов и возведении церквей, и в формировании границы княжества, и в более стройной и жесткой структуре власти, возрастании роли княжеской администрации, распространении законов на всю территорию Суздальской земли, упорядочивании сбора дани и судебных штрафов. Далеко не всем происходящие изменения должны были прийтись по вкусу. Тем более что вместе с князем в Суздальской земле обживались и его приближенные, изначально не имевшие здесь корней. Им также требовались и земля, и рабочая сила, и немалые денежные средства, и их интересы, естественно, не совпадали с интересами местной знати.
О том, сколь многочисленным было окружение князя, можно судить хотя бы по истории появления на Руси семейства варяга Шимона. В 60—70-х годах XI века его «дом» насчитывал до трех тысяч человек{107}. Вероятно, сын Шимона ростовский тысяцкий Георгий имел при себе немногим меньшее число родичей и домочадцев – ведь от этого напрямую зависели и его социальный статус, и возможность осуществлять функции тысяцкого по всей территории княжества. Имя одного из бояр Георгия Шимоновича приведено в Киево-Печерском патерике: это некий Василий, которому, как мы помним, ростовский тысяцкий поручил отвезти драгоценный дар киевскому Печерскому монастырю.
О богатствах, которые скопил в своих руках Георгий Шимонович, мы также уже говорили в предыдущих главах книги. И он сам, и его потомки, по всей вероятности, располагали в Суздальской земле и земельными владениями. Правда, судить об этом можно лишь предположительно. В Александровском районе Владимирской области до сих пор существуют села Большое и Малое Шимоново; в XIX веке известно было также село Шимониха (по дороге из Ростова в Суздаль). Еще одно Шимоново расположено недалеко от Можайска. Полагают, что столь необычные для европейской России древние названия восходят к имени варяжского воеводы и его потомков{108}.
С конца 30-х годов XII века окончательно прекращается передача части «суздальской» дани в Киев. Перераспределение «избытка» прибавочного продукта, его сосредоточение в руках князя должны были привести к изменениям в механизме работы княжеской администрации. Да и войны, которые Юрий вел или собирался вести на юге, требовали очень больших издержек, а значит, и более жесткого взимания дани и судебных штрафов, составлявших основу княжеского бюджета.
Некоторые примеры того, как именно действовали представители княжеской администрации, можно найти в более поздних источниках владимиро-суздальского происхождения. Так, например, из Жития преподобного Никиты, столпника Переяславского, жившего во второй половине XII века в Переяславле-Залесском (между прочим, городе, основанном Юрием Долгоруким), известно, что до принятия монашеского пострига этот почитаемый в будущем русский святой был «мытарем» (сборщиком податей) и вел далеко не праведную жизнь: «прилежа градскымь судиямь и мног мятеж и пакости творяше человеком неправеднаго ради мьздоимания, и тем питаше себе и подружие свое (то есть свою супругу. – А.К.)»{109}. В чем заключалось «неправедное мздоимание», догадаться нетрудно. При сборе дани и взимании судебных штрафов («вир») «мытари» и «вирники» не забывали и о своих интересах. Установления «Русской Правды» четко определяли размеры полагающегося им вознаграждения: сколько и каких продуктов должно было идти на корм самому «вирнику», княжеским «мечникам», их слугам («вирнику взяти 7 ведер солоду на неделю, же овен, любо полоть (полтуши. – А, К.)… а кур по двое ему на день, а хлебов 7 на неделю…» и т. д.{110}); сколько кормов и в течение какого срока полагалось давать на каждую лошадь. Расписаны были и размеры судебных пошлин («уроков»), например: «А се уроци судебнии: от виры 9 кун, а метелнику 9 векошь, а от бортное земли (то есть от тяжб, связанных с бортями. – А.К.) 30 кун, а от инех от всех тяжь, кому помогут, по 4 куны…» Но понятно, что эти нормы можно было и произвольно увеличить, потребовать мзду за то или иное решение спорного вопроса в пользу того, «кому помогут». Полагающееся же по закону, равно как и то, что должно было идти в княжескую казну, выбивалось из населения всеми доступными средствами, самым простым и привычным из которых было битье батогами. И далеко не случайно, что во всех русских землях того времени именно княжеские «тиуны», «мечники» и другие представители княжеской администрации вызывали наибольшую ненависть населения. «Тиун неправду судит, мзду емлет, люди продает, мучит, лихое все деет» – так говорил о собственных (!) тиунах полоцкий князь Константин Безрукий, живший во второй половине XIII века{111}. И Суздальская земля не представляла собой исключение из общего правила.
Преподобный Никита Переяславский сумел осознать греховность такой жизни и порвал с ней. Но способны ли были на раскаяние другие? Вопрос конечно же риторический. Еще один владимирский книжник XII—XIII веков (возможно, даже младший современник Юрия Долгорукого), знаменитый Даниил Заточник, надо полагать, хорошо знал, о чем пишет: «Не имей собе двора близ царева двора и не дръжи села близ княжа села: тивун бо его – аки огнь, трепетицею накладен, и рядовичи (здесь: слуги. – А.К.) его – аки искры. Аще от огня устережешися, но от искор не можеши устеречися…»{112}
Сам князь Юрий Владимирович – во всяком случае, в те годы, когда он пребывал в Суздальской земле, – использовал различные формы взимания дани, в том числе и вполне традиционные. Одной из них было старинное «полюдье» – личный объезд князем подвластной ему территории. Князь отправлялся в «полюдье» осенью, когда был собран урожай; его сопровождали семья и дружина. (Об одной такой поездке в западные области княжества, на реку Яхрому, состоявшейся в октябре 1154 года, летопись сообщает в связи с тем, что во время «полюдья» у Юрия родился младший сын – Всеволод{113}.) Обряд «кормления» князя во время «полюдья» восходил к древним, еще языческим, представлениям о существе княжеской власти. Впрочем, к XII веку эти представления, естественно, уже забывались, и на первый план выходил чисто экономический интерес. Во время «полюдья» собиралось то, что шло на содержание самого князя и его семейства.
Князь обладал и хорошо известным и также традиционным, восходящим еще к языческим временам механизмом регулирования социальных противоречий, сглаживания возможных конфликтов. Этим механизмом являлась раздача милостыни. Во времена Киевской Руси она носила едва ли не обязательный для князя характер. Тот же Даниил Заточник восклицал, обращаясь к князю: «Да не будет, княже мой, господине, рука твоя согбена на подание убогих: ни чашею бо моря расчерпати, ни нашим иманием твоего дому истощити. Якоже бо невод не удержит воды, точию едины рыбы, тако и ты, княже, не въздержи злата, ни сребра, но раздавай людем». И далее: «…Князь щедр – аки река, текуща без брегов сквози дубравы, напающе не токмо человеки, но и звери; а князь скуп – аки река в брезех, а брези камены: нелзи пити, ни коня напоити».
Мы не знаем, насколько щедр или, наоборот, скуп был князь Юрий Владимирович. О щедрой раздаче им милостыни современные ему источники ничего не сообщают – в отличие, например, от его отца Владимира Мономаха или сына Андрея Боголюбского, об исключительном нищелюбии которых хорошо известно. Но совсем не обязательно думать, что Юрий пренебрегал обязательной для всех княжеской обязанностью. Просто делом это было слишком уж обыкновенным, можно сказать, само собой разумеющимся.
* * *
Нарушение устоявшегося порядка в столь щекотливом и важном вопросе, как сбор и распределение дани, всегда сопровождается конфликтами с теми, кто кормился от этой дани прежде. В данном случае – с представителями местной знати. Источники сообщают об одном таком конфликте в Суздальской земле – между князем Юрием Долгоруким и уже упомянутым боярином Кучкой (Кучком), первым владельцем будущего града Москвы и, по всей видимости, представителем местной, еще родовой по своему происхождению, знати[20]20
По мнению В.Н. Топорова, имя Кучки является балтским по своему происхождению (Топоров В.Н. «Baltica» Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1972. с. 275). Но, кажется, увидеть в этом имени славянскую основу гораздо проще.
[Закрыть].
Правда, история вражды князя и боярина дошла до нас в очень позднем пересказе и обросла совершенно фантастическими подробностями. Однако за авантюрным повествованием угадываются более или менее реальные события ранней истории Северо-Восточной Руси. С одной версией конфликта мы встретились в «Истории Российской» В. Н. Татищева. По-другому рассказывается в «Повести о зачале царствующего великого града Москвы», составленной в XVII веке. Здесь рассказ о роковой встрече князя и боярина датируется заведомо недостоверным 6666 (1158?) годом. К этому времени Юрия Долгорукого уже не было в живых. Очевидно, позднейший московский книжник ориентировался на известную из летописей дату основания князем Андреем Боголюбским церкви Успения Пресвятой Богородицы во Владимире (о чем также идет речь в «Повести»): ведь именно во Владимир к сыну Андрею и направлялся князь Юрий Владимирович. Но очень похоже, что автора привлекло и зловещее начертание цифр – четыре шестерки, усугубленное апокалиптическое «число зверя». Во всяком случае, рассказанная им история, несомненно, расцвечена в эсхатологические краски: начало Москвы знаменует собой начало «последнего царства» – «третьего Рима» («два убо Рима па-доша, третий же стоить, а четвертому не быти» – с этих строк, можно сказать, начинается «Повесть»). И кровавая расправа с боярином Кучкой, составляющая центральный сюжет всего повествования, также есть «знамение» будущей истории «последнего Рима». Как и «первому» – «ветхому» Риму, и «второму» Риму – Константинополю, также «и нашему сему третиему Риму, Московскому государству, зачало бысть не без крове же, но по пролитию же и по заклании кровей многих»{114}.
«В лето 6666, – сообщает автор «Повести», – великому князю Юрью Владимировичи) грядущю ис Киева во Владимир град к сыну своему князю Андрею Юрьевичу, И прииде на место, иде же ныне царьствующий град Москва, обо полы Москвы реки села красныя, сими же селы владающу тогда болярину некоему богату сущу, имянем Кучку Стефану Иванову. Той же Кучка возгордевься зело и не почте великого князя подобающею честию, яко же довлеет (подобает. – А.К.) великим княземь, но и поносив ему к тому жь.
Князь великий Юрьи Владимирович, не стерпя хулы его той, повелеваеть того болярина ухватити и смерти предати. И сему тако бывшу, сыны же его видев млады суще и лепы зело, имянем Петр и Аким, и дщерь едину такову же благо-образну и лепу сущу, именем Улиту, отосла во Владимир, к сыну своему ко князю Андрею Юрьевичю. Сам же князь великий Юрьи Владимирович взыде на гору и обозрев с нее очима своими семо и овамо по обе страны Москвы реки и за Неглинною, и возлюби села оныя и повелевает на месте том вскоре соделати мал древян град и прозва его званием реки тоя – Москва град по имени реки, текущия под ним. И потом князь великий отходит во Владимир к сыну своему князю Андрею Боголюбскому и сочетовает его браку со дщерию Кучковою… И быв у него отец его великий князь Юрьи Владимирович довольно время, и заповеда сыну своему князю Андрею Боголюбскому град Москву людьми насел ити и распространити…»
В чем была истинная причина убийства? На этот вопрос сейчас, конечно, не ответить. Но можно думать, что за трафаретной фразой о чрезмерной гордости боярина Кучки скрывается какой-то реальный конфликт между ним и суздальским князем. Мы знаем лишь о результатах этого конфликта. А они были вполне определенными: родовое гнездо одного из представителей местной знати было разорено дотла, а те самые «села красные» по обеим сторонам Москвы-реки, которыми владел боярин и которые так приглянулись суздальскому князю, перешли в его владение, и на их месте Юрий Долгорукий приказывает возвести укрепление, ставшее впоследствии городом. Первое упоминание Москвы в летописи относится, как все знают, к апрелю 1147 года, когда Юрий пригласил сюда своих союзников – князя Святослава Ольговича, его сына Олега и двоюродного племянника Владимира Святославича. К тому времени Москва уже принадлежала суздальскому князю, а значит, расправа с боярином имела место раньше.
Как мы уже говорили, боярин Кучка (Кучко) – личность вполне историческая. Летописи известны его сыновья, Яким Кучкович с братом, а также некий Петр, «Кучков зять». (В «Повести» Петр и Яким ошибочно названы братьями.) Имя Кучки сохранилось и в топонимике Северо-Восточной Руси. Волость «Кучка» упоминается в Суздальской земле, а урочище «Кучково поле» известно в средневековой Москве, в районе позднейших Сретенских ворот. В XII веке саму Москву иногда называли Кучково. (Так, например, в берестяной фамоте, найденной в Новгороде и предположительно датируемой второй половиной XII века: «Поклоняние ото Душилы ко Нясте. Шьль ти есьм Кучькъву…»{115}; то есть: «Я пошел к тебе в Кучков».) В Ипатьевской летописи название будущей столицы России варьируется: «Кучково, рекше Москва»{116},
Юрий и в самом деле женил своего сына Андрея на дочери убитого им боярина – надо думать, для того, чтобы таким образом укоренить его в Суздальской земле, сделать полноправным наследником всего имения убитого. (Для средневекового сознания это выглядит вполне естественным.) Еще более примечательно, что сыновья боярина Кучки не подверглись репрессиям, но, напротив, были приближены Юрием и вошли в ближайшее окружение его сына Андрея. Это уже отражает новое христианское сознание, в противоположность старому, языческому, основанному на нормах кровной мести. Но за убитого отца Кучковичи все же отомстят, исполнив таким образом родовой закон. Впоследствии именно Петр, «Кучков зять» (то есть, надо полагать, свояк Андрея – муж сестры его жены), а также один из братьев Кучковичей, Яким, станут организаторами заговора, приведшего к убийству Андрея Боголюбского{117}. О том, что в этом заговоре участвовала и супруга князя Андрея Юрьевича (Кучковна?), свидетельствует, помимо «Повести о начале Москвы», миниатюра Радзивиловской летописи XV века, изображающая княгиню в момент убийства с отрубленной рукой своего супруга (собственно летописный текст об этом молчит){118}.[21]21
Автор позднейшего Тверского летописца XVI в. прямо сообщает о том, что супруга Андрея стояла во главе заговора: «…убиен бысть благоверный великий князь Андрей Юриевичь Боголюбский от своих бояр, от Кучковичевь, по научению своеа ему княгини». Правда, сама княгиня названа здесь болгаркой, якобы мстящей мужу за разорение Болгарской земли (ПСРЛ. Т. 15. [Вып. 2]. Стб. 250-251).
[Закрыть]
Надо сказать, что защита своей чести и достоинства всегда входила в число обязательных княжеских добродетелей. Князь вправе был требовать подобающих почестей от подвластного ему населения, в том числе и от бояр, а в ответ на «поношение» и хулу мог (и даже обязан был) применить силу. Ибо обряд, например, встречи князя являлся наиболее адекватным выражением самого существа княжеской власти, а несоблюдение этого обряда означало ее непризнание, то есть открытый выход из повиновения, бунт. Так что расправа с боярином Кучкой (если записанное в «Повести о начале Москвы» предание отражает реальный факт) была вполне в духе времени, отвечала средневековым, еще языческим в своей основе, представлениям о княжеской власти.
Другое дело, что такое понимание княжеской власти входило в противоречие с новыми, христианскими, нормами поведения и новыми представлениями о взаимоотношениях между князем и его подданными. В свое время Владимир Мономах учил сыновей не казнить никого смертью: «Ни права, ни крива не убивайте, ни повелевайте убити его; аще будеть повинен смерти, а душа не погубляите никакояже хрестьяны». Однако его потомки далеко не всегда следовали этому правилу. И расправа над злодеями ставилась в заслугу князю наравне с такими, например, качествами, как милосердие, правосудие, справедливость. «Князь бо не туне мечь носить, – писал об этом суздальский летописец, автор посмертной похвалы сыну Юрия Долгорукого князю Всеволоду Большое Гнездо, – [но] в месть злодеем, а в похвалу добро творящим»{119}.
Не знаем, был ли боярин Кучка в действительности злодеем или нет. Но князь Юрий Владимирович – и это можно сказать наверняка – носил свой меч «не туне» и, надо думать, не однажды извлекал его из ножен, чтобы покарать провинившегося.
ДОЛГАЯ РУКА
Ну а что относительно знаменитого прозвища суздальского князя? В какой степени оно передает черты его характера или внешнего облика? Увы, на этот счет мы вынуждены ограничиться лишь самыми общими и самыми поверхностными суждениями.
Начать надо с того, что прозвище Юрия в древнейших летописях не встречается. Впервые мы находим его в рукописи середины XV века, причем новгородского происхождения, – той самой, которая содержит так называемый Комиссионный список Новгородской Первой летописи младшего извода. В отдельных статьях, читающихся перед летописью («Родословие князей русских», статьи «Кто колико княжил» и «А се князи русьстии»), Юрий упоминается с прозвищем, причем в двух случаях из трех оно звучит не вполне привычно для нас – Долгая Рука, и лишь однажды – Долгорукий{120}. Однако из этого вовсе не обязательно следует, что это прозвище позднее и чисто книжного происхождения{121}. Скорее, напротив. Его присутствие во множестве памятников, начиная уже с XVI века, – причем не только новгородских, но и московских, тверских, ростовских – можно расценивать как свидетельство того, что прозвище это накрепко прилепилось к князю. А это могло произойти еще при его жизни.
Обычно считают, что прозвище Долгорукий связано с тем, что суздальский князь тянулся (разумеется, в переносном смысле) из своего отдаленного Суздаля к Киеву и в конце концов достиг «златого» киевского стола. В принципе, это не исключено, хотя примеры подобных, чисто отвлеченных, умозрительных прозвищ в древней Руси, кажется, неизвестны. В современной исторической литературе высказывается и другое предположение: необычное прозвище князя могло объясняться какими-то его физическими, или анатомическими, особенностями{122}. (Может быть, у него действительно были непропорционально большие руки или, скажем, слишком длинные пальцы?) Но и для такого предположения никаких осязаемых оснований пока что у нас нет, поскольку останки Юрия Долгорукого до сих пор не отождествлены с большей или меньшей надежностью[22]22
Антропологической и судебно-медицинской экспертизе были подвергнуты костные останки, обнаруженные в 1989 г. в шиферном саркофаге, найденном близ стен церкви Спаса на Берестовом, где был погребен Юрий Долгорукий. Эти останки, предположительно атрибутированные Юрию, показали признаки остеохондроза, причем тогда же было высказано довольно странное предположение: не с этим ли недугом могли быть связаны изменения в руке, ставшие причиной по явления прозвища князя? (См., напр.: Огонек. 1996. № 42. с. 4—5; здесь же мнение антрополога Т.И. Алексеевой: «К прозвищу Долгорукого это не имеет никакого отношения».) Но прежде всего надо сказать о другом: у нас нет уверенности в том, что найденные в 1989 г. останки действительно принадлежат Юрию Долгорукому (см. об этом ниже, в части 5).
[Закрыть].
Стоит отметить, что прозвище «Долгорукий» древнерусским книжникам было хорошо известно – так звали древнего персидского царя Артаксеркса (очевидно, Артаксеркса I, 465—424 до н. э.). Это прозвище сопровождает имя царя в русских переводных сочинениях, в том числе домонгольского времени{123}. Знаменитый русский историк и публицист XVIII века князь М. М. Щербатов, обративший на это внимание, полагал, что русский князь, подобно персидскому «тезке», был прозван так за свое стяжательство, «алчность к приобретению»{124}. Но прозвище Артаксеркса является калькой с греческого Макрохецюд (Длиннорукий) – и, вероятно, оно обязано своим происхождением именно внешности персидского правителя[23]23
Греческий географ и историк Страбон, объединяя в один образ персидских царей Дария и Артаксеркса, писал, что «Дарий Долгорукий» был «красивейший из людей, за исключением длины рук, которые у не го доходили до колен» (Страбон, География. М., 1994. с. 682).
[Закрыть].
Уместно провести еще одну параллель – с другим русским князем, носившим такое же прозвище. Правда, жил он гораздо позже – в середине XV века. Речь идет об Иване Андреевиче Долгоруком, из рода князей Оболенских, родоначальнике князей Долгоруких. Предания изображают его князем суровым и крайне мстительным, прозванным Долгоруким за умение так или иначе достигать своих врагов, где бы те ни скрывались{125}. Может быть, и прозвище князя Юрия Владимировича имеет похожее происхождение?
Напоследок приведем еще одно объяснение того же прозвища – несомненно, наиболее лестное для героя нашей книги, но, увы, совершенно фантастическое. В одной из поздних редакций «Повести о зачале Москвы» (известной в списке третьей четверти XVIII века) о князе рассказывается следующее: «Он же от родителей своих именовася Долгорукий, зане зело был из отрочества своего милостив и податлив ко всем своим безпомощным своею десницею, аще что имяше в руках своих, то все раздаяше требующим. И оттого вину прият от всех Долгорукий зватися, даже и до днесь, влечашеся в род и род»{126}.[24]24
Последние слова, конечно, имеют в виду князей Долгоруких, не имеющих к нашему герою никакого отношения. Что же касается основной мысли автора «Повести» – об исключительном милосердии и беспримерном нищелюбии князя, отразившихся в его прозвище, – то очень похоже, что она имеет своим источником объяснение прозвища другого знаменитого московского правителя, так же фигурирующего в повестях и сказаниях о начале Москвы, – Ивана Даниловича Калиты. Сего князя, рассказывал своим ученикам преподобный Пафнутий Боровский (XVI в.), «нарицаху… Калитою сего ради: бе бо милостив зело и ношаше при поясе калиту всегда насыпану сребряниць, и куда шествуя даяше нищим сколка вымется» (цит. по: Тихомиров М.Н. Древняя Москва. с. 29; из Жития преп. Пафнутия Боровского).
[Закрыть]
ОЛЬГОВО ПЛЕМЯ
Вернемся, однако, к политической ситуации, сложившейся после захвата Киева князем Всеволодом Ольговичем Черниговским в 1139 году. Произошло это роковое для судеб Мономахова семейства событие следующим образом.
Получив известие о смерти Ярополка Владимировича и о вокняжении в Киеве его брата Вячеслава (22 февраля 1139 года), князь Всеволод Ольгович немедленно соединился со своим родным братом Святославом и двоюродным Владимиром Давыдовичем и, «събрав мало дружины», поспешил к Киеву. Черниговские князья заняли Вышгород, а 4 марта подступили к Киеву и принялись поджигать дворы «пред городом». Заполыхал так называемый «Копырев конец» – густонаселенный район на северо-западе Киева. Впрочем, это была лишь демонстрация силы. Воевать по-настоящему Всеволод не собирался. Вячеславу Владимировичу было предложено уйти из города «с добром». Тот, «не хотя крове пролияти», по выражению летописца, согласился. К Всеволоду отправился митрополит Михаил, который и озвучил условия капитуляции. «Иди опять Вышегороду, – предлагал Всеволоду Вячеслав, – а я днесь иду в свою волость, а то тобе Киев». В тот же день Вячеслав Владимирович покинул Киев и направился в Туров, а 5 марта Всеволод Ольгович вошел в Киев «с честью и славою великою»{127}.[25]25
Автор Воскресенской летописи по-другому приводит слова Вячеслава: «Аз, брате, приидох зде по братии своей Мстиславе и Ярополце, по отець наших завещанию; аще ли ты восхотел еси сего стола, оставя свою отчину, ино, брате, аз есмь мний тебе буду; но отьиде ныне Вышегороду, а аз иду в переднюю свою власть, а Киев тебе» (ПСРЛ. Т. 7. с. 32).
[Закрыть]
«И сътвори в той день князь великий Всеволод Олгович с отцем своим Михаилом митрополитом, и з братиею своею, и со князи, и з боары своими, и с всеми людми пирова-ние светло, и постави по улицам вина, и мед, и перевару, и всякое ядение, и овощи, и раздаде по церквам и по манас-тырем милостыню многу»{128}. Если это не домысел московского книжника XVI века, то перед нами очевидная попытка нового киевского князя заручиться поддержкой самых широких слоев киевского населения – от бояр до простонародья. Слишком долго представители этой ветви князей Рюриковичей отсутствовали в Киеве, слишком недобрую память оставили по себе своими недавними действиями, и теперь им приходилось завоевывать любовь своих новых подданных подарками и угощениями.
Так Киев перешел в руки князей Ольговичей. Любопытно, что, по версии В. Н. Татищева, начиная войну за Киев, Всеволод Ольгович прежде всего думал о Юрии Долгоруком. Только ради того, чтобы не допустить Юрия к великокняжескому столу («ведая, что Вячеславу Юрий, слабости его ради, владеть не даст»), он якобы и решился на изгнание из Киева Вячеслава. Более того, Всеволод Ольгович будто бы вступил в переговоры и со своим зятем Изяславом Мстиславичем, обещая ему всякие блага и отговаривая от союза с дядей. «Хотя тебе по отце Киев надлежит, – передает его слова Татищев, – но дядья твои, а паче Юрий, не дадут тебе удержать. Как сам знаешь, что и прежде вас изгоняли, и если бы не я, то б вы никакого удела от Юрия получить не могли»{129}. Вовсе не обязательно, что историк XVIII века опирался при этом на какие-то не дошедшие до нас документальные материалы. Но, как и во многих других случаях, он верно передал самую суть событий. В конечном счете именно действия Юрия, его неуемная борьба за Переяславль, ссоры с племянниками и братьями стали причиной случившейся катастрофы. Потеря Киева явилась логическим следствием раскола в Мономаховом семействе.
* * *
Перед новым киевским князем стояла та же задача, что и за несколько десятилетий до этого перед Владимиром Мономахом и Мстиславом Великим, – закрепить Киев за новой династией, превратить его в «отчину» черниговских князей. Но и трудности, с которыми столкнулся Всеволод Ольгович, были теми же и даже еще большими. Забегая вперед, скажем, что ему только к концу жизни удастся добиться единства в собственном семействе. А семейство это было весьма многочисленным: Всеволоду приходилось считаться с интересами не только своих родных братьев, но и двоюродных – Владимира и Изяслава Давыдовичей. В династическом отношении последние считались даже старше, ибо по условиям Любечского съезда Чернигов был закреплен именно за Давыдом Святославичем, а не за его братом Олегом, отцом Всеволода, формально считавшимся князем новгород-северским. Соответственно, Всеволоду надо было заботиться о том, чтобы не восстановить Давыдовичей против себя. (Особняком держались другие двоюродные братья Всеволода Ольговича – сыновья Ярослава Святославича Муромского; они обосновались в Муроме и Рязани и старались не вмешиваться в общерусские дела.)
Старший из Давыдовичей Владимир поддержал Всеволода во время похода на Киев. В благодарность новый киевский князь передал ему Чернигов – главный город своей волости. Но это немедленно рассорило Всеволода с его родным братом Игорем, следующим по старшинству из Ольговичей, которому Чернигов был обещан прежде. По вокняжении Всеволода Игорь явился к нему в Киев, напоминая о давнем обещании. «И не да ему (Всеволод Чернигова. – А.К.).., и свади (здесь: поссорил. – А.К.) братию, и тако отпусти е»{130}. Игорю пришлось довольствоваться Северской землей с главным городом Новгородсеверским. И впоследствии Всеволод Ольгович будет проводить политику сталкивания интересов различных представителей своего семейства, стараясь ни в коем случае не допустить образования против себя единого фронта родных и двоюродных братьев. При этом Всеволод сделал попытку опереться на шурьев – князей Мстиславичей, и прежде всего Изяслава, которому он в свое время помог добыть владимиро-волынский стол. Но потеря Киева стала слишком сильным потрясением для Мономашичей. Им пришлось забыть о прежних противоречиях и объединиться в борьбе против нового киевского князя. А потому Изяслав Мстиславич ответил отказом на мирные предложения Всеволода.
«В се же лето седшю Всеволоду Киеве, – сообщает летописец, – и тогда нача слатися к Володимеричем и ко Мьстиславичема, хотя мира с ними, и вабяше (приглашая. – А. К,) князя Изяслава Мьстислав[ич]а из Володиме-ря. И не въсхотеша ко Всеволоду того створити, но съсыла-хуться сами межи собою, хотяче на нь пойти Киеву».
Всеволод решил нанести упреждающий удар. Тем более что таким способом, за счет присоединения волостей Мономашичей, он мог решить и свои собственные проблемы, удовлетворить амбиции братьев. Положение киевского князя – «старейшинствующего» среди князей – давало для этого известные основания. В свое время Владимир Мономах, став великим князем Киевским, сумел присоединить к своей волости Волынь, а Мстислав Великий – даже Полоцкую землю. «Глава черниговских князей, заняв стол киевский, мог лелеять самые широкие планы, – писал один из самых проницательных исследователей древней Руси А. Е. Пресняков, – мог чувствовать себя призванным к объединению… отчин старших Ярославичей в одной политической системе, построенной в духе Мономаха, но на более широком основании… И Всеволод Ольгович делает попытку вступить на путь Мономаха… попытку безнадежную, так как не имел он на самом деле ни одной из тех опор, на каких покоилось положение Мономаха: ни в солидарности своей семьи, ни в перевесе сил над другими князьями, ни в сочувствии населения…»{131}
Летом 1139 года «нача» Всеволод Ольгович «замышляти на Володимериче и на Мстиславиче, надеяся силе своей и хоте сам всю землю держати с своею братьею», – свидетельствует летописец{132}. Причем Всеволод чувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы начать военные действия одновременно на нескольких направлениях, препятствуя тем самым объединению князей «Мономахова племени». Его двоюродный брат Изяслав Давыдович вместе с половецкими отрядами двинулся к Владимиру-Волынскому, против князя Изяслава Мстиславича. Сам же Всеволод с братом Святославом выступил к Переяславлю, где княжил Андрей Владимирович Добрый.
Однако ни на одном из этих направлений успех не был достигнут. Посланное на Волынь войско дошло только до Горыни – пограничной реки между Киевской и Волынской землями и, «пополошившеся», повернуло обратно. Испугала ли их угроза ответных действий Изяслава Мстиславича, или же переполох случился по другой причине, летописи не объясняют.
Самому Всеволоду также не удалось добиться успеха. Он потребовал от Андрея добровольно оставить Переяславль и перейти на княжение в Курск (младший брат Всеволода Ольговича, князь Глеб Курский, умер осенью 1138 года). В Переяславле же должен был сесть на княжение Святослав Ольгович.
Трудно сказать, на что надеялся Всеволод. Может быть, на миролюбие и уступчивость Андрея, отнюдь не стяжавшего себе славу грозного воина? Тем более что одновременно Всеволод угрожал войной и Вячеславу Туровскому, и Ростиславу Смоленскому, и даже Юрию Суздальскому, так что надеяться на помощь братьев и племянников Андрею не приходилось. Но если так, то Всеволод явно просчитался. Добровольный отказ от «отчего» Переяславля лег бы несмываемым пятном позора и на самого Андрея Владимировича, и на все его семейство. Переяславль оставался родовым гнездом Мономашичей, их «отчиной» и «дединой», и Андрей – а вместе с ним и его дружина – готов был умереть за него.
Летописи сохранили его исполненный достоинства ответ на требование Всеволода Ольговича: «Лепьши ми того смерть и с дружиною на своей отцине и на дедине взяти, нежели Курское княжение. Отець мои Курьске не седел, но в Переяславли. Хочю на своей отчине смерть прияти. Оже ти, брате, не досыти волости, всю землю Рускую дьржачи, а хо-щеши сея волости, а убив мене, а тобе волость. А жив не иду из своей волости». (Впоследствии слова эти стали едва ли не поговоркой. Даниил Заточник, автор знаменитого «Слова», или «Моления» (XII или XIII век), повторял их, ссылаясь почему-то на князя Ростислава – вероятнее всего, Ростислава Юрьевича, сына Юрия Долгорукого: «Не лгал бо ми Ростислав князь: “Лепше бы ми смерть, ниже Курское княжение”; такоже и мужеви: лепше смерть, ниже продолжен живот в нищети…»{133})
Слова Андрея были подтверждены делом. Когда Святослав Ольгович с войском подошел к Переяславлю (Всеволод остался на Днепре), он был наголову разбит дружиной Андрея. Переяславский князь не велел своим воинам преследовать бегущего противника, и на следующий день, 31 августа, князья стали заключать мир. Но и здесь не обошлось гладко. Андрей целовал крест 31 августа, Всеволод же должен был сделать это на следующий день. Однако в ночь на 1 сентября Переяславль загорелся. Произошло это «не от ратных», замечает летописец, а случайно, по неосторожности. На Всеволода Ольговича случившееся произвело сильное впечатление. Он не послал войско захватывать беззащитный город (как ему советовали), но целовал крест Андрею, выговорив при этом: «…то ми был Бог дал, оже ся есте сами зажгли; аже бы лиха хотел, то что бы ми годно, то же бы створил. А ныне целовал еси хрест ко мне: аже исправишь, а то добро, не исправишь ли, а Бог будет за всим».








