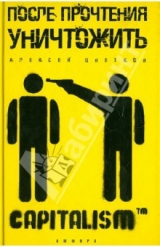
Текст книги "После прочтения уничтожить"
Автор книги: Алексей Цветков
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
На экране все было чинно: красный флаг над индейским сельсоветом, в чисто выметенных хижинах иконоподобные портреты председателя Мао, товарища Кано, Хакобо Аренаса и менее известных за пределами Колумбии деятелей. Коллективный труд всех от мала до велика на полях под хоровую, довольно грустную, народную песню. Охраняющие этот мир автоматчики с пятиконечными звездочками на беретках. Никакой коки конечно. Ни одного листа. На мои распросы колумбийская студентка, комментировавшая фильм, отнекивалась в том смысле, что ничего не знает, а любая информация о нарко-плантациях – пропагандистские наветы ЦРУ.
Было, однако, во всех этих колхозниках, партизанах и комиссарах нечто такое, что вызывало подозрение. Нереальное выражение глаз, как будто приснившиеся движения, не всегда оправданные интонации и темп речи. Возможно, это и не кока вовсе, а просто они потомки инков или просто зачарованы коммунистической мечтой, от которой, как известно, человека может колбасить, как от самого сильного препарата – решил я тогда.
Под конец просмотра бдительность колумбийки ослабла и она все же проговорилась, что кое-кто выращивает, но не по приказу, а наоборот, вопреки партизанскому инструктажу, мол, есть такая трудноискоренимая в народе традиция, «как у вас, русских, водка». Через полгода эту самую студентку выслали из России, поймали за руку в сортире Университета, продавала пакетики с белым кайфом будущим переводчикам с испанского. Впрочем, я допускаю, что даже это может быть чистым совпадением. Как и всякий другой сюжет, завязанный с властью, заговором против нее, гигантскими деньгами и химическо-хирургическими изменениями в мозгах, мой рассказ темен и чем больше узнаешь, тем сильнее запутываешься в версиях. Шестьдесят четыре килограмма, с которых я начал, это конечно много, но то, что они не долетели до Нью-Йорка или не были расфасованы у нас, ничего не меняет в схеме, где на один сбой приходится сотня попаданий от поставщика к потребителю.
Мораль: любому, делающему белую дорогу любителю быстрого отъезда со станции реальности рекомендуется помнить:
а) Хотите вы этого или нет, но, вдыхая чудесную пыль, вы помогаете делу колумбийской революции.
б) Колумбийские революционеры считают вас столь же никчемным, устаревшим и обреченным, как и вся мировая система империализма, и потому сожалеть о вашей судьбе это излишний, не предусмотренный в партизанском сознании, гуманизм. Они не берут вас в свое будущее, потому что ваше участие в его построении слишком пассивно.
Поверхность, на которой делают дорогу, часто бывает полированной т.е. более или менее зеркальной. Посмотрите лишний раз себе в глаза с близкого расстояния и решите, правы они или ошибаются?
Сведения, украшающие описанную ситуацию:
Томмазо Кампанелла, плохо кончивший астролог, заговорщик и автор «Города Солнца», некоторым образом общий предок всех последующих мечтателей-социалистов, черпал основные идеи рациональной организации жизни в идеальном обществе из записок конкистадоров о разрушенной ими империи инков. Процветающий колумбийский марксизм, таким образом, это возврат народа к древнейшим истокам. В деталях, правда, насчет того, что жрецы солнечного города умеют летать и прочее, Кампанелла сочинял от себя. Принимал ли он при этом вспомогательные составы, будоражащие сознание, и знакомился ли с флорой далеких стран, мы с вами вряд ли узнаем.
Глава пятнадцатая:
МОЙ ДРУГ – КИЛЛЕР
«Вот мы что-то пьем в этом клубе, закусываем, танцуют девочки – говорил он во время последней нашей встречи – но есть еще два мира, выше и ниже, и там сейчас продублированы и этот клуб и мы с тобой и весь город». Я не помню всех его мыслей дословно, но основной пафос зацепился в памяти:
В нижней версии мы глотаем сейчас внутрь такого страшного червя, и вокруг шеста крутится такая жуть, обкакаешься, увидев, а в верхней, наоборот, никакого хорора, сидят два таких бесполых безвозрастных покемона, впитывают священный свет, глядя на вечное пламя, танцующее над ними. И нижний и верхний миры вечны, и выше и ниже отсутствует время, все временно только у нас, посередке. Наш мир – недолгий компромисс между двумя полюсами. Мы – смертны. Смерть как разделение тутошнего существа на невесомые части, всплывающие вверх, и тяжелые элементы, тонущие вниз. А вот пропорции, в ком сколько окажется тяжести и невесомости, это как раз зависит от нашего здешнего поведения.
Я тогда отшутился, напомнив, что сидим мы как раз таки на втором этаже клуба, а всего их три, ниже – бильярд, выше – проститутки, у нас – стриптиз. Он улыбался виновато, чувствуя, что для такой беседы сейчас не время и здесь не место. Больше мы с ним не виделись. Через полтора месяца я узнал о его разделении на невесомые и тяжелые части. Продолжить разговор не получится, по крайней мере тут, в срединном мире. Прежде чем это произошло с ним, он не раз являлся инструментом решающего разделения для себе подобных.
Тело вытаяло из под снега в невеселом подмосковном лесу. Из под скальпа на милиционеров смотрел голый череп. Предупреждающий взгляд, как на щитах с высоким напряжением. Лицо обкусали бродячие собаки, для лесных трупов обычная история. Опознать его сначала удалось только по одежде и документам. Пальто и паспорт, само собой, могли быть вручены посмертно кому угодно, любой из его мишеней. Но позже все подтвердила экспертиза, кажется, дактилоскопическая, да и татуировка совпала. Я часто пробовал представить, как снимают отпечатки пальцев у трупа. Передоверить их жертве невозможно. Да и набивать на остывшей коже копию своей татуировки это уж слишком. Два стреляных отверстия, следы волочения, подногтевое содержимое и другие подробности вряд ли важны для моего пространного некролога.
Почему меня до сих пор беспокоит наш последний, неоконченный диалог? Мало ли кто что думает о верхних и нижних реальностях, любой, умеющий связывать слова, гражданин, имеет право воображать себе структуру мироздания на собственный манер. В конце концов, ничего оригинального в его теории нет, он просто считал, что мы находимся в чистилище, временном пункте проверки душ между эдемом и преисподней, а себя видел этаким таможенником, ставящим штамп в пропуске и желающим счастливого пути отбывающим из наших мест лицам. Понимал любого человека как дракона т.е. как гибрид птицы и змеи, в конце концов распадающийся на две части, чтобы птица улетела, а змея уползла. Помните, в школе проходят про ужа и сокола?
И все-таки эта тема меня не отпускает, потому что он говорил не как прочитавший, не как размышляющий, но как человек, конкретно выяснивший опытным способом, как знающий, тот, для кого расклад однажды стал от начала до конца ясен. Такая редкая в наше время интонация, исключающая любые «но». Ну и, конечно, потому, что я ему ничего не ответил. И потому что это последние, сказанные мне им, слова. И потому что, возможно, он имел чуть больше прав судить об этом в силу своего происхождения и рода занятий.
Прадед киллера был шаманом. Да и дед собирался гоняться за душами, унаследовав все положенные цацки, бубны, шкурки-фигурки и бубенчики. Всё изменила революция. В конце 1920-ых по Бурятии покатилось «расшаманивание», а так же преследование «лам и ламствующих лиц».
До прихода большевиков, прежде чем доверить шаману провожать души и, если надо, ловить и возвращать их обратно, сначала проверяли. Рубили во льду реки несколько крупных лунок. Голый шаман, выпив стакан водки, нырял в одну из них, плыл подо льдом, выныривал, снова бросался в прорубь, полз по льду с той стороны, снова выпрыгивал наружу и так, пока, весь ободранный льдом, не пройдет «полосу» до конца. Стоял на углях без ожогов. Останавливал взглядом и поворачивал прочь любого зверя. Предсказывал погоду по птицам. Прадед киллера неплохо справлялся с подобными фокусами, такая сверхъестественность, однако, не уберегла от советской власти. К идее собственного расстрела местный «распространитель реакционного мировоззрения» отнесся с пониманием и без эмоций. Сторожа, из первых забайкальских комсомольцев, не выдержали чего-то и ночью отпустили его на все четыре. Шаман собрал колокольчики, ожерелья с царскими монетами, ритуальные наперстки, костяных и деревянных кукол, похоронил все это неизвестно где в лесу и утром сам явился к чекистам, не желая подставлять сородичей. Больше сородичи его не видели.
Так дед киллера не стал искать и провожать души. И никогда об этом не жалел. Считалось, что последний шаман сдал свои полномочия тому, кто раскопает в тайге его клад или кому-то из своих будущих потомков. Зато дед вскоре стал первым председателем колхоза. Их «подозрительная» семья продолжала оставаться самой уважаемой и буряты проголосовали единогласно. Отец киллера учился в Улан-Уде, потом женился на русской, перебрался в Москву, где получил второе высшее в университете. Для него все эти истории с камланиями и таежным трансом при луне были не более чем далеким историческим недоразумением и семейной легендой.
Шаманская болезнь впервые накрыла будущего киллера лет в двенадцать. Вначале во сне, а позже – наяву, он начал слышать внутри себя медвежий рёв, от которого плоть становится стеклянно-прозрачной: «пока зверь ревет, бегут мурашки, тело делается жидким, как суп, и сквозь него видишь свои кости». Подросток стал неуправляемым и асоциальным. Впадал то в оцепенение, замирая посреди улицы, то в экстаз, катаясь по школьному коридору. Мог неизвестно зачем влезть на шкаф и там спать полдня. Папа – инженер и мама – педиатр надеялись, что это всего лишь переходный возраст. В моду тогда входил панк-рок и родителям было удобнее думать, что сын увлекся этой западной заразой. Психиатр отвечал туманно и многосложно, ничего определенного не советуя. На учет в детскую комнату поставили из-за множественных и совершенно бессмысленных краж. Ночью, не просыпаясь и бубня под нос, ребенок часто вставал и пытался выйти из квартиры. В четырнадцать обнаружилась склонность к бродяжничеству наяву и его месяц разыскивали. Безобразная драка с учителем поставила вопрос об исключении. Научил одноклассников дышать клеем из пакета. Новый побег из дома, поножовщина с серьезными последствиями, плохие характеристики и колония для несовершеннолетних. Собственно, совершеннолетие он и встретил под вышками, всматриваясь в себя и вслушиваясь в «мишкин рёв». На зоне был одним из главных «отрицателей» и готовил бунт, за который ему накинули уже не по-детски. Оттуда вышел совершенно новым человеком со связями и выбранным ремеслом. С семьей контактов не поддерживал. В деньгах не нуждался. Тренировался на стрельбище, за городом, вместе со знакомыми националистами, которых отнюдь не смущала его «полурусская рожа». Зараза оказалась, что ни на есть восточной.
Никому не известным способом он добился внутреннего равновесия, выглядел и вел себя вполне адекватно. Почитывал сектантскую, христианскую и кришнаитскую литературу, разбавляя её Ла Веем и прочими «люциферитами в законе», любил ходить на культовые фильмы в только появившиеся тогда маленькие хай-класс залы. Часто менял адреса и никогда не оставлял телефонов, всегда звонил сам: «Привет, ты сегодня как? Запрыгнем куда-нибудь. Во сколько? Где?»
Вообще-то его случай не уникален. Раньше психиатрия объясняла феномен шаманской болезни так называемой «арктической истерией». Мол, света на севере мало, не говоря уж о витаминах. Века темноты, авитаминоза и портящих генофонд эпидемий привели к наследуемым искривлениям психики, могущим проявляться бог знает в каком колене. Сегодня теория «арктической истерии» психиатрами похерена. Шаманская болезнь косит шаманских потомков, порой весьма дальних, а часто – и не потомков вовсе, где угодно, от Мексики до Мадагаскара, не взирая на солнце и фрукты. Аборигены однозначно толкуют её как призыв к служению, легко отличая «одержимость» от обычной эпилепсии или помешательства. Такой призыв посылается в будущее сдающим дела ловцом душ как нераспознанный компьютерный вирус и когда-нибудь начинает тревожить чье-то сознание изнутри, ломая в человеке всякую вменяемость. Заболевший берется ловить души, приносить жертвы, провожать мертвых и довольно быстро приходит в себя, занимая отведенное ему место спирита, предсказателя и целителя. Его отношения с собственным даром принимают законный, и даже профессиональный, оборот.
Неизвестно, как вывернулся киллер. Во всяком случае, не поехал на историческую родину копаться в лесу. Я все время спрашивал себя: являлась ли его «работа» компенсацией и противовесом сил, шевелившихся в нём, формой служения, или он обнаружил что-то ещё, тормозящее и искупающее свои «способности», ту же кислоту, о которой ниже. Но вслух мы это не обсуждали. Слишком многих запретных тем пришлось бы касаться. Неразрешимый вопрос, который, неверное, нас и подружил.
Чаще всего мы встречались в клубе с тремя цифрами всем известного телефона спасения в названии. Изнутри клуб старался выглядеть лет сто не всплывавшей подводной лодкой. Тамошние стриптизерши иногда выступали в костюмах Гагариной, единственного, пожалуй, в тогдашней Москве, стрип-модельера без кавычек, т.е. в её коллекциях кроме обыкновенного блядства угадывалось и искусство, порой даже, с некоторыми признаками элитарности. Я помню четыре показа: Дворец, Египет, Монастырь и Тюрьма. Он, безусловно, помнил больше. Киллер старался не пропускать новые шоу. Вынимая зажигалку из под резинки на ляжке официантки или просовывая купюру под призрачную материю трусиков, где ей, конечно, и место, он чувствовал себя на этой субмарине давно и надолго поселившимся морским ежом. Колючая щетина сверкала в клубных лучах. «Смотри, как она сдрачивает молнию» – восхищался он новой нимфой, мучительно долго разъединявшей у шеста свой голубой латекс.
На садомазо-показе, куда явилось неожиданно много поклонников этого стиля любви, киллер поразил меня способностью к языкам. Быстро разговорившись с несколькими «мастерами», «домами», «сабами» и «свитчами» он меньше, чем через полчаса свободно общался на их слэнге. Речь шла об арапниках, однохвотсках, стеках и японском бондаже господина Наваши. Напрягая ухо и фантазию, я убеждал себя, что более или менее понимаю, потом над столом, как диковинные и опасные насекомые, стали носиться выражения: «вайлет ванд», «стоп-слово», «субмиссия», «гориан-стайл», «дом-спейс», «икс-станок», «эксченч-пауэер». Я сдался, расслабился и нырнул в свой коктейль, а киллер продолжал явно занимавшую его беседу на непонятном языке, как будто всю жизнь только и делал, что таскал на поводке, раздражал током или подвешивал на крючьях профессиональных жертв разного пола и возраста. Это была настоящая глоссолалия, т.е. внезапное снисхождение дара общения на незнакомом наречии. В своей обычной интимной жизни киллер предпочитал простые оральные радости и грудастых блондинок, здесь же, на третьем этаже. Никаких особенных перверсий и сладкого театра, если, конечно, не считать извращением двух блондинок вместо одной. Содержание разговора с см-тусовкой он впоследствии мог легко пересказать, но без всех этих терминов, раздраженно морщась, когда я их вспоминал и просил перевести на более русский.
Точно так же он морщился при упоминании фамилии Джармуш. Я не мог понять почему, пока не посмотрел «Пса-самурая». Из всего видео, которые он брал у меня, негодование у него вызвал только Шлендорф, «Легенды Риты»:
– Эту мудянку я не досмотрел. Нельзя валить людей как бревна, ради какой-то идеи. Понимаешь?
Я не понимал искренне, хотелось спросить, можно ли валить людей как бревна безо всякой идеи, за деньги, по заказу, практически просто так? И всматриваясь в это полное брезгливости лицо я разгадал суть его этики. К любым идеям он относился как к вонючему мусору, оскорбляющим нашу жизнь нечистотам, а убийство оставалось для него стерильным, ритуальным, реальным и самодостаточным действием. Он выступал против любых «теоретических обоснований» своего искусства.
Устав от киноамбиций киллер оттягивался под порносериалы Брэда Армстронга, особенно его смешило, что Джена Джеймсон, их главная героиня, жена Армстронга. Купив их новый фильм, он мог сколько угодно смеяться как ребенок, показывая пальцем в телевизионный аквариум со спермой и повторять: «Она его жена! Представляешь себе, это его жена! У них семейный бизнес». Институт семьи всегда представлялся киллеру сугубо комичным и надуманным, в Армстронге он находил этому особое подтверждение. Оказавшись у меня дома, сразу поинтересовался, что за дядька с ружьем и в шляпе висит над кроватью. Узнав, что это Берроуз, неуверенно кивнул головой. Потеплеть к Берроузу и прочитать «Обнаженный Ланч» его заставила только история о том, как писатель угрохал свою жену из этого самого ружья, поставив супруге на голову тарелку и отойдя на тридцать шагов. Уверенные в меткости Уильяма друзья аплодировали, пока он не отпустил курок.
И все же киллер явно тяготел к востоку. Возможно, звала кровь. Пару раз приглашал меня на чью-то дачу, исключительно для того, чтобы похвастать небольшой, но стильной коллекцией японской стали. Кроме нескольких обычных танто и аикути – с первым самурай служит, со вторым уходит в отставку – на полированных держалках холодно сияли женские штучки: нож, спрятанный в веере, заколка-стилет, короткий кривой клинок для дзигак – женского аналога харакири, а проще выражаясь, для удобного и быстрого вскрытия шейной артерии, не помню, как назывался. Неожиданно киллер выхватил из увитых иероглифами ножен большого меча длинную трехгранную иголку. Оказалось, для кровопускания лошадям. От него я узнал, что трогать лезвие руками означает оскорбить хозяина дома, только тонким платком или рисовой бумагой. Киллер признался, что мечтает купить нож-пистолет начала века, но очень дорого, дешевле слетать в Японию и привести вещь оттуда. В окружении этих предметов он вел себя как ребенок, обставленный любимыми игрушками. Я догадывался, а точнее, был совершенно уверен: этот большой загородный дом с неприступным забором, заявленный по телефону как «наша дача», не имел к нему никакого отношения, не говоря уже об оружии. Он мог здесь быть только недолгим гостем, а точнее, человеком, которого временно необходимо прятать, чтобы потом использовать в строго определенных целях. Но нарушать правил игры не хотелось. Я был в гостях у коллекционера. А собственность, как показывает практика, еще более относительное понятие, чем «место жительства». Про «нашу дачу» он больше никогда не вспоминал. Но восточная ориентация подтверждалась на каждом шагу.
«Если я отвалю, то только в Южную Корею» – всерьез предполагал киллер. Когда я спрашивал, почему не в Северную, он вспоминал сеульский интернет-скандал, мол, там самоубийца заказывал себе палача на специальном сайте, перечислял деньги на счет и дальше жил несколько контрольных дней, позволяющих отменить заказ, а потом оплаченная смерть брала его в самом неожиданном месте. Сайт быстро накрыли, но, киллер был уверен, все продолжается до сих пор, просто сетевые убийцы стали осторожнее. «Они могут использовать маскировку. Представь себе порносайт, публичный дом какой-нибудь, чат, и там делают заказы, ищут друг друга, только слова заменены, простейший шифр и всем остальным участникам кажется, что ребята по сексу тоскуют». Я пытался представить, и у меня получался сюжет: к сеульским киллерам поступает заказ, они берутся за инструмент, но оказывается, совпадения с шифром произошли случайно, кто-то действительно трепался о сексе и не более. Если речь заходит о важных для кого-то вещах, этот кто-то часто теряет чувство юмора. Киллер возражал, что вероятность совпадения почти исключена и, в любом случае, откуда при таком недоразумении, на счете возьмутся деньги, без которых курок, как известно, не спускается. Его пёрло от этой виртуально-ритуальной холодности.
Не меньше ему нравился в моем пересказе разговор Кришны и Арджуны перед генеральным сражением. Точнее та часть, где Арджуна сомневается в необходимости убить завтра утром несколько десятков тысяч человек, а Кришна его успокаивает, типа, все они, товарищ, давно уже мертвы благодаря своей карме и осталось всего лишь подтвердить этот факт «сразив завтра давно уже убитых мною на этом поле».
Обсуждая детский вопрос, где и когда мы хотели бы жить, киллер отвечал: «Двенадцатый век, горы Эльбруса». Конечно, имея в виду исламский орден ассасинов, «умерщвлявших даже с выколотыми глазами», с ассасинов были в свою очередь, как софт-версия, скопированы тамплиеры. Кажется, он смотрел об этом костюмированный боевик.
«Мне вчера снилась моя рука» – вспомнил он – «вся покрытая глазами. Знаешь, такие пристальные, и ползают как улитки вместо мяса на костях». Я мог бы сказать ему, что именно так, весь покрыт глазами, выглядит, согласно каббале, ангел, являющийся к покойникам за душами, но язык не повернулся. Это было в тот уже период, когда киллер неслабо налегал на ЛСД, и я побоялся, как бы не спровоцировать его полное «перевоплощение» в каббалистического ангела. Вообще, при постоянном и непринужденном нашем общении, я чаще что-то цитировал и пересказывал, стараясь придерживать внутри личные мысли, а вот киллер говорил, как правило, от себя, например, о том, как нравится ему «зовущий» женский вокал, появляющийся посреди песни не важно где, у «Рамштайн», «Мумий Тролля» или Курехина. «Перехватывает дух, когда они поют, эти ундины» – хвалил он неизвестных девушек – «просто мурашки в яйцах». Киллер воспринимал «ундин» как музыкальных приведений, которые могут затянуть своё внутри чьего угодно альбома. Возможно, в этом вокале, он нашел пару к своему внутреннему медвежьему рёву т.е. радовался ундинам не он сам, а его медведь. К блатной культуре, не смотря на колонию, зону и выбитый на груди «оскал на власть» он оставался совершенно равнодушен.
Иногда, в клубе к нему подходили люди или звонил мобильник, киллер вежливо улыбался мне и исчезал на несколько минут, вернувшись, продолжал разговор сквозь новую внутреннюю тему. Кто это были: заказчики? курьеры? посредники? или, непосредственно, будущие мишени? А может быть, такие же его друзья, как и я. По понятным причинам, он не знакомил между собой своих знакомых и никогда не интересовался людьми, с которыми у него не было «дел». Наша с ним дружба – исключение из таких правил. Помнится, меня представили как автора, ведущего в «Лимонке» рубрику о знаменитых убийцах, намекнув, что этот парень в принципе имеет все шансы когда-нибудь стать её героем. Оказалось, он даже читал пару моих историй – Ровашоля и Мэнсона. Отдельные элементы блефа в его поведении я склонен рассматривать как желание заранее поуправлять моим текстом, посвященным ему, той самой развернутой эпитафией, которую я пишу сейчас. Понятное желание персонажа стать хотя бы отчасти с автором.
На открытиях выставок, презентациях журналов, альбомов, он вел себя вполне симметрично: никогда не лез в разговоры, не назывался и не спрашивал: «а кто это был?».
Знакомство киллера с ЛСД и более поздними версиями «кислотных тестов» также косвенно связано с моей «культурной программой». В индуистский магазин я привел его, вообще-то, показать две вещи: машину, фотографирующую цвет и размер ауры и побеги «нефритового» бамбука, умеющего расти даже в полной темноте, лишь бы вода была, и приносящего, если верить индийской рекламе, немалый финансовый успех тем, кто поселит растение в восточной части жилища. Киллер покинул эзотерическую лавку широко улыбаясь, с перламутровым фотопортретом ауры в одной руке и свежим матовым побегом в другой. Однако я не уследил, когда он сунул в карман листовку, приглашающую на «трансперсональный» семинар Института Станислова Грофа. Через неделю, монотонно кивая, я слушал лекцию киллера о холотропном дыхании и внутриутробном опыте, спящем в нас вместе с позвоночной змеей Кундалини. Киллер сетовал, что Грофу запретили практиковать ЛСД-лечение и его ученикам приходится вынимать из себя «трансперсональные воспоминания» всякими обходными путями. В какой-то момент его, видимо, озарило догадкой: то, что не позволено Грофу и его ученикам, ему, простому участнику семинара, никто не запрещал. В грофовском методе «катарсиса через второе рождение» он быстро разочаровался, а вот пристрастие к кислоте осталось.
На столе диктофон, который он брал у меня, чтобы, не меняя состояния, записывать впечатления, а отдал с кассетой внутри, то ли по забывчивости, то ли с известным умыслом. Хотя хвастаться особенно нечем. Почти пустая плёнка, иногда, тихий и незнакомый, булькающий смех, и вдруг, в середине, когда ты уже отвлекаешься от записи и задумываешься о своем, совершенно чужой и скорее женский, тонкий и жуткий голос, наводящий на мысли о его любимых «ундинах», кричит: «моя кожа!», потом опять: «моя кожа!», так несколько раз, и, наконец: «моя кожа – карта миров!». Слушая это, я не могу себе ответить, кто именно визжит на плёнке: жена «внутреннего медведя»? спрятанная женская часть мужского сознания? залетевшая в гостеприимно распахнутый череп лярва? оживший бурятский амулет, похороненный в лесной земле или просто какое-то кастратское амплуа, приглянувшееся размягченному мозгу? И еще меня беспокоит мысль, что этот выкрик надо понимать как «картами – ров!» и тогда я даже приблизительно не могу себе представить, о чём он. Рисуется противотанковый ров, выстеленный разномастными картами, в которые так любят играть пассажиры поездов.
Свой кислотный опыт он описывал так: «напоминает первый приезд в Лос-Анжелес, когда я совсем не знал языка и не понимал, что мне говорят. Но говорят постоянно, и именно к тебе обращаясь, а у тебя в ответ ничего, кроме приветливости. И они давно уже в курсе, что ты не понимаешь ни слова, но не могут остановиться, продолжают с тобой говорить».
Впрочем, как и в случае Лос-Анжелеса, киллер осваивал язык, копируя чужие слова и чувствуя себя «попугаем в клетке». Возможно, в какой-то момент, попугаю в клетке сделалось слишком тесно, сумма его нового опыта вступила в противоречие с требованиями его обычного ремесла. Киллер может отправить отсюда совсем не того, но тоже очень важного человека, и тогда его жизнь обесценивается до отрицательных цифр. О таких вещах можно лишь догадываться. Может быть, кто-то как раз откопал фигурки в тайге.
На похоронах людей почти не было, самая многочисленная группа – милиция с видеокамерой, нарочито всех снимавшая, только что не бравшая интервью. Пришли родители, свято уверенные, что сын «торговал чем-то не очень честным». Девица, с которой я до этого не был знаком, сунула мне в руки тетрадь с моей же фамилией на обложке, написанной рукой покойного. Он смог меня удивить и после смерти. Это были стихи:
Вот новый склеп довольно стильный
И мрак и хлад внутри могильный
И телефон звонит мобильный.
Вперед оплачен на сто лет
Лежит братан при всем параде,
Дешевки нет в его наряде.
Мобил в кармане подключенный
В другом кармане ствол точеный
Заряженный и золоченый.
Воскреснет завтра вдруг в обед?
Он схватит в темноте мобилу
И номер наберет Джамилу
Или покруче Джорджу, Билу
Он скажет с холодком: Привет!
Вы думали, я укокошен?
Навек на кладбище уложен?
Придавлен крышкой гробовою
И скоро стану я скелет?
Э нет, партнеры дорогие,
Сначала вам отдам долги я
А то, гляжу, вы все такие
Прожить собрались по сто лет.
Меня не ждите – сам найду вас.
Когда почувствуете ужас
И хлад нездешний за спиной
Так я за вами, ствол со мной
Достану золоченый ствол
И ваш размажу мозг об стол
И важные бумаги.
Приспустят ваши флаги
На крышах заграничных фирм
Про вас, возможно, снимут фильм
И в самолете модном
Останки увезут домой,
Чтоб там раздать голодным.
Но спит пока братан рассейский
Убит навылет деловой
Не слышит как звонит мобильник
И только нимб над головой.
Хоть ты грешил не раз по жизни
И многих просто завалил
А всетки ты служил отчизне
Гонял таких вот, как Джамил,
Джордж, Бил, Диего и Уинстон,
Хавьер, Муса и Фердинанд
Цивилизаторов всей жизни
Ты многих сбросил в жаркий ад.
За то тебе поется слава
Российский деловой братан
За то к твоей могиле видной
Поставлю полный я стакан.
Не будим торопиться слишком
И склеп твой крепко запирать
Авось услышишь звон мобилы
И ночью выйдешь пострелять
Орфография и пунктуация оригинала сохраняется. Мне кажется, этот автонекролог – его первый литературный опыт, и, скорее всего единственный. Адресован он мне только в случае смерти киллера, как некое важное сообщение, которое я должен получить и отслоить все скорлупы от ядра. Полагаю, он хотел выступить на моей территории, в моей роли, попытаться «написать», и тем самым призвать меня попробовать его роль, взвесить в руках что-нибудь тяжелое, дорогое, запрещенное, созданное для охоты. И если я решусь дебютировать в его роли, то, очень надеюсь, в моей премьере окажется не меньше наивной непосредственности, чем в его стихах. Понятное желание автора совпасть хотя бы отчасти со своим персонажем.








