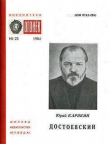Текст книги "Поединок. Выпуск 13"
Автор книги: Алексей Толстой
Соавторы: Эдуард Хруцкий,Василий Веденеев,Сергей Высоцкий,Алексей Комов,Анатолий Степанов,Леонид Володарский,Георгий Долгов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Адмирал озабочен, как ему приличнее развязаться с японцами. До Байкала весь Восток под японским влиянием. Японцы выдумали атамана Семенова – человека весьма серого, но большого охотника до грабежа и резни мирного населения. Японцы его поддерживают деньгами и оружием и, покуда он безобразничает, прибирают к рукам земли и предприятия... Все же такая форма интервенции даже и японцам не совсем кажется приличной и солидной.
Еще до появления англичан и французов японцы были в Омске монопольными «друзьями России». Правда, среди военных и беженцев из России особой горячности не наблюдалось к маленьким, улыбающимся, кланяющимся человечкам, но омское купечество мирилось и с этими спасителями. Савватий Мироныч Холодных кормил пельменями японских торговых агентов, катал на тройках, накачивал шампанским и даже, рассказывают, ревел медведем для их потехи. А когда дела на фронтах пошли плохо, чехословаки отдали Казань, пала Самара и красные уже подступили к Уфе, в Омске начала заседать (совершенно секретно) русско-японская военная комиссия. Японцы предлагали двинуть войска к Уралу, но требовали за это предоставить в их исключительное распоряжение всю сибирскую железнодорожную магистраль и телеграф... Условия тяжелые, но директория пошла на них.
Если отбросить «верховный», то «правитель» звучит совсем шикарно. Была же правительница – Софья. Особенно довольно купечество: в Омске – хозяин, Омск – столица, – иностранные миссии, автомобили с флажками, войсковые парады, грандиозный спрос на шампанское. На днях открывается выставка золотого запаса и драгоценностей. Министр финансов Иван Андрианович Михайлов озабочен устройством банкета на четыреста персон. В министерстве финансов не протолкаться, – поставщики, рыбники, мясники, бакалейщики и какие-то терпеливые люди с чемоданами, – эти предлагают что угодно: кокаин, шелковые чулки, ликеры, опиум, уральские акции, царские деньги и даже весьма модный почему-то в Омске сыр горгонзола.
Адмирал придает чрезвычайное значение выставке. Он уже перевел на имя Сазонова в Париж политическому совещанию триста миллионов франков. Впечатление, произведенное на Париж этим жестом, нам еще неизвестно. Выставка должна, во всяком случае, его усилить: Жанен и Уорд своими глазами увидят золотой фонд адмирала.
У входа пулеметы. В вестибюле пулеметы. У всех дверей – чехословаки (виновники появления в Омске золотого запаса) с примкнутыми штыками.
Приглашенных не так много, – особая комиссия здорово отсеивала публику. Входим в колонный зал. Витрины, и под стеклами – золотые слитки, империалы, платиновый порошок в кожаных мешках, драгоценные эфесы сабель, оклады, золотая посуда, опять столбики десятирублевиков, и в центре выставки драгоценные камни, – они насыпаны в хрустальных вазах, на блюдах, разложены по бархату. Гвоздь выставки – огромный, чистейшей воды, бесценный изумруд Потемкина.
Михайлов встречает гостей. На нем новый сюртук, но плечи обсыпаны перхотью, руки почему-то в черных лайковых перчатках. У гостей захватывает дух. Некоторые впадают в болезненное возбуждение. Некоторые плачут. Со мной горячо здороваются Курлина и Аполлон Аполлонович Бенгальский. Михайлов берет у них пропуска, жмет руки и с широким жестом:
– Не правда ли, импозантно?
Курлина:
– Да уж, батюшка, не нищие.
Аполлон Аполлонович:
– Так мы чертовски богаты, оказывается?
И вдруг у Курлиной слезы:
– Боже ты мой, что у нас было, что у нас было!
У Бенгальского дрожат ноги в светлых брючках, трясутся мешочки под глазами:
– А знаете, господа, больше всего мне все-таки жалко мою оранжерею в Отрадном. Представьте, в январе – клубника.
Гости медленно двигаются вдоль витрин и расстраиваются окончательно: «Ах, Россия, Россия! Не ценили, господа, даже и не знали, чем владели». Особенно бьет по нервам изумруд Потемкина. В столбняке глядят на него Имен и Магдалина.
Имен:
– Ты можешь представить, какая ему цена? Говорят, пять миллионов... С ума сойти...
Магдалина:
– В этом камне спит на пять миллионов счастья.
Имен вдруг шепотом:
– Ну да, сунула в сумочку или еще куда-нибудь.
Магдалина:
– Постой, постой, сколько же это будет на франки?
Имен:
– Не знаю, чудовищно много... Ах, не была бы я дура в жизни!
Магдалина:
– Только взять в руку, и жизнь волшебно изменится.
У наших дам явно катастрофическое падение морального чувства. Мне приходит в голову неплохая мысль. С Имен кто-то заговорил, – я подхожу к Магдалине:
– Что с вами, Магдалина, у вас сумасшедшие глаза!
Она молча глядит на меня. Понемногу слова доходят до ее сознания.
– Мстислав Юрьевич, образованная, воспитанная женщина может быть воровкой?
– Ангел мой, в этом мире все условно... А у нас в Омске и того проще: не пойман – не вор.
– Мне жутко. Должны же быть какие-то остатки порядочности.
– А зачем они?
– Вы будто нарочно толкаете меня.
– Сознавайтесь, в чем дело?
Я смеюсь. Она поворачивается к витрине и с тихой страстностью:
– Вот он! Я могу его украсть... Я могу убить из-за него человека... Протянуть руку – и взять головокружительное счастье... Пылает зеленым огнем... Я ослепну, сойду с ума... Я разобью стекло.
Тогда я сжимаю ее холодную руку и на ухо:
– Мы с вами могли бы заключить договор. Изумруд будет ваш. Хотите? (У нее дрожит все лицо.) Как я достану изумруд, это мое дело, – вы его получите... От вас потребую только одного – послушания.
– Что я должна делать? – едва выговаривают ее губы.
– Полковник Уорд должен действовать так, как я вам буду указывать. Поняли?..
– Зачем это?
– Не ваше дело.
– Это опасно?
– Не знаю.
Быстрее, чем я думал, она ответила, впиваясь мне в руку ногтями:
– Я согласна.
Большие двери открываются. Чехи лихо берут на караул. Входят верховный правитель, Жанен и Уорд. Михайлов кидается навстречу. Колчак холодными глазами обводит присутствующих. Правая рука его за бортом морского сюртука, левая (пока еще не совсем Наполеон) опущена вдоль бедра.
– Здравствуйте, граждане, – говорит он негромко, раздельно, с глухотой в голосе; и союзникам: – Вот, господа, вы можете удостовериться, мы платим золотом за снабжение, золотом за услуги.
Жанен идет прямо к драгоценным камням. Он поднимает плечи, восхищенно и повышенно:
– Божественная красота, бесподобно, бесценно!
Колчак:
– Что вас так заинтересовало, генерал?
– Изумруд.
– Иван Андрианович, что это за изумруд, хочу я знать?
Михайлов подлетает:
– Так сказать, знаменитейший изумруд екатерининского вельможи Потемкина.
Полковник Уорд также заинтересовался камнем. На минуту его даже покидает важность. Жанен с пафосом:
– Адмирал, такой камень может быть лишь талисманом вашей славы. Я глубоко верю – России вернется ее величие... И вернете его вы.
Колчак благодарит наклоном головы. К верховному правителю осторожно приближается маленький человек с большой головой, шафранно-желтым лицом и длинными, веером, зубами – директор японского осведомительного агентства Зумотто. Чем шире он улыбается, кланяясь и будто подкрадываясь, тем суровее адмирал надвигает брови. Не подавая ему руки, говорит громко:
– Господин Зумотто, мне стало известно, что амуниция, доставленная японским командованием атаману Семенову, продана им большевикам.
Японец, приседая задом:
– Амирара, японский команда нисего неизвецна...
– Я имею точные сведения... Я должен наконец решительно прекратить анархические выступления атамана Семенова.
Он говорит о добрососедских отношениях, об открытой политике взаимного благородства, о высших принципах...
– Господин Зумотто, я не хочу допустить мысли, чтобы император Японии мог пользоваться для своих целей шайками разбойников.
Жанен и Уорд внимательно слушают, маленький японец стоит перед этой группой, глядя снизу вверх на высоких людей, и улыбается. Он явно посрамлен. Адмирал резким кивком оканчивает исторический разговор, отходит к витринам.
Затем случилось то, в чем я до сих пор еще не совсем разобрался. Произошло это непредвиденно и неожиданно... (С самой ночи колчаковского переворота я не виделся с Лутошиным и, не получая от него ни вестей, ни записочек, думал, что комитетчики пережидают события. На самом деле мне продолжали не доверять...) В дверях появился полковник Волков, в коротком полушубке и снаряжении, и мне:
– Верховного правителя экстренно к телефону.
Я подошел к адмиралу и доложил. Он резко:
– Я занят! (Но видимо, что-то встревожило его, обернулся к Волкову.) Кто?
– Атаман Красильников, ваше высокопревосходительство.
– Что? – переспросил он надменно.
– Совершенно секретно, ваше высокопревосходительство.
Адмирал нахмурился, чуть-чуть дернул плечом и через всю залу под взглядами по-актерски хорошо пошел к телефону. Сразу заговорили, что, наверное, неприятности на фронте. Полетело словечко «прорыв». Дошло до уха Уорда. Глядя на Жанена, он сказал:
– Прорыв на фронте меня бы не удивил.
Жанен уязвленно:
– Почему бы это вас не удивило, полковник?
– Чем глубже русские войска станут заходить на юг, тем сильнее они будут подвергаться опасности прорыва. Соединение с Деникиным – это план безумия.
Жанен пожал плечами. Разумеется, не здесь же было спорить о французской и британской точках зрения, – о преимуществах наступления через Донбасс и Украину, как настаивает Жанен, или через Север, как хочет Уорд. Пожав плечами, Жанен сказал какую-то изящную колкость. Он сильно раздражен за последнее время. Уорд собрался ему ответить. В это время к ним подошел Савватий Миронович Холодных, – мохнатая визитка, какие-то фантастические клетчатые брюки, борода расчесана, волосы на пробор, сапоги со скрипом. Положив руку на сердце, с достоинством поклонился и произнес одну из своих замечательных речей:
– Дозвольте мне, господа союзники, представителю омского купечества... (Согнул руку коромыслом – большой палец торчком, мизинец вниз и так пригвоздил.)... мысль и факт... Ваши знаменитые купцы и промышленники конкурируют друг с дружкой... Неправильно... (И опять пригвоздил пальцем.) За всем тем мы для вас вроде как дикие, как есть азиаты. А между прочим, не лаптем щи хлебаем... Между купечеством вообще все врозь, а по божьему промыслу мы как братья родные... Это мысль и факт... (И опять пригвоздил.) За всем тем предлагаю объявить общую в Европе, в Сибири партию серьезного купечества... Само собой, банк... Всех задушим, братцы... Где какой народишко забаловался, то есть большевизм, – глуши его совместно... Один антирес и, значит, торгуй и улыбайся.
Сказал, – руку к сердцу, и два шага назад.
Жанен ответил с улыбкой:
– Мосье Холодных, это большая идея.
– Мерси-с. Уорд:
– Да, это неглупо, но это чисто континентальная идея.
– Зенькью. И будет к вам, господа союзники, от нас прошеньице. В субботу на этой неделе у нас именины. Милости прошу откушать сибирских пельменей. Опосля на тройках за Иртыш на всю ночь.
Поклоны. Тут же он приглашает Магдалину, Имен, Бенгальского, меня. Неприятное впечатление от вызова к телефону верховного правителя забыто. На счастливо возбужденном лице министра финансов отражены все удовольствия предстоящего завтрака. Но вдруг все пошло к черту. В дверь ворвались чехословаки, брякнули прикладами, и офицер Шопек крикнул довольно сурово:
– Господа, в городе Омске восстание черни... Через пять минут помещение должно быть очищено от публики и опечатано.
Для меня не было сомнения: случилось очередное очищение омской тюрьмы. Еще при директории в октябре Красильникову и Волкову дано было задание ликвидировать излишки политических заключенных. В омскую тюрьму и, по тому же плану, в тобольскую, екатеринбургскую, челябинскую, семипалатинскую, новониколаевскую, томскую, мариинскую, красноярскую и иркутскую тюрьмы подсаживались провокаторы и поднимали бунт. Энергией местных начальников быстро ликвидировали бунты и участников. Очищался воздух от красной заразы и освобождались места в тюрьмах.
Но на этот раз инициатива, кажется, принадлежала не атаману. Восстали три роты омского гарнизона, разобрали оружие, кинулись к тюрьме, разбили ворота, обезоружили караул в тридцать пять человек, связали офицера и раскрыли камеры, где сидели комиссар Михельсон, несколько десятков большевиков и сотни две красногвардейцев. Но дальше, по-видимому, уже начинается провокация. Во всяком случае, не было ни дальнейшего плана восстания, ни дисциплины, ни порядка. Солдаты вместе с заключенными двинулись в направлений за Иртыш, на Куломзино. По дороге часть заключенных разбежалась по городу, но группа большевиков перешла Иртыш и соединилась с местным рабочим населением. Не было ни оружия, ни командования. Сотни Красильникова рванулись за реку, и началась расправа.
Ночь. Из-за Иртыша залпы и торопливые стуки пулемета. Изредка бухают пушки – это полковник Уорд защищает от рабочих железнодорожный мост через Иртыш.
Адмирал не отпускает меня ни на минуту... Анархическое желание вогнать ему всю обойму в голову... Слишком много чести, – жалкий, маленький человек и лгун – актер... Он не спит вторую ночь и, уже не стесняясь меня, – только отходит за раскрытую дворцу книжного шкапа, – всаживает себе в ляжку шприц с морфием...
Чехословаки держат нейтралитет, и Жанен с ними вместе. У адмирала дрожит подбородок, когда он говорит с Жаненом по телефону, но, ничего не сделаешь, говорит вежливо. Зато Уорд – герой дня. Его пушки спасают столицу новой империи. Город на военном положении, с шести часов ни души на улицах, приказано почему-то даже завешивать окна. Тьма, вздрагивают иногда стекла. Адмирал ходит по кабинету. Только что всадил шприц, глаза блестят. Говорит:
– Обманутые, одураченные люди... Виноваты они? Нет, они не виноваты. Сатанинская гримаса истории. (Поднял палец, – дрогнули стекла от пушечного выстрела.) Выстрел, направленный в грудь Ленину, попадает в одураченного им железнодорожного рабочего. Быть может, я страдаю больше всех в эту ночь. Да, Мосолов, это бремя власти... Они говорят о классовой борьбе... Какой еврейский вздор! Есть Россия, наша родина, и человеческие уровни, подымающиеся, опускающиеся, как морские волны... И есть любовь, да, любовь...
Для какого черта он нес всю эту чушь, не могу понять до сих пор. Он был неглупым человеком. Только на третьи сутки он отпустил меня домой. В городе все кончено. Тишь и гладь, божья благодать. А кроме того, выяснилось (неофициально, конечно), что красильниковским отрядом было расстреляно, повешено и утоплено в Иртыше более пятисот человек рабочих и бежавших из тюрьмы красногвардейцев. На берегу Иртыша зарублены шашками, застрелены и зарыты в сугробы девять членов Учредительного собрания и несколько десятков, взятых из тюрьмы и выловленных из города. Эти-то попали как кур во щи, – в свое время они больше всех старались спихнуть Советскую власть и сами же вырастили сибирских атаманов, генералов и самого Колчака.
Закржевский не без литературного дарования. Он затесался в отряд Красильникова и ночью в атаманском штабе (в Куломзине, за Иртышом) записал сценку столь отвратительную, что привожу ее целиком...
«Изба. Огонь в лампе вздрагивает от выстрелов за окошком. Но кажется, все уже кончено со сволочью. На столе четверти со спиртом, огурцы, остывшие пельмени. Все пьяны и устали адски. Генерал Шерстобитов читает Надсона, – он не расстается с этой книгой. Герке кончает писать протокол. Атаман валяется на постели. Рядом в кухне пьяные казаки. У стены стоит железнодорожник. Руки связаны за спиной. Явный большевик. Надоело допрашивать, о нем как-то забыли. Картина чрезвычайно сочная. Шерстобитов читает:
Тихо замер последний аккорд над толпой,
С плачем в землю твой гроб опустили.
За окном залп, – кончаем с последним. Атаман ржет.
– Вот это так аккорд!
Железнодорожник говорит тихо:
– Атаман, отпусти мою дочь.
Атаман скрипит пружинами:
– Ты говори со мной по душам. Я человек простой, русский. Ты мне душу переверни... Говори мне: «Григорий Александрович, отпусти мое родное единственное дитя».
– Дочь не виновата, она не знала, что я здесь скрываюсь.
Начштаба Герке читает по протоколу:
– «Допрошенный в числе прочих бунтовщиков Иван Лутошин показал...» Это ты Иван Лутошин?.. «Показал, что он и дочь его Антонида двадцати двух лет, девица учительница, состояли в партии большевиков».
– Я этого не показывал, – торопливо говорит Лутошин, – я один.
Генерал Шерстобитов с досады, что его прерывают, произносит громовым голосом:
Спи спокойно, моя дорогая.
Только в смерти желанный покой,
Только в смерти ресница густая
Не блестит безнадежной слезой.
К Лутошину:
– Чьи стихи? (Потрясает книгой.) Революцию делаешь, а национальных гениев не знаешь... Шомполов! (Но от резкого движения валится вместе с книгой со стула.)
Атаман хохочет. Герке, не обращая внимания, пишет. Генерал Шерстобитов встает на четвереньки, отыскивает книгу и опять усаживается. Лутошин тихо, настойчиво:
– Атаман, отпусти дочь.
– Так дочь, значит, невинна? – спрашивает атаман. (Герке фыркает в бумагу.) – Хорррошо, проверим... Генерал Шерстобитов, это ты у нее под подолом нашел большевистские прокламации, или после тебя казачки напали на эту находку?
– Какие прокламации? (Шерстобитов не понимает юмора.) Я нашел непорочность и поступил с ней по закону военного времени.
– Гадина! – кричит Лутошин. – Кат, палач!
Мы все смотрим на него с удивлением, Красильников приподымается:
– С тобой интеллигентно разговаривают. Хам, другого захотел? (Всовывает в рот два пальца и свистит так, что трещат перепонки.) Казаки! (Появляются два казака.) Поддай ему свежего воздуха!
Лутошина утаскивают в кухню, – работают шомпола. Все как полагается. Атаман, видимо, рассчитал: когда начнут шомполовать отца – заговорит учительница. Но она продолжает валяться у стены, не приходя в сознание. Все это в конце концов однообразно и довольно скучно. Острота положений приелась. Лутошин в кухне мычит. Мы выпиваем спирту под огурцы. Шерстобитов опять декламирует. Входят полковник Волков и поручик Дурново. Они из города и сообщают новости:
– Уорд повесил на мосту трех большевиков... Демократ, демократ, а начинает привыкать к нашей обстановке... Тюрьму очистили на ять... По этому случаю в городе среди либеральных гадов паника: кто-то помечает парадные двери мелом, тремя крестами... Купечество выставило в окнах иконы. Но чехословаки – вот сволочи – опять начинают гугнить о революционных свободах... Награбили золота, напились как клопы, и, видите ли, им еще нужна в России демократическая республика... Пора осадить.
Опять пьем спирт. Волков спрашивает:
– А у вас как дела? Сколько в расходе?
Герке, переворачивая ведомость:
– Расстреляно пятьсот тридцать один.
– Здорово!
– А по-моему, немного, – хохочет атаман, – даже на хороший бой не хватит.
Казаки опять втаскивают Лутошина. Выкатив глаза, налитые кровью, он хрипит:
– Я прошу меня расстрелять.
– Барон Герке, – говорит атаман, повалившись на кровать, – агитатор Лутошин Иван?
Герке:
– В списке есть.
– Как помечен?
– Повесить.
– Повесить? – Атаман зевает и трет ладонью лицо. – Ничего не могу поделать, голубчик. Как же я могу тебя расстрелять, когда в протоколе поставлено повесить... Казаки-и, уведите товарища налево.
Звонит телефон. Герке берет трубку и сейчас же почтительно приподнимается, – говорит верховный правитель... Долго слушает... Звякнув шпорами, кладет трубку.
– Неприятность, господа... Генерал Стефанек от имени национального комитета чехословаков предъявил Колчаку ультиматум о неприкосновенности бежавших из тюрьмы членов Учредительного собрания, всех эсеров и меньшевиков.
– Ах, так! – атаман как бешеный срывается с постели. – Ну, это мы еще посмотрим! Есаул, дать казакам по чарке, седлать коней! Господа офицеры, одевайсь!.. Комендант Волков, приказываю, чтобы ни одного дома, ни одной щели не оставить, все обшарить... Чтоб завтра к утру в Омске было чисто... Ультиматума генерала Стефанека я не получал... Запомни!
Атаман несомненно очень неглупый, решительный и боевой человек. В здешних условиях он пойдет далеко. Он добровольно взял на себя роль Малюты Скуратова, – только русские либералишки могут оплевывать такую высокотрагическую фигуру. При атамане верховный правитель может не надевать перчаток, – руки будет пачкать Красильников».
Я свалился в брюшном тифу. Должно быть, это началось еще в дни расстрелов. Последнее, что отчетливо вспоминаю, – это телеграммы (то есть копии, переданные верховному правителю) в Париж и Лондон от французского и английского представительств в Омске о том, что счастливо ликвидирован большевистский бунт, правительство адмирала Колчака пользуется самым широким доверием всего населения и должно быть признано в, качестве центрального российского правительства... Затем отрывками вспоминаю пельмени у Холодных и ночную поездку за Иртыш... Очевидно, в то время я уже плохо владел мыслями. Почему-то придавал необыкновенное значение этой поездке за Иртыш на постоялый двор (знаменитый блинами и квасом). Я знал – дом был разбит артиллерией, но поблизости на огороженной пустоши находилось то, что мне в бреду настоятельно хотелось показать Жанену и Уорду.
Болит голова, омерзительный медный вкус, знобит. Заехал к адмиралу просить отлучиться на вечер. Вышла Темирова. Адмирал лежит – жар, ломит грудь. У Анны Федоровны под глазами тени, лицо осунувшееся. В руке письмо (на конверте почерк Жанена). Она говорит мне:
– Голубчик, боюсь за его сердце, боюсь... Он столько перестрадал эти дни... Посоветуйте, что мне делать... (Показывает конверт.) Опять Жанен, – третье письмо... Александр Васильевич так бывает взволнован его письмами... Жанен пишет каким-то совершенно недопустимым тоном... Как приказчику... И все одна тема: на юг, на юг, – Александру Васильевичу не нужен Донецкий бассейн, Кавказ, Черное море... Нам ничего этого не нужно... (Расширила глаза, и шея у нее раздулась зобом.) Он – царь Севера... Это всем нужно понять.
Я поехал к Холодных. Прием гостей наверху, в чистой половине, которую отапливают только по высокоторжественным дням. В обычное время Савватий Мироныч помещается в грязной комнатешке в полуподвальном этаже, а время проводит в невероятно грязной кухне, где толпится с утра до вечера разный деловой народ – купчишки, прасолы, ямщики, приказчики, мукомолы, рабочие. Здесь на непокрытом столе весь день кипит четырехведерный самовар и делаются дела. Здесь же Савватий Мироныч и обедает, садясь за стол сам-тридцать. Когда бывают вспрыски, водку ставят в ведрах или наливают в супницы, крошат туда черный хлеб и хлебают деревянными ложками.
Но сегодня отперто парадное, на лестнице красный ковер. Я опоздал, гости уже за столом. Савватий Мироныч расшибся, – завалил стол живыми цветами, рыбами, закусками. Пельмени были только предлогом, к ним никто и не притронулся. Французское шампанское, – неограниченная подача, хотя сам он пил только водку, выплескивая лафитные рюмки в широко разинутый рот, чем приводил иностранцев в изумление.
Повторяю, все это я видел тогда сквозь туман. Было шумно, Имен и Магдалина хохотали, как и полагается. Запомнились рассуждения полковника Уорда (в начале ужина он еще держался с большим достоинством):
– ...Да, господа, я представитель организованных рабочих Англии. Я тред-юнионист. И с гордостью заявляю: мы ведем рабочие массы мимо революции к счастью. Да, господа, к счастью. Английский рабочий почти уже не чувствует пропасти, отделяющей его от буржуа... Но ваша революция, господа, не может радовать английское сердце. Большевики – это прежде всего профессиональные обманщики, жонглирующие великими идеями. Это, – прошу прощения, – разбойники, вооруженные новейшим оружием. Они строят личное благополучие на обмане нищих, невежественных и политически неразвитых рабочих масс. И вы увидите – так долго не сможет продолжаться. Ни одна война не наделала столько непоправимых разрушений, как русская революция... Мы, англичане, удивляемся, – да, да, удивляемся, и относим это к глубочайшей пассивности русских... Мне бы не следовало говорить, но я среди друзей, – господа, только широкий прилив английского капитала в вашу несчастную страну может спасти ее от окончательной гибели...
Морозный воздух меня освежил. Сижу в санях Уорда. Жанен и Магдалина – на передней тройке. Холодных с Имен за ними. Ночь мглистая, лунная... Ямщики пьяные, тройки мчатся как бешеные. Уорд, размахивая руками, произносит речи о счастье английских рабочих, но все следит за передними санями. Сзади доносится визг Имен. Мимо летят заваленные снегом домишки, длинные полосы заборов, по мосту беззвучно дребезжат телеграфные столбы. Спускаемся за Иртыш. Ямщик, обернув заиндевелую бороду:
– Давеча, – указывает кнутовищем на дальний берег, – вон, где лесок-та, собаки из сугроба человека вытащили, весь в кровище, изрубленный, да и бросили на дороге...
Передняя тройка выносится на берег и останавливается у разбитого постоялого двора. Мы догоняем, Уорд выскакивает, спешит к Магдалине. Невдалеке, через недавно поставленный забор (это место куплено Савватием Миронычем под мукомольную мельницу), вижу – перелезают, будто спасаясь от нас, какие-то люди.
Собираю все силы, вылезаю из саней. Желание – лечь раскаленным лицом в снег, как лежат те по ту сторону забора, на пустыре, трактир разбит, вывеска сорвана. Магдалина сидит на крыльце, мечтательно смотрит на месяц. Уорд и Жанен обмениваются колкостями, что-то вроде:
– Простите, я не знал, что в обязанности главнокомандующего входит вытряхивать снег из ботиков моего секретаря.
– Вы называете это обязанностью, я нахожу это счастьем, я сожалею, что вам это не приходило в голову...
И так далее в том же роде... Два петуха топорщатся из-за женщины. У Жанена лицо измазано губной помадой, Уорд злобно острит по поводу этого, Магдалина закрывается муфтой. Подходят Холодных и Имен, – хохочет, ее всю облили шампанским... Колотит в дверь трактира, заглядывает в окошки: «Господа, честное слово – там кто-то висит»... Тогда все хором (Уорд хлопает в ладоши): «Блинов, блинов!..»
Меня мутит... Острый – едва сдерживаюсь – прилив ненависти. Но глаза все время застилает и – провалы в памяти... Наклоняюсь к Магдалине:
– Договор нарушен...
Она торопливо в муфту:
– Я чуть не на коленях умоляла Уорда не связываться с Красильниковым... Но он опять заговорил о чести мундира, о британской точке зрения, о преобладании английского оружия над французским... В конце концов, его выступление на мосту было очень невинное, всего несколько выстрелов из пушки...
– Я сейчас покажу, какое оно было невинное!
Бешено лезу через сугробы к забору, хватаясь за доску, отдираю – не поддается...
– Эй, миленок... (Холодных озабочен.) Чего ты разоряешь? Забор-то ведь мой...
Хохот. Все кидаются мне помогать. Гвозди с визгом вылезают, широкая доска отдирается. Я кричу:
– Глядите, господа, чудный вид на Омск...
Шагах в десяти от забора навалены кучами человеческие трупы (раздеты до нитки, – одежный и бельевой кризис)... Кучи – по всему пустырю, и под горой – огни Омска...
Имен шепотом:
– Что это такое?..
Поняла, шатается, садится в снег. Холодных сердито сопит – ему загадили пустырь. Жанен говорит спокойно:
– Трупы расстрелянных Красильниковым и полковником Уордом...
Молчание, и затем то, чего я и ждал: со стороны трактира и из щелей забора по нас револьверные выстрелы... Или это шум в ушах, шум в мозгу заглушает их, но выстрелы слабые, редкие, всего пять-шесть...
Женщины взвизгивают. Жанен кричит:
– Мы в засаде...
Уорд:
– К саням!
Бегут... Магдалина бежит, как слепая, трясет руками... Жанен подхватывает ее. Холодных в распахнутой дохе впереди всех несется по сугробам. Из-за угла трактира вспышки, выстрелы. Уорд вытаскивает наконец оружие, выпускает всю обойму...
Провал в памяти... Кажется, я рысцой побежал за ними, засунув (нарочно) руки в карманы... может быть, я только хотел так, но не успел... Папаху сорвало пулей... Ко мне подбегали Петр, Ваня и еще третий (незнакомый).
Ваня стреляет в упор (осечка).
– С белой сволочью связался!
Петр с силой отталкивает его:
– Подожди, не твоего ума дело... (И мне.) Ну, благодари уж не знаю кого... Не признали... Смотри, Мстислав Юрьевич, себя перехитришь.
Вытянув шеи, раздув ноздри, глядят на меня как волки все трое...
– Не веришь, стреляй, какого черта, – говорю... Будь я на их месте, тоже бы не поверил в двойную игру адмиральского адъютанта, прикатившего на тройках с пьяными иностранцами на пустырь, куда по ночам прокрадывались люди опознавать трупы... И, хотя давеча я и послал записочку Петру Лутошину, до конца верить он не мог... Если они не пристрелили меня тут же у забора, то только потому, что окончательно им было трудно и безвыходно, если можно было поверить мне на ничтожную долю, – стиснув зубы, поверили. Петр сказал:
– Ну ладно, вертайся к своим... Отчета спрашивать пока не будем... Ты еще нам пригодишься...
Не помню, как вернулся в сани к Уорду... (Он меня поджидал, остальные тройки умчались.) Кажется, объяснил ему, что получил контузию, а те сочли меня убитым... Залез под полсть, но ни шкура, ни полушубок не грели, точно я был голый на морозе... Озноб, и затем – провал окончательный в сознании и в памяти...