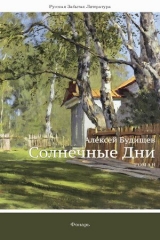
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Алексей Будищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Он снова вернулся в усадьбу и заглянул в освещенное окно кабинета. Там играли в карты; он увидел Быстрякова и Загорелова; они сидели с красными, возбужденными лицами, видимо, оба сильно опьяненные. Загорелов с досадой перекидывал ассигнации в сторону Быстрякова, а тот хохотал и говорил:
– Это я вас, сосед, на полтораста обмусолил!
«Ну, теперь до утра будут резаться», – подумал Жмуркин.
Небо делалось серым. В облаке, неподвижно застывшем над восточным гребнем холмов, словно теплился малиновый уголек. В усадьбе кричали петухи.
ХХV
Быстряков вернулся к себе домой в единственном числе. Анфиса Аркадьевна заночевала у Анны Павловны, так как боялась ездить по ночам. Возвратился он в шесть часов утра и сильно подвыпивший; однако, когда он, отворив дверь, вошел в спальню, хмель тотчас же соскочил с него, и он остолбенел посреди комнаты с выражением самого крайнего изумления на рябоватом лице. Лидии Алексеевны в комнате не было, и ее постель даже не была примята. Он крикнул прислугу.
– Где барыня? – спросил он прибежавшую горничную.
– По всей видимости, в гостях заночевали? – отвечала та вопросом же.
– Кой черт, в гостях! – вскрикнул он. – Она ушла оттуда в одиннадцать часов. У нее зубы разболелись. Разве она домой не приходила?
– Никак нет-с; как с вами уехамши, так мы их и не видели.
Быстряков тяжело опустился на стул.
– Что же это такое? Господи Боже наш! – проговорил он.
Пожилая горничная Аксинья, служившая в доме Быстрякова уже десятый год, повторила за ним:
– Господи Боже наш! Куда же они могли деться?
– Лошадей мне! – крикнул Быстряков, и вдруг, отвернувшись к спинке стула, он захныкал в платок.
Аксинья исчезла, но через несколько минут она вбежала в спальню снова, бледная и с глазами круглыми от испуга.
– Барин! Господи Боже! – вскрикнула она с порога. – Господи Боже наш! Протасовские рыбаки сейчас у мельницы туфельку нашли. Рабочий Никешка их сюда ведет, я послала... – говорила Аксинья беспорядочно. – Протасовские рыбаки и пастухи сказывали!.. Ой, батюшки! Это уж не барынина ли туфелька-то?
Быстряков поспешно пошел на двор. Скоро протасовские рыболовы подошли к крыльцу. Их было трое: седой старик с горбатым носом, веснушчатый парень, с белыми ресницами, и семилетний мальчуган. Этот был без штанов и с ведром в руке. Парень держал в руках туфлю, перепачканную в тине.
Быстряков взял эту туфлю и опустился на крыльцо.
– Это Лидочкина, – сказал он.
Туфля выпала у него из рук. Он заплакал, весь сотрясаясь. Несмотря на свое грузное тело, плакал он совсем дискантом, по-ребячьи. И по-ребячьи же он зажимал платком нос и всхлипывал.
Быстряков был хохотушка, но любил и поплакать, и в Страстной четверг, при чтении о страданиях Спасителя, он всегда стоял в церкви с лицом, мокрым от слез.
Между тем, по всей усадьбе пронеслась весть: барыня Лидия Алексеевна утонула!
Быстряков разослал верховых к становому, к следователю, к Загореловым, а сам остался, как был, на крылечке, словно сторожа туфлю. Он постоянно плакал, сморкался и приговаривал:
– Если тебя чем обидел, – прости!
Прежде всех приехал Загорелов в одном экипаже с Анфисой Аркадьевной. Он был бледен, неумыт и всклочен. Выскочив из экипажа, он встревоженно сказал Быстрякову:
– Я этому не хочу верить! Что тут случилось у вас?
Быстряков вместо ответа показал на туфельку, стоявшую тут же рядом с ним на крыльце.
– Что же это такое? – говорил Загорелов, бледнея. – Этому даже верить нельзя!
А с Анфисой Аркадьевной сделалось дурно; ее насилу внесли в дом.
Затем подошли Безутешный и Жмуркин.
– Загубили душу? – спросил Безутешный, ни к кому не обращаясь и подходя к крыльцу. – Эх, подлецы, подлецы! – добавил он загудевшей как колокол октавой.
Жмуркин спросил у Загорелова:
– А где туфельку-то нашли?
Он был бледен, серьезен и сосредоточен.
Через минуту он говорил перед крыльцом:
– Это еще ничего не доказывает, что туфельку около воды нашли. Разве ее нельзя подбросить? Убили, а потом подбросили: смотрите, дескать, сама утонула. А этого нельзя и предполагать! Хорошее сословье, когда топится, всегда записку оставляет, а тут записки нет. А ведь Лидия Алексеевна не девка крестьянская! – говорил он с сдержанными жестами.
– Весьма возможно, что и так, – сказал Быстряков Загорелову, – на бабе на пять тысяч всяких побрякушек навешено, а она идет ночью пешком! Сколько раз говорил ей: «эй, баба, не шлендай ты, сделай такую милость, пешедралом! Иль у нас на конюшне лошадей мало!» Нет, не слушалась, любила ходить пешком! – Быстряков снова расплакался. – И вот дождалась, – заговорил он дискантом, – может и взаправду удушили!
– Положим, тут всего полверсты, – сказал Загорелов, – так отчего и пешком не ходить.
Он был бледен и взволнован, но, видимо, сдерживался.
Жмуркин внезапно подошел к Загорелову и отозвал его незаметно за угол дома.
– Знаете, Максим Сергеич, – сказал он серьезно, – здесь еще вот какая вариация могла произойти! То есть, относительно Лидии Алексевны!
– Какая?
– А не было ли у нее, извините за выражение, любовника? Кто знает! – говорил Жмуркин, глядя как-то в бок. – Так тот мог из ревности или вообще...
– Какой ты вздор говоришь! – перебил его Загорелов сурово.
– Отчего же? Все может быть-с!
Жмуркин повернулся и пошел от него прочь. Внезапно он вспомнил ужасную вещь: у него на токарном станке совсем на виду лежал носовой платок Лидии Алексеевны. Она уронила его, когда доставала письмо, а он поднял его потом, после того ужаса, и бросил на станок, намереваясь затем сжечь. И позабыл. Он шел и думал:
«Ну, что же? Иди, собака, и заметай следы. Ведь на каторгу-то ты, пожалуй, что и не захочешь? Кто тебя разберет нынче!»
Вскоре приехали следователь и становой. Однако, следствие решительно ничего не установило и не выяснило. Исчезновение Лидии Алексеевны оставалось в полнейшем мраке. Ее тела не нашли нигде, хотя русло Студеной насколько возможно прощупали баграми и основательно оглядели местность между обеими усадьбами. Предполагая, что на Лидию Алексеевну могло быть сделано нечаянное нападение при ее возвращении из усадьбы Загореловых к себе домой, следствие тщательно оглядело лишь дорогу между этими усадьбами и тропинку для пешеходов, которою пользовались для сокращения пути. Протяжение этой тропинки равнялось лишь полуверсте, и она сокращала расстояние почти втрое. И однако, обе эти дороги не носили ни малейших следов какой-либо борьбы. В то же время следствием было выяснено, что и рыбаки, случайно нашедшие, на берегу Студеной туфельку, вышли на рыбную ловлю лишь в пять часов утра и пробыли всю предыдущую ночь дома, не отлучаясь ни на минуту, что было засвидетельствовано как их домашними, так и соседями. А между тем случай нечаянного нападения с целью ограбления можно было предполагать вполне, так как было совершенно точно установлено, что на Лидии Алексеевне было всяческих драгоценностей на пять тысяч рублей.
– За одно ожерелье из яхонтов я две с половиной тысячи отвалил, – говорил Быстряков, хныча в платок. – Я ее любил! Я ее как Богородицу в окладе держал!
Анфиса Аркадьевна плакала и добавляла:
– Я ей перстенек в триста рублей подарила. На ней же был!
– А серьги? – говорил Быстряков следователю. – Серьги в пятьсот рублей положите на кости. Это всего сколько? Вот то-то и есть! Я так думаю, – добавлял он дискантом и плача, – что если бы она самоуправно, то есть, наложила на себя руки, она всю эту мозаику сняла бы. Посудите сами, зачем ей такое состояние в Студеную хлопнуть? Я понимаю, – говорил он, – если бы это на людях происходило, то есть, ее кончина. А то ведь с глазу на глаз. Чем же тут гордиться, посудите сами. Ведь вы человек умный, можете это понять! Господи, Боже наш!
Несмотря на такого рода обстоятельства, следствию пришлось пока объяснить исчезновение Лидии Алексеевны ее самоубийством, тем более, что Анфиса Аркадьевна чистосердечно заявила, что Лидия Алексеевна весь последний месяц чрезвычайно грустила и много, очень много плакала. Почти ежедневно. Хотя причину этих слез она объяснить отказалась.
– Я и сама сколько слез, на нее глядя, пролила, – говорила она, утирая глаза платком. – А о чем она плакала, не знаю.
Эту же мысль о самоубийстве подтверждала, хотя отчасти, и туфелька, выброшенная волнами Студеной. А то обстоятельство, что тело покойной не могли разыскать, мало что говорило собою. Сердитые воды Студеной нарыли ниже плотины столько ям, омутов и водоворотов, что прощупать хорошо ее русло представлялось делом совсем невозможным.
– Нешто возможно выщупать этакую прорву! – говорили протасовские мужики, целый день не вылезавшие из реки ради этих поисков. – Погляди, чего она там нарыла. Студеная, ведь это – зверь. Ее только один Максим Сергеич сдерживать может, а прежде она каждый год плотины кверху тормашками ставила. Она только одного Максима Сергеича боится, – говорили они о Загорелове. – У плотины-то, небось, как кошка в печурке сидит. Тише воды, ниже травы!
В то же время явилось предположение, что тело Лидии Алексеевны никогда и не будет обнаружено. Труп могло затащить в омут под коряги, которыми и забивало русло Студеной, а те не выпустят его из своих цепких лап, и они будут сторожить тело в желто-розовом шелковом платье и в ожерелье из рубинов, – эти коряги, видом похожие на пауков, – вплоть до вешней воды. А там ее унесет, как былинку, в Волгу, а там – и в Каспий. Это предположена высказал первый Загорелов.
– Каспий! – вдруг закончил он с потрясенным лицом. – Увидишь ее, кланяйся земно от нас!
Он вдруг пошел к крыльцу, вытянув вперед руку и смешно шагая, точно он шел по палубе парохода в сильнейшую качку. Горбоносый протасовский рыбак догадался и, пробежав к нему, подставил свое плечо.
Он овладел собой и сказал:
– А дни-то какие солнечные да ясные, даже не хочется и верить несчастью!
В то же время Анфиса Аркадьевна сидела на крылечке и думала:
«Что они все о ней как о покойнице. Тела-то ее ведь нигде не нашли! Кто же знает, может быть, ее Лафре увез. Господи, Боже наш! – добавляла она мысленно. – Если бы только это правдой оказалось, я бы этого самого Лафре расцеловала!»
XXVI
Возвратившись домой, Загорелов выкупался в Студеной, облил голову одеколоном и переменил пиджак на тужурку. Однако, это нисколько не освежило его. Его голова трещала по-прежнему, а сердце ныло. Он прилег тут же, в кабинете, на кушетку, желая ни о чем не думать. Но ему снова чуть ли не в десятый раз пришло в голову:
«Если бы я тогда согласился уехать с нею, она была бы жива!»
Он встал с кушетки и присел к столу все в тех же размышлениях.
Почему, в самом деле, мысль уехать с Лидией Алексеевной показалась ему тогда дикой? Разве это так трудно было устроить? Переведя на деньги все, что он имеет, он образовал бы капитал в двести пятьдесят тысяч.
– Не меньше, – сказал Загорелов вслух.
Из этой суммы он положил бы в Банк на имя Анны Павловны сорок тысяч.
«Или тридцать пять», – подумал Загорелов.
Следовательно, в его распоряжении осталось бы двести пятнадцать тысяч. Загорелов написал на листе бумаги 215.
«Так вот двести пятнадцать тысяч», – продолжал он свои размышления.
Пусть Америка страна своеобразная, но все-таки с таким капиталом он мог бы начать там какое-нибудь самое осторожное дело. Пускай оно давало бы ему хотя бы только два с половиной процента.
– Или три, – прошептал Загорелов и вдруг резко бросил от себя карандаш.
Тот ударился в звено рамы и с подоконника скатился на пол.
– Все деньги, деньги, деньги! – сердито проговорил Загорелов. – А за ними живую душу проглядел! – Он пошел прочь от стола. – Лида, где ты? – вдруг спросил он сорвавшимся голосом и пошел по комнате, как по палубе парохода, тотчас же прислонившись к стене.
«Прощай, Лида!» – подумал он.
Он подошел к туалету и, снова намочив голову одеколоном, вышел из кабинета. Он пошел в комнату к Анне Павловне с озабоченным видом.
Анна Павловна сидела у окна в широком кресле ела мармелад, и, поглядывая в окошко на голубятни над сеновалом конюшен, она говорила Глашеньке:
– Что это за диковинное дело, – вот этот, вот голубь, вон с бланжевыми крапинками, к чужой голубке в гнездо лазает. Ей Богу! Сегодня уж в пятый раз!
– Своя-то у него, видно, уж зажирела очень, – съехидничала Глашенька, – так вот он которая пофорсистей нашел.
– Ну, уж ты! – лениво усмехнулась Анна Павловна. – Я довольна.
– Скажите пожалуйста, – обратился к ней Загорелов, появляясь в комнате с озабоченным видом, – что она вам сказала, когда уходила от нас?
– Лидия Алексеевна? – догадалась Анна Павловна. – Да ничего не сказала. «Я, говорит, домой сейчас уйду. У меня, говорит, зубы болят», и больше ничего.
– А каков ее наружный вид был? – озабоченно допытывался Загорелов. – Было ли действительно похоже на то, что у нее болели зубы?
Анна Павловна развела руками.
– Как вам сказать? Я ведь недогадливая на это!
– Вы, кажется, вообще догадливостью не отличаетесь, – сердито буркнул Загорелов, – а не только что на это!
Глашенька точно чему обрадовалась.
– А наша Анна Павловна, – вдруг обратилась она к Загорелову с сердитой насмешливостью, – представьте себе такой сурприз: у бланжевого голубя на свадьбе в свахах была! Знает, которая у него законная жена и которая куролесница от скуки!
– А ну, вас! – Загорелов сердито отмахнулся и пошел к Перевертьеву. Видимо, ему нигде не сиделось.
Когда он вошел к нему в комнату, тот сердито слонялся из угла в угол. Он опустился на первый попавшийся стул.
– Попробуйте-ка понять женщину, – между тем, заговорил Перевертьев, все так же слоняясь из угла в угол и сердито пощипывая усики. – Вот та утопилась, хлопнулась в омут, и, наверное, лишь потому, что тот, кого она любила, не весьма много дорожил ею. Наверное лишь потому. А вот эта, – я говорю о Валентине Петровне Сурковой, – собралась сегодня к мужу. И знаете почему? Да потому, что получила от него письмо следующего содержания: «Дорогая Валечка! Гости пожалуйста у Загореловых сколько хочешь, хотя бы до второго всемирного потопа. О мне не думай, думай лишь о себе. За твое благополучие, ты знаешь, я готов отдать полмира, оставив себе лишь Францию». Так вот получила такое письмо и сейчас же едет. И даже слезы на глазах. А напиши муж: «Приезжай, ради Бога, скорее», она и не шелохнулась бы. Из сего выходит: женщина есть человек, поставленный вверх ногами. Или же: женщина есть древо познания добра и зла, растущее корнем вверх!
Загорелов тихо приподнялся и пошел вон из комнаты.
«Вот и этот тоже, – думал он о Перевертьеве, – меня же в ее смерти повинным считает!»
Он прошел на берег Студеной; река тихо лежала в берегах. Ленивая волна безмолвно скользила у размытых вешней водой берегов, словно она зализывала их раны.
«Сама же набедокурила, – подумал Загорелов о реке, – а теперь жалко. – Нужно было раньше думать об этом, Студеная. Зачем берега-то изрыла? Теперь тебе этой раны не залечить!»
– Студеная, – вдруг прошептал он, – отдай мне ее назад!
Внезапно ему пришло в голову: что если бы Студеная обещала ему вынести на берег ту женщину живой и невредимой, но спросила бы у него денег? Сколько же он дал бы ей за это?
«Я и здесь торговаться бы стал! – решил он мысленно. – Торговался бы! И только до полутораста тысяч дошел бы. А дальше с места не двинулся бы. За голову бы схватился, на берег в изнеможении упал и побожился бы, что у меня ничего больше нет!»
– Стяжатели! – проговорил он злобно.
– Отдай все! – словно сказала ему Студеная.
– Чего-с? – переспросил кого-то Загорелов резко и злобно. – А дайте мне нотариальную расписку в этом, – добавил он так же резко, – тогда посмотрим!
Он беспорядочно махнул рукою над Студеной и пошел в усадьбу обратно.
«Ее теперь по всем омутам таскать будет!» – подумал он.
Он снова пришел в комнату Перевертьева и опустился на стул. Тот все так же слонялся от угла до угла с сердитым выражением лица.
– Ее теперь по всем омутам таскать будет, – проговорил Загорелов вслух.
Из его груди внезапно словно кто-то крикнул неприятно, резко и отрывисто. Этот крик напоминал собою лязг засова в каменном лабазе.
Перевертьев поспешно обернулся к нему.
– Вот что, Максим Сергеич, – сказал он Загорелову, – вам непременно соснуть немного надо. Вы не спали всю ночь, и это следствие вас всего издергало. Вам непременно надо соснуть! – добавил он с участием.
– Чего-с? – сердито переспросил Загорелов, приподнимаясь со стула.
– А что, по-вашему, может быть, и ей соснуть не мешает? – вдруг спросил он Перевертьева злобно, резко жестикулируя перед ним, упирая на слово «ей».
Он пошел вон из комнаты, и в его груди снова будто лязгнул засов.
– Та-та-та, та-та-та! – сердито и с досадой заговорил Перевертьев, когда Загорелов уже скрылся за дверью. – Видно, и тут хвост-то крепко прищемлен между женской юбкой и женским вздором! Та-та-та, та-та-та! – повторил он сердито. – У кошки лепешки, у кота пирожки!
А Жмуркин стоял в старой теплице перед распростертым трупом Лидии Алексеевны. В его руках была книжечка. Постоянно крестясь, он монотонно читал над нею при тусклом свете свечи:
«Вскую шаташася языцы»...
Надвигались сумерки. Лесные овраги точно переполнялись мутной водою.
XXVII
Когда Жмуркин, потушив свечу, вышел из старой теплицы, весь этот глубокий разрез между холмами был словно налит тьмою. Наверху клубились тучи. Затворив, но не запирая за собою двери, Жмуркин тихо двинулся от теплицы к усадьбе. Понуро опустив голову и постоянно натыкаясь на кусты, он медленно двигался среди мрака, порою жестикулируя и бормоча что-то. Казалось, он и сам не знал, куда он идет, и направление пути было для него совершенно безразличным, ибо этот мир – с тучами, холмами и усадьбами – уже наполовину умер для него, заменяясь новым, творцом которого он был сам. Однако, когда он увидел флюгер, тускло мигнувший над воротами их усадьбы, он ясно понял, что связь его с этим миром еще достаточно крепка, и ему многое надлежит совершить в нем, прежде чем идти на новые места.
«На новые места всегда поспею», – думал он.
В то же время он хорошо припомнил, что твердое намерение приступить тотчас же к исполнению свыше предопределенного ему в этом мире и выгнало его из теплицы, а он только забыл об этих своих намерениях, увлеченный иными течениями. Поспешно он прошел в ворота и тотчас же остановился, поглядывая на каменные стены дома. Этот дом спал, вокруг было темно, и только окно кабинета ясно светилось зеленоватым светом. Жмуркин двинулся туда. Осторожно он подошел к этому окну и, прячась за косяк, заглянул вглубь кабинета. Загорелов не спал и ходил из угла в угол, как бы в размышлении, скрестив за спиной руки. Крутые завитки его волос были, очевидно, только что сильно смочены и казались совсем черными. Его лицо было бледно. На столе ярко горела лампа под зеленым абажуром. Жмуркин точно остался доволен тем, что увидел. Он на минуту спрятался за косяк, потер виски и, снова выдвинувшись затем к звену, стал тихонько отворять окошко. Скоро он раскрыл его настежь, и, облокотясь обеими руками на подоконник, он стал безмолвно глядеть на Загорелова, провожая глазами его красивую фигуру от угла до угла.
Однако, Загорелов не замечал этого, глубоко погруженный в свои размышления. Впрочем, вскоре приток прохлады заставил его оглянуться на окно.
– Фу, как ты меня испугал! – сказал он Жмуpкинy, вдруг остановившись посреди комнаты. – Ты что? – спросил он его через минуту.
– Вам не спится? – спросил его, в свою очередь, Жмуркин, не отвечая на вопрос. – Мне тоже не спится, – добавил он, сокрушенно покрутив головой. – Ночь беспокойная сегодня, и Лидия Алексевна где-нибудь близко лежит, – проговорил он неожиданно.
– Это почему же близко? – спросил Загорелов в задумчивости. Он все так же расхаживал, точно запертый в клетку.
– А зачем же ей далеко быть? – Жмуркин развел руками. – Если ее убили, – тут же где-нибудь близко положили или зарыли; а если она утонула, так тоже ведь где-нибудь близко ее под коряги затащит. Ох, Максим Сергеич, Максим Сергеич! – вздохнул он. – Если бы можно было знать зараньше, что из этого всего выйдет!
– Мне не спится, – сказал Загорелов, – я вот все хожу и думаю.
Они переговаривались вполголоса, оба в задумчивости и грусти.
– Она где-нибудь близко, – повторил Жмуркин, – и я сейчас псалмы читал. Думаю: зачем же ей совсем без похорон? «День дни отрыгает глагол и нощь нощи возвещает разум». Это вот тоже читал и потом все кругом усадьбы ходил. Ох, Максим Сергеич, Максим Сергеич! Кто бы это мог предвидеть! А что, Максим Сергеич, – вдруг спросил он тем же шепотом, – вы всегда старую теплицу сами запираете?
– Всегда сам, – сказал Загорелов задумчиво, очевидно, не придавая этому вопросу никакого значения.
– А Лидия Алексевна где-нибудь близко, – шепотом забормотал Жмуркин, – чувствует мое сердце – близко! Максим Сергеич! – вскрикнул он шепотом же. – Максим Сергеич, старая теплица отперта!
– Что ты говоришь? – спросил Загорелов, останавливаясь. – Этого быть не может!
Внезапно его точно опахнуло беспокойством.
– Отперта, – между тем, взволнованно шептал Жмуркин. – Я сам сейчас своими глазами видел. И Лидия Алексевна, наверное, там. Ох, чует мое сердце! Максим Сергеич, пойдемте сейчас туда с вами!
– Этого не может быть! – повторил Загорелов. – Ключ у меня. Вот, в кармане.
Он снова двинулся по комнате.
– Отперта-с, сам своими глазами видел, – шептал Жмуркин. – Максим Сергеич, ох, не к добру это! Пойдемте с вами туда!
– Если она отперта, тогда это в самом деле странно, – проговорил Загорелов с беспокойством. – Пожалуй, идем.
Он растерянно закружился по комнате, словно разыскивая что-то.
Через минуту он вышел к Жмуркину. Тот поджидал его уж у ворот, прислонясь к каменному столбу спиною. Загорелов заметил, что его лицо было смертельно бледно, а его глаза беспокойно светились. Ночь была темная; редкие порывы ветра, свистя, разрезали порою воздух.
– Так ты думаешь она там... Лидия Алексеевна? – спрашивал он его по дороге, видимо, и сам приходя в сильнейшее беспокойство.
– Думаю непременно там, – шептал Жмуркин, весь сотрясаясь и торопливо идя следом за ним. – Ох, Максим Сергеич, нажили мы с вами бед!
Он постоянно вздыхал, содрогаясь.
Они торопливо бежали по скату между черных кустов, шевелившихся под ветром, оба бледные и взволнованные, переговариваясь шепотом. Их голоса звучали во тьме как стоны.
– Скорее, скорее! – говорил Загорелов.
Его тоже начинал охватывать озноб. Он быстро спустился в русло, повертывая к теплице. Жмуркин еле поспевал за ним. В лесном овраге гудело, точно где-то близко сильно дуло в трубу.
– Постойте! – вдруг сказал Жмуркин, хватая Загорелова за рукав, когда тот уже взялся было за ручку двери. – Постойте. Передохните, Максим Сергеич. Слушайте! Она там! – вдруг вскрикнул он пронзительно – Убитая, – снова зашептал он, сильно оттягивая книзу локоть Загорелова. – Убитая... – шептал он чуть слышно. – В висок. Под вашим чапаном.
– Врешь! – крикнул Загорелов злобно и рванулся к двери.
Но Жмуркин не пустил его туда, весь повиснув на его локте.
– Постойте, – шептал он, весь припадая к нему в безумном испуге. – Слушайте! Убитая, – повторял он с расстановкой, чуть шевеля губами и точно весь превращаясь в какую-то рухлядь, – в левый висок! Запомните! – Он прижал руку у горла, согнувшись в беспомощной позе, как столетний старик, весь покачиваясь в такт дыханию.
– А теперь идите! – вдруг крикнул он резко, будто толкнув от себя Загорелова.
Тот поспешно скрылся в теплице. Жмуркин медленно последовал за ним, как бы оправившись несколько.
– Боже мой! – вдруг вскрикнул Загорелов, уже зажегши на столе свечу. – Боже мой, кто же это тебя так, Лида!..
Пронзительный и неприятный звук вырвался из его горла. Он как-то весь качнулся и пошел к тахте.
Там лежало тело Лидии Алексеевны; теперь она была завернута в чапан лишь по пояс. Ее раньше такое хорошенькое лицо желтело теперь как неподвижная маска. Левый висок чернел. Рубиновое ожерелье мерцало на ее шее. Загорелов тяжело опустился на колени у самой тахты, весь припав к ней, точно сломленный непосильной ношею. Те же пронзительные звуки вырывались порою из его горла, сотрясая его плечи. Эти визги походили на дикое пение бури.
Между тем Жмуркин тихонько уселся на полу у печки и, обхватив колени руками, словно застыл. Весь его вид стал теперь бесконечно равнодушным. С таким видом сидят на солнышке больные, впервые выпущенные на воздух после продолжительного недуга. Изредка, впрочем, он медленно и словно с неохотой поворачивал свое лицо туда, в сторону Загорелова, и тогда это лицо, кроме бесконечного равнодушия, выражало собой и безграничное презрение, почти брезгливость. Он точно дожидался, когда Загорелов несколько успокоится, чтобы приступить затем тотчас же к делу, для которого он и вызвал его сюда. Но Загорелов долго не мог успокоиться, и Жмуркин брезгливо двигал губами, то и дело оглядываясь на него. Ему точно надоедало ждать. Однако, спустя некоторое время, Загорелов тихо приподнялся и сел тут же на край тахты, у ног распростертого тела. Его лицо было бледно и, видимо, сильно измучено припадком скорби. Но все же он как будто несколько успокоился. Жмуркин равнодушно оглядел его, точно желая убедить себя в этом. И, казалось, он убедился.
– А ловко вы сейчас комедь разыграли, Максим Сергеич, – заговорил он равнодушно и не переменяя позы. – Сами же убили и сами же, например, плачете. Нехорошо, Максим Сергеич! – добавил он тем же тоном.
Загорелов поднял на него глаза. Он будто совсем не понимал того, о чем ему говорили, и не мог дать только что прослушанному надлежащей оценки. Но вид Жмуркина, казалось, поразил его сильно.
– Чего? – переспросил он его беспокойно.
– Как чего? – отвечал Жмуркин. – Ловкую, говорю, комедь вы разыграли, Максим Сергеич. Сами же убили, и сами же, например, плачете! Чего же вы на меня так глядите-то? Ведь вы же убили-то! Вашим чапаном тело-то обернуто; и потом ключ-то от теплицы ведь только у вас одних имеется, у вас одних! А дверь не взломана и окна целехоньки! Чего же вы на меня глаза-то таращите? – добавил он.
Он сидел на полу у печки, обхватив колени руками, и говорил, повертывая к Загорелову одну лишь голову. Тот сидел, широко раскрыв глаза, словно пораженный внезапным выстрелом.
– Ваше это дело, – между тем, снова заговорил Жмуркин. – Убита она не ради ограбления. Изволили видеть? Все пять тысяч на ней целехоньки. А если она убита не ради ограбления, так, стало быть, здесь кровопролитный роман. А кто же, как не вы, были ее любовником! Чего-с? Тише-с, тише-с! – вдруг выкрикнул Жмуркин, взмахивая руками, точно желая дать знать Загорелову, чтобы он успокоился, так как он еще не высказал самого интересного. – Тише-с! И знаете-с, как это по всей видимости произошло? – говорил он через комнату безмолвно пораженному Загорелову. – Знаете, как это произошло? Произошло это вот как, – повторил Жмуркин равнодушно. – Вот как! Прознали вы-с, что она ушла, и следом за ней побежали, чтобы узнать, действительно ли у нее зубки, или другое какое расстройство. Побежали вы за ней следом и на плечи чапанчик накинули. А в кармашке этого чапанчика кистенек у вас находился. Вы ведь кистеньком любили баловаться, силу пробовать, камешки дробить! Кстати, Максим Сергеич, где он у вас теперь? Куда вы его спровадили? – Его лицо приняло внезапно лукавое выражение. – Тсс! тише-с! – снова прошептал он, гневно взмахивая руками. – Тише-с! – добавил он равнодушно, видя, что Загорелов уже овладел собой, заинтересованный против воли его рассказом. – Так вот, – продолжал он затем. – Догнали вы ее при таких обстоятельствах и у вас сцена ревности произошла. Упрекать вы ее стали, что она мужа больше вас любит. А она вам наоборот сказала. И вы тут в сердце вошли, и ее кистенем ударили, да силку не соразмерили и в висок угодили! Она хлопнулась, замертво, – вдруг заговорил Жмуркин поспешно, с возбужденными жестами. – И вы испугались. Завернули ее в чапан и сюда понесли. А я все это видел из кустиков и вам дорогу преградил. Но тут вы ее наземь опустили, – торопливо и в возбуждении бормотал Жмуркин, – и меня за грудки взяли, и всю рубашку на мне изорвали, и я согласился вашим сообщником стать! – Последнюю фразу Жмуркин проговорил с расстановкой, точно ставя после каждого слова точку. – И потом мы с вами побежали, – снова забормотал он в возбуждении, – и друг другу клятвы давали, и кистень на берегу Студеной зарыли, – закончил он с расстановками. – Вы помните это местечко? – спросил он Загорелова лукаво.
Тот сидел пораженный.








