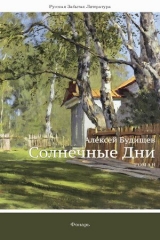
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Алексей Будищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
XIII
На другой день рано утром, когда Жмуркин сидел в кабинете Загорелова, работая вместе с ним над проверкою отчета по мельнице, в дверь кабинета кто-то постучался.
– Можно войти? – послышался за дверью хриповатый и веселый голос.
– Это Быстряков, – шепнул Загорелов Жмуркину.
Они переглянулись с улыбкой.
– Пожалуйста, пожалуйста! – пригласил Загорелов вслух.
В комнату с шумом вошел Быстряков. Он весело поздоровался с Загореловым и весело буркнул Жмуркину:
– Здравствуй, монаше боляще, без пороха паляще!
Он тяжело опустился в кресло. Все его жирное и рябоватое лицо с круглой бородкой дышало самым искренним весельем.
– Деньки-то какие стоят, ух, слава тебе, Господи! – вдруг проговорил он и оглушительно расхохотался; красный и толстый шнурок его пояса запрыгал на его круглом животе. Он был в чесунчевой поддевке и красной шелковой рубахе. – Ух, слава тебе Господи! – повторил он с хохотом.
Загорелов с удовольствием глядел на него и думал:
«Вот у него теперь на сердце кошки скребут, потому что он мои заставочки уже видел, а он хохочет, точно двести тысяч выиграл. Выдержка-то какая!»
– А что это вы, соседушка, – между тем заговорил Быстряков, – что это вы за рогулечки на верешимской: дороге настроили? Пырять вы, что ли, меня ими хотите? – он рассмеялся и добавил: – Но тогда как же ко мне помолец поедет?
Он шумно повернулся в кресле, и выражение досады, впрочем едва уловимое, скользнуло по его жирному лицу.
«Ага, – подумал Загорелов, поймав это выражение, – ты со своим планом сверялся, и теперь уж наверное знаешь, что у меня в переплете сидишь!»
– А я хочу эту дорогу распахать, – совершенно спокойно сказал он, – ведь она в планах не значится, и это – мое право. Вот я и думаю ее распахать. Что же земле понапрасну лежать! Ведь земля там, – добавил он многозначительно, – много лучше ваших капустников.
– Это конечно! – Быстряков расхохотался и вдруг схватился за боковой карман. – Ну, соседушка, – проговорил он, – корячиться нам долго не из чего. Сколько получить желаете?
– Восемьсот рублей, – отвечал Загорелов спокойно.
Быстряков поспешно полез в карман с выражением самого искреннего удовольствия.
«Вот он даже и не сердится, – думал между тем Загорелов, поглядывая на жирное тело Быстрякова, в то время как тот доставал из кармана объемистый бумажник, – он не сердится, потому что будь этот господин на моем месте, он смыл бы с меня две тысячи».
– Я пошутил, – сказал Загорелов вслух, трогая локоть Быстрякова. – Вы с меня тогда сколько взяли? За капустники? Триста? Так вот давайте шестьсот.
– Это по-божески! – воскликнул Быстряков весело. – Вот за это, соседушка, спасибо.
Он небрежно бросил на письменный стол шесть сторублевок.
– Это по-божески, – повторял он. – А в воскресенье, соседушка, ко мне на пирог! Это уж обязательно! Как хотите-с! Вы с чем пироги любите, – с севрюжкой или с семгой? У меня Лидия Алексеевна, – говорил он, – мастерица пироги загибать!
«У тебя Лидия Алексеевна вообще одна прелесть», – подумал Загорелов сердито и даже слегка побледнел, хмуро оглядывая жирную тушу Быстрякова.
Внезапно ему пришло в голову, что недурно было бы повстречаться с этим господином в лесу, с глазу на глаз и с кистенями в руках.
«Не таков ты только, чтоб пойти на это, – думал он, бледнея от ненависти, – ты из-за угла задавишь, ребра переломать наемщиков пошлешь, искалечить подкупишь! О, берлога, берлога!» – хотелось сказать ему вслух.
– Да, почтеннейший Елисей Аркадьевич, – проговорил он задумчиво, – не расти пальмам в Архангельской губернии! Будем же рады и клюкве!
– Это конечно, – согласился и тот, шумно завозившись в кресле. – Так непременно, непременно на пирог, – добавил он, пожимая обеими руками локоть и ладонь Загорелова. – Непременно, голубчик. А рогулечки прикажите убрать.
– Непременно, драгоценнейший, – повторял и Загорелов, – и на пирог приеду, и рогулечки сегодня же опрокину.
Они так и пошли из кабинета, полуобнявшись.
– Вот, Лазарь, – говорил Загорелов, проводив Быстрякова и снова возвратясь в кабинет. – Вот, видел? Что скажешь теперь о моих правилах? А? Ведь если бы я ему верешимскую дорогу простил, он бы меня за дурака почел и за такую мою глупость меня вторично нажечь бы постарался. А теперь и он доволен и я доволен, ибо он у меня в конвертике запечатан.
– Конечно-с, вы совершенно правы, Максим Сергеевич, – согласился Жмуркин почтительно. – Совершенно-с правы!
Загорелов увидел ассигнации и небрежно смел их в ящик письменного стола.
– Да-с, – продолжал он затем как бы в задумчивости, – мои правила, может быть, несколько суровы, но зато они как нельзя более по климату. А на земле, где хорошо родится лишь картофель, смешно посадить ананас. Ведь ананас-то все равно у тебя не вызреет, и ты его не увидишь, а картофель даст тебе барыш. Так вот я и сажу картофель.
– Это-с конечно, – снова согласился Жмуркин.
Когда он собирался уже уходить из кабинета, он внезапно сказал Загорелову:
– А я вот лисичку выследил, Максим Сергеич. Так вот как вы думаете: брать ее мне, или не брать?
– Лисицу? Где? – спросил Загорелов.
Жмуркин минуту помолчал.
– В проточном овраге, – наконец отвечал он.
– Так конечно же брать! Что за вопрос! Или, впрочем, подожди до осени. Тогда шкурка у нее дороже будет.
Жмуркин пожал плечом.
– Нет, до осени мне ждать не модель, Максим Сергеич. До осени лисичка-то, пожалуй, и уйти может. Я уж лучше за шкуркой-то не постою. Уж какая есть!
– А тогда, конечно, не зевай, – согласился и Загорелов.
На дворе, по дороге к себе во флигель, Жмуркин не выдержал и расхохотался.
«Своей рукой благословил, – думал он о Загорелове, весь сотрясаясь от смеха, – своею собственной рукой».
– Ну и народец! – проговорил он вслух и все еще с хохотом.
– Ты чего со смеху-то помираешь? – спросил его Флегонт из окна кухни.
– Так, – отвечал тот, приближаясь. – Вот над чем. Было у меня, братец ты мой, именье, – заговорил он с развязными жестами, ставя ногу на фундамент кухни.
– Это где? – спросил Флегонт. – В нетовой губернии, пустого уезда, при селе малые охи, где родятся блохи? Там, что ль?
– Ну, да! – Жмуркин засмеялся. – И сажал я там, братец ты мой, – продолжал он с теми же развязными жестами, – сажал я там каждый год ананасы. И каждый год один убыток взамен того. Так вот я хочу теперь там картофель качать. Эта уж, братец ты мой, не сорвется!
Он хотел было еще что-то добавить, но выражение его лица внезапно не понравилось Флегонту, и он сердито сказал ему:
– А я тебе не братец ты мой, а Флегонт Ильич! И это ты помни!
Жмуркин пошел прочь от окна, как будто смутившись, с потерянным видом обходя углы построек.
– Ну и народ пошел, – заворчал Флегонт раскатывая скалкой посыпанное мукой тесто, – чего наплел, даже и гадалке не разгадать; все мудрить хотят, – на Тя, Господи, уповахом!
Вечером Жмуркин завалился спать ранее обыкновенного, но среди ночи он внезапно проснулся, как будто его кто разбудил. И тут же он сообразил, что ему что-то нужно сделать, непременно нужно, и сейчас же, пока в усадьбе все спят. Он сел на постели, протирая глаза и с беспокойством поглядывая на тусклые окна своего флигеля. Однако, он долго не мог сообразить, что за неотложное дело подняло его с постели так неожиданно, и он сидел на постели, напрягая память, чувствуя в себе странное беспокойство и волнение. И, наконец, он припомнил. Он оделся, надев сверх пиджака ватную куртку, так как его сильно знобило, и подошел к столу. Открыв его ящик, он вынул бережно сохранившуюся там отмычку и опустил ее в карман своей куртки. После этого он вышел на двор; осторожно пробираясь мимо окон, он обогнул, наконец, усадьбу и очутился среди холмов глаз на глаз с туманной ночью. Жмуркин облегченно вздохнул и, постоянно нащупывая в своем кармане находившуюся там отмычку, быстро пошел по скату, направляясь к старой теплице. Он шел и думал.
«Все так живут, и он прав совершенно так же, как прав Загорелов, как прав Быстряков, как правы Перевертьев и Суркова, как права она, эта женщина с глазами ребенка и с хитростью лисицы. На земле где родится картофель, нельзя сажать ананасов».
Он поспешно шагал по скату, не ощущая в себе ни страха, ни волнения, ни тоски, – ничего. Мысль, метавшаяся в нем ранее, как беглое пламя зарницы, уже стояла перед ним во весь свой рост, но он не отвертывал более своего лица.
– Ну, так что ж! – говорил он спокойно, с жадностью втягивая в себя влажный ночной воздух.
Подойдя к теплице, он вложил в замочную скважину двери лезвие отмычки и сильно нажал на нее, потянув в то же время дверь. Дверь отворилась. Отмычка оказалась вполне пригодной. Это не возбудило в нем радости, но и не нарушило его спокойствия. Он лишь убедился в пригодности своего инструмента, и только. Он заглянул в теплицу. Ему пришло на мысль, что вот придет момент, когда Лидия Алексеевна будет сидеть вон там на тахте в своем сером и длинном плаще, и он войдет к ней вот с этою же отмычкой в руках. Однако и эта мысль не обрадовала его, но и не испугала. Он только стал как будто бы еще спокойнее, словно застыв в своих намерениях с безразличием льда. Снова заперев затем дверь теплицы, он поспешно вернулся к себе во флигель, поспешно разделся и тотчас же уснул крепким сном.
XIV
Весь следующий день Жмуркин пробыл все в том же равнодушии, безучастно слоняясь по усадьбе, безучастно вступая в разговор. Но ночью ему не спалось, хотя он и объяснял себе это тем, что он хорошо выспался в прошлую ночь. Снова одевшись, он вышел в сад, прошел к скамье и сел там, скрытый со всех сторон густыми зарослями сирени. Здесь было тихо; большой каменный дом спал, и ночной шелест казался Жмуркину дыханием спящего здания. Очевидно, было уже поздно. Жмуркин шевельнулся, удобнее усаживаясь на скамейке. И тут он увидел Перевертьева. Тот беспокойно слонялся по аллее, в двадцати саженях от Жмуркина, направляясь с нетерпеливым видом от каменных ступеней балкона до того места, где пологий скат сада круче обрывался навстречу к Студеной. На его плечи был накинут темный и широкий плед, в который он закутывался порою с жестами сильно прозябшего. Жмуркин равнодушно оглядел всю его тонкую и быструю в движениях фигуру, и ему стало ясно, что Перевертьев давно уже ждет кого-то, озябнув от нетерпения.
«Это он Суркову», – подумал он.
В то же время нижнее угловое окно тихо распахнулось, и из него проворно выскочила Суркова. Багровый шелк ее юбки мигнул на минуту над фундаментом дома, как язык вспыхнувшего и тотчас же погасшего пламени. Она двинулась аллеей навстречу к Перевертьеву.
– Ваше отношение ко мне положительно невыносимо, – заговорила она, приближаясь к нему.
Темный фланелевый балахон, с короткими до локтей рукавами, мягко обнимал ее стройную фигуру.
– Вы составили себе какое-то глупейшее расписание, – продолжала она затем, взглянув на Перевертьева с выражением гнева, – и воображаете, что я в самом деле должна этому расписанию следовать. И теперь вот вы три раза стучали ко мне в окошко, вызывая меня сюда. Будьте же благосклонны ответить, для чего я вам понадобилась так безотлагательно? – Она рассмеялась.
Ее гортанный смех прозвучал в сумраке аллеи красивою песней.
Перевертьев стоял перед ней бледный, кутаясь в свой плед, как сильно озябший.
– А вот этого я и сам не знаю. Я сам не знаю, зачем вы мне нужны, – отвечал он, тоже как бы сердясь, – но я без вас жить не могу! – Он передернул плечами. – Нехорошую игру сыграли вы со мной, сударыня, – добавил он задумчиво, с оттенком гнева и грусти.
Суркова снова было рассмеялась, но тотчас же оборвала смех; ее горячие глаза со вниманием остановились на бледном лице Перевертьева.
– Я в этом не виновата, – сказала она, минуту как бы подумав о чем-то.
Они двинулись аллеей.
– Какая ночь! – сказала она, вдруг вздохнув.
Перевертьев нетерпеливо пожал плечом.
– Какое мне дело до ночи! – проговорил он, сердясь. – Я вас люблю! Для вас эта ночь хороша, а для меня отвратительна, – добавил он, – помните Пушкина: «О, ночь мучений!»
Он замолчал, встряхнув пледом, словно в нетерпении и гневе.
– Я в этом не виновата, – повторила Суркова, – а если виновата – простите!
Они тихо двигались сумрачной аллеей, среди притихших деревьев; отрывистые звуки их речи звучали в тишине короткими аккордами.
– Я вас люблю, – повторил Перевертьев, – ужели вы ничего не ответите мне на это?
Он внезапно рванулся к ней, но она проворно увернулась. Ее обнаженные до локтей руки мягко блеснули во тьме.
– Тсс! – прошептала она лукаво. – Если вы хотите видеть меня – будьте умницей. Иначе я от вас уйду. Какая ночь, Боже, какая ночь! – добавила она со вздохом, с выражением внезапного уныния в голосе.
– Не уходите! – умоляющим тоном проговорил Перевертьев.
– А вы будете умницей? Ну, будьте же паинькой! Ну, я прошу вас! – Она подошла к нему, заглядывая в его глаза, лаская его плечо легким прикосновением руки.
– Га-дюка! – крикнул Перевертьев злобно. – Ты умышленно мучаешь меня! А-а! – простонал он, дергая концы пледа.
Она сделала резкое движение, словно собираясь уходить.
– До свидания, – сказала она с насмешливым поклоном. – Adieu, mon ange, я удаляюсь!
– Ради Бога не уходите! – зашептал Перевертьев с мольбою. – Ради Бога! – он стоял перед нею бледный и жалкий.
– Дайте слово более не браниться и не злиться!
– Не буду; я не буду! – Перевертьев хрустнул пальцами с выражением страдания. – Как я вас ненавижу! – добавил он вдруг со вздохом. – Боже, как я вас ненавижу!
Она снова приблизилась к нему, заглядывая в его глаза как бы с участием, между тем как ее губы насмешливо вздрагивали.
– Бедненький, – проговорила она ласково, – на вас лица нет! Как вы страдаете! Но за что же вы ненавидите меня?
Она тихо коснулась его плеча.
Они снова двинулись аллеей, туда, где скат сада круче обрывался к Студеной.
– За что? – повторял Перевертьев в задумчивости. – Да разве же можно любить деспота, который вошел в твое сердце и отнял у тебя волю!
Несколько минут они двигались молча.
– Бедненький! – прошептала снова Суркова насмешливо. – Вы даже похудели!
– Гадюка! – повторил Перевертьев злобно, с ненавистью оглядывая Суркову.
– Я ухожу, – сказала она резко. – До свидания!
Темные волны фланели мягко шевельнулись вокруг ее гибкого тела.
– Нет, ты не уйдешь! – крикнул Перевертьев. – Или уходите, уходите, уходите! – повторял он с судорогой на губах. – Уходите. Но только знайте! После третьего вашего шага туда, – он кивнул по направлению к балкону, – я стреляю себе в висок. Слышите? – крикнул он ей. – После третьего вашего шага – себе в висок!
Внезапно он вынул из кармана пиджака револьвер.
С минуту Суркова глядела на него во все глаза как бы с любопытством. Две-три сажени разделяли их.
– Ах, вот как! – наконец, проговорила она. – И все-таки я ухожу. До свидания!
Ее лицо засветилось лукавым задором.
– Помните! После третьего шага! – повторил Перевертьев решительно.
Они не спускали друг с друга глаз, как враги, готовые вступить в бой.
– Раз, – сказала Суркова, делая первый шаг назад, в то время как ее лицо было обращено к Перевертьеву.
Перевертьев взвел курок, громко щелкнувший в тишине сада.
– Два, – проговорила Суркова, делая второй шаг. Ее оживленное лицо все еще светилось задором.
Перевертьев приставил дуло револьвера к виску, сбросив плед движением плеча.
– Помните, – прошептал он осипшим голосом, – после третьего шага – в висок!
Суркова не сводила с его лица горячих глаз, на мгновенье точно застыв в неопределенной позе. Выражения самых разнородных ощущений скользили по ее лицу, и порою можно было поверить, что она сделает вот сейчас этот последний шаг. Однако, она его не делала, точно запутавшись в своих колебаниях.
– Бросьте ваш пистолет! – сказала она наконец.
Она двинулась к нему, и выражение задора исчезло с ее лица. Перевертьев отвел дуло револьвера и опустил курок. Он был бледен.
– Что же? Что же-с вы не ушли? – говорил он, с трудом переводя дыхание и пробуя улыбнуться. Улыбка вышла у него злая и некрасивая. – Что же-с, – шептал он, – попробовали бы уйти.
Она подошла к нему, с участием заглядывая в его лицо.
– Слушай, – вдруг проговорила она, – ужели ты любишь меня так сильно?
Он поспешно привлек ее к себе. Они скрылись из глаз Жмуркина под крутым скатом сада.
Однако, вскоре они вновь появились в аллее. Суркова шла впереди.
– Ужели ты так сильно любишь меня? – спрашивала она Перевертьева, слегка оборачиваясь к нему лицом.
– Нет, я вас обманул, – вдруг отвечал тот с гневом, – разве же можно жертвовать жизнью ради пустой кокетки? Револьвер не заряжен.
Он сердито рассмеялся.
– Хотите освидетельствовать, может быть? – продолжал он с тем же выражением. – В нем ни одной пульки!
Она остановилась посреди аллеи, будто наткнувшись на что-то.
– Лев Львович, – крикнула она ему лукаво, – идите сюда, просите прощенья и целуйте вот это!
Она проворно скинула с ноги красную туфлю, поджидая его с лукавым задором на всем лице.
– Идите и целуйте!
Перевертьев приблизился.
– Негодяй! – прошептала она, ударив его по лицу туфлей.
Он схватил ее за руку, с лицом, исказившимся от бешенства.
– Негодяй! – шептала Суркова, вся содрогаясь от брезгливого чувства. – Ф-фа! Ты еще с женщиной драться, кажется, хочешь!
Он поспешно выпустил ее руку; она пошла от него прочь. Но он снова догнал ее у стен дома.
– Если уж на то пошло, – проговорил он с досадой, протягивая ей в то же время револьвер, – если уж на то пошло, извольте освидетельствовать. Конечно же заряжен. На все шесть пуль!
Она поспешно обернулась к нему, приняла из его рук револьвер и, повернув барабан, заглянула в гнезда.
– Милый, милый! – зашептала она, припадая на грудь Перевертьева.
Тот сердито засмеялся.
– Удивительное создание – женщина, – говорил он с досадой, – каждая непременно хочет, чтобы перед ней расписывались полными буквами в собственной глупости! Если бы ты меня не побила, – добавил он, – я бы на этот раз не расписался!
– Милый, милый – шептала Суркова, ласкаясь к нему, как кошка.
Жмуркин сидел, глядел на них и думал:
«Вот эти тоже живут вовсю, и слава им!»
XV
Восьмого июля вечером Жмуркин узнал, что ровно через неделю Загорелов вместе с Быстряковым уедет в оренбургские степи, чтобы закупить там скот. Он узнал также, что поездка эта решена окончательно, и что они оба – и Загорелов и Быстряков – пробудут таким образом вне дома не менее недели. Известие это на минуту всколыхнуло Жмуркина, наполнив его жгучим волнением и беспокойством, хотя вскоре же ему и удалось взять себя в руки снова. В то же время ему стало ясно, что к толкам об этой поездке он уже давно прислушивался с любопытством, и что именно на нее-то он и возлагал все свои надежды.
Жмуркин понял, что наступил момент действовать, «ловить обстоятельства за хвост», как он говорил себе мысленно. И тщательно обсудив и взвесив в последний раз каждую черточку своего плана, он тотчас же приступил к его исполнению. Неудачи он не боялся, ибо он и до сих пор старался убедить себя, что, быть может, планом этим он и не воспользуется, насладившись лишь его тщательной отделкой.
– Назад повернуть всегда возможно будет, – говорил он себе обыкновенно в такие минуты, – а лисичка-то все же у меня в мешке. Захочу – беру, а не захочу – нет. Отпущу на волю. Ступай, дескать, лисица, в лесу веселиться! – И ему иногда искренно верилось, что уж это одно сознание своей неограниченной силы над той женщиной удовлетворит и насытит его сердце.
В тот же день, как только он узнал об этой поездке, он незаметно взял с письменного стола Загорелова маленький конвертик и листок почтовой бумаги. Собственно Жмуркин не придавал особенного значения ни этому конвертику ни бумаге, так как он был уверен, что Загорелов, как человек осторожный, конечно не вел переписки с Лидией Алексеевной, и та вряд ли даже хорошо знала его почерк. Конвертом и бумагой Загорелова он решился воспользоваться больше для того, чтобы полнее насладиться тщательной отделкой своего плана. Затем, захватив к себе во флигель деловую переписку Загорелова, он стал ежедневно и целыми часами изучать его почерк. В конце концов, после усиленных трудов, он добился-таки того, что мог весьма недурно подражать ему. Убедившись в этом, он присел к столу, конечно приняв все меры для того, дабы не быть захваченным кем-либо на месте преступления, и на листке бумаги, похищенном с письменного стола Загорелова, он вывел нижеследующее:
«Приходи сегодня туда в десять часов вечера. Необходимо. Пришли с Жмуркиным зубных капель страха ради иудейска. Записку сейчас же сожги. Целую и жду».
Несколько раз перечитав написанное, Жмуркин остался совершенно доволен, как почерком, так и содержанием. И тщательно сложив эту записочку, он заклеил ее в конверт, спрятав его затем в свою записную книжечку.
Все это ужасно утомило Жмуркина, и весь вечер он пролежал на постели, закинув за голову руки и поглядывая в потолок. Он лежал и думал:
«Завтра Максим Сергеич уедет, завтра Максим Сергеич уедет».
Больше в его голове не было ничего, – ни одной думы, ни одной мысли. Он так и заснул с этим, обутый и одетый, как лежал, бледный и усталый, похожий в своем тихом сне на труп.
А на другой день Загорелов уехал в шесть часов вечера в одном экипаже с Быстряковым. Уехали они на лошадях Загорелова и в его же экипаже, и экипаж должен был вернуться обратно, с крохотного вокзала пустынной станции, не позднее девяти часов вечера. О часе отъезда Жмуркин тоже знал заранее, а потому и это обстоятельство было предусмотрено им в его расчетах. Он боялся лишь одного. Возможно, что Лидия Алексеевна будет у них в усадьбе, в гостях у Анны Павловны, как раз в момент возвращения лошадей. Это было бы хуже всего, хотя стечение даже такого рода обстоятельств вполне не разрушало плана Жмуркина, а лишь отодвигало момент его исполнения на неопределенное время. Весь фундамент плана заключался вот в этом отъезде Загорелова; даже отсутствие Быстрякова являлось для него уже излишним; и следовательно, раз отъезд Загорелова состоялся, ни одно обстоятельство уже не грозило плану Жмуркина катастрофой. Так по крайней мере думал он. Тем не менее, он сильно волновался, поджидая возвращения лошадей. Но лошади вернулись ровно в девять часов, и Лидии Алексеевны в этот момент в усадьбе не было. Следовательно, все обстояло вполне благополучно; судьба как бы благоприятствовала Жмуркину. Он с облегчением вздохнул всей грудью. И, положив в карман своего пиджака сохранявшийся в его записной книжке конверт и отмычку, он тотчас же отправился в усадьбу Быстрякова, стараясь в то же время, чтобы его уход со двора не был кем-либо замечен. Всю дорогу он был совершенно спокоен, но когда он увидел Лидию Алексеевну, в его глазах на минуту все запрыгало, и дыхание комком сперлось в его горле. Некоторое время он даже не мог произнести ни единого слова.
Между тем Лидия Алексеевна подошла к нему первая – он встретил ее у ворот усадьбы – и, опахнув его запахом каких-то удивительно приятных духов, она спросила его:
– Вам что?
Голос ее звучал ласково, а ее милые голубые глаза взглянули в лицо Жмуркина с доверием ребенка.
– Вам письмо-с, – наконец, проговорил он, делая усилие.
– От кого это?
Лидия Алексеевна с удивлением приняла конверт из рук Жмуркина.
– От Максима Сергеича.
– Как от Максима Сергеича? Ведь он же сегодня уехал?
– Это точно-с, – сказал Жмуркин, с почтительной улыбкой. – В шесть часов они уехали-с, а в девять вернулись обратно.
– А муж?
– Елисей Аркадьевич отбыли с поездом.
– Что же это такое? – возбужденно повторяла Лидия Алексеевна, нетерпеливо вскрывая конверт. – Что же это значит? А он здоров? – добавила она с выражением тревоги на всем хорошеньком личике.
– Кто он-с, – переспросил Жмуркин с почтительной улыбкой, – Елисей Аркадьевич или Максим Сергеич-с?
– Ну, они оба? Здоровы? – поправилась Лидия Алексеевна.
– Елисея Аркадьевича я не видал-с, а Марксим Сергеич, как будто даже весьма-с, – говорил Жмуркин, уже совершенно оправившись и словно входя в роль. – По всей видимости они чувствуют себя ничего, а впрочем, может быть, капелечку и расстроены. Они мне говорили про вас: они дескать вручат тебе пузырек, и ты, дескать, мне его принесешь. Я, дескать, только об этом и пишу. То есть, о пузырьке, – пояснил он.
Он умолк. Между тем Лидия Алексеевна уже прочитала содержание записки и глядела на Жмуркина. Внезапно этот ее взгляд показался ему подозрительным. Он потупил глаза.
«Догадалась – подумал он чувствуя озноб – по почерку догадалась!»
Мучительное смятение и беспокойство охватили его; на минуту ему показалось, что он висит над пропастью, готовый сорваться, и чувствуя предательское головокружение. Ему захотелось крикнуть: ну, что же, не перехитрил вас, так жрите!
Он ухватился обеими руками за воротный столб, точно боясь упасть.
– Что с вами? – спросила его Лидия Алексеевна, с участием приближаясь к нему. – Вы больны?
– Второй день. Лихорадка, – отвечал он голосом, точно выходившим из глубины внутренностей.
Он даже испугался звука этого голоса.
– Не дать ли вам хины?
– Покорно благодарю. Я принимал! – Жмуркин уже оправился и заглянул в лицо Лидии Алексеевны. И по милому и доверчивому выражению этого детски хорошенького лица он ясно понял, что та не догадалась.
– Ага! – подумал он сердито. – Перехитрили лисицу!
Через минуту, безмолвно приняв из ее рук крошечный пузырек с какою-то бурою жидкостью, он уже уходил из ворот Быстряковской усадьбы.
Однако, едва только широкие спины холмов заслонили его собою, он тотчас же и поспешно отправился к старой теплице. Он был уверен, что Лидия Алексеевна будет там сейчас же за ним следом, и ему нужно было торопиться. Весь его расчет в этом-то именно и заключался; момент вручения записки и момент назначенного свидания должны были разделиться по его плану таким коротким промежутком, чтобы Лидия Алексеевна не могла найти времени зайти первоначально в усадьбу Загореловых.
Жмуркин поспешно подошел к старой теплице и, укрывшись за густыми зарослями кустарника, замер в ожидании.
«Придет или не придет?» – думал он в волнении. Его вновь охватили тревога и беспокойство. Раньше он считал свой план весьма остроумным и как бы застрахованным от всякого рода случайностей, а теперь ему казалось, наоборот, что первая же случайность способна разнести этот план вдребезги. Что, если сейчас же следом за ним к Лидии Алексеевне приедет Анна Павловна, или даже придет кто-либо из Загореловской усадьбы? Он не предвидел этого, сочиняя свой план, а между тем уже одно это превратить его замыслы в пепел. Жмуркин беспокойно шевельнулся: шелест женского платья внезапно коснулся его слуха. Он слегка выглянул из-за кустарника и увидел Лидию Алексеевну. Она стояла у старой теплицы, одетая в свой серый длинный плащ, с ключом в руке. Жмуркин затаил дыхание, чувствуя, что его ноги словно каменеют. Лидия Алексеевна торопливо исчезла в дверях теплицы; ключ снова протяжно щелкнул.
«Идти иль не идти?» – подумал Жмуркин о себе.
Он достал из кармана отмычку.
«Идти иль не идти?» – снова словно кто-то спросил его.
Его точно закружило в вихре. Он высоко и несуразно шагнул, точно преодолевая какое-то препятствие, схватился обеими руками за сердце, переводя дыхание, и затем тихо и осторожно пошел к старой теплице.








