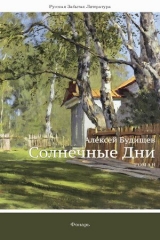
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Алексей Будищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
XVI
Между тем уже перед самой дверью в теплицу Жмуркин снова как бы замешкался, чувствуя приступ необычайного волнения.
«Идти или не идти?» – мелькнуло в его взбудораженном сознании.
На минуту он словно прикинул на весы все свои расчеты, ясно сознавая при этом, что он уже не уйдет, что у него не хватит на это сил, если даже оценка расчетов не вполне удовлетворит его. Он снова показался себе жалкой придорожной соломинкой, застигнутой свирепою бурей; и, ощущая озноб в пальцах, он вложил отмычку в замочную скважину, решительно потянул к себе дверь и, очутившись в теплице, снова замкнул ее за собою.
В теплице было темно, как в норе. Однако, он сразу же ощутил присутствие Лидии Алексеевны в этой тьме и сделал шаг вперед. Сердце его громко стучало, и ему казалось, что стены теплицы вздрагивали, сотрясаемые этими тяжкими ударами. Он сделал второй шаг.
– Это ты, Макс? – услышал он из угла, очевидно с тахты, голос Лидии Алексеевны. – Что с тобою? Здоров ли ты? Отчего ты не уехал с Елисеем Аркадьичем? – говорила та с оттенком некоторого беспокойства в голосе.
Видимо, она верила в это мнимое возвращение Загорелова, и его неожиданность наполняла ее беспокойством, заставляя подозревать какую-нибудь неприятность.
Жмуркин не отвечал ни звуком; он быстро извлек из кармана коробку спичек и, поспешно чиркнув, зажег на письменном столе свечу. После этого и с тою же поспешностью он повернулся лицом к Лидии Алексеевне.
– Это не Макс, – проговорил он, – это-с, как видите, я-с! Макс, – добавил он тотчас же, – Макс с Елисеем Аркадьичем в оренбургские степи катят.
Он на минуту умолк. Лидия Алексеевна глядела на него во все глаза, точно не веря себе. В то же время Жмуркин ясно увидел по ее лицу, что она поняла или, вернее, ощутила сердцем что-то весьма для себя недоброе. Кроме крайнего недоумения, все черты ее лица выражали и жгучее беспокойство, и всей своей фигурой она напоминала теперь ребенка, заплутавшегося в темном лесу.
Жмуркин глядел на нее молча. В теплице на минуту все притихло.
– Максим Сергеич в оренбургские степи катит, – снова повторил через минуту Жмуркин, – и это самое письмецо, относительно, то есть, прихода вашего сюда, это я собственной рукой вам написал. Приходи, дескать, сегодня туда в десять часов вечера. Необходимо. И пришли дескать, с Жмуркиным того-другого, пятого-десятого. И так далее. Это я сам собственной, вот этой вот рукой сочинил, Лидия Алексеевна, сделайте милость, простите за беспокойство!
Он хотел было рассмеяться, но точно только кашлянул, весь содрогнувшись.
– Вы мне не верите? – спросил он через минуту застывшую в беспомощной позе женщину. – Примите к совершенному руководству, что не лгу-с. А не верить, конечно, этому совершенно даже возможно-с, ибо и я долго не верил, что вы вот сюда к Максиму Сергеичу на свидание бегаете! Долго не верил! И когда гребеночку вашу вот тут у подушечки вот этой самой нашел, так тоже все еще не верил. И все думал: с такими глазами не лгут-с, никогда не лгут, никогда-с!
Жмуркин стоял в двух шагах от Лидии Алексеевны и говорил, крепко опираясь левой рукою о крышку стола.
Он был бледен, и Лидия Алексеевна хорошо видела, как сильно вздрагивала эта рука, точно сотрясаемая бурными ударами его сердца. И она не сводила с него глаз, между тем как все ее миловидное личико, с ямкой на подбородке, все еще выражало самое крайнее недоумение и томительное беспокойство.
В комнате было сумрачно; тусклый свет свечи слабо озарял лишь один угол комнаты, в то время как ее большая часть была наполнена странно колеблющимися тенями; там все бесшумно возилось, и порою Лидии Алексеевне казалось, что самые вещи этой комнаты беспокойно шевелятся, словно пристигнутые внезапным несчастием.
– Так вот как я о вас думал! – снова заговорил Жмуркин, поглядывая на Лидию Алексеевну и не переменяя позы. – Вот как я о вас думал. Я так высоко вознес вас, что почитал себя недостойным даже к юбке вашей прикоснуться, извините за выражение. И тут вдруг, – повысил он голос, – с этакой высоты да такое падение! Из богинь да в лужу-с! Из феи-с да в змеи-с! – Он снова коротко рассмеялся, словно кашлянул. Смех точно причинял ему боль. – Да-с. Так вот сами посудите-с, – продолжал он затем, – что со мною произойти должно было, когда я вас обстоятельным образом выследил и всеми глазами убедился. То есть, относительно того-с, что вы вот сюда к Максиму Сергеичу бегаете! Посудите сами! Ответьте, сделайте милость, будьте добры! Что могло произойти? То есть, в моем сердечном перевороте. Будьте добры! – Он умолк, точно поджидая ее ответа, но она молчала. – Не хотите, так я сам вам скажу, – заговорил он снова. – Я подумал: если уж она такая в некотором роде по-га-ная, – выговорил он членораздельно и точно давясь этим словом, между тем как Лидия Алексеевна вся как бы сжалась, – если она уж такая в некотором роде по-га-ная, – снова повторил он, – и если она в некотором роде одной рукою Елисея Аркадьева обнимает, а другою – Максима Сергеева, так почему бы ей, думаю, в таком смысле и третьего не взять, когда так. То есть, Лазаря Петрова! – добавил он. – Относительно того, чтобы обнять!
Лидию Алексеевну точно всю передернуло.
В комнате было сумрачно; тени бесшумно шевелились по углам; пламя свечи слабо вздрагивало, и все вещи, наполнявшие комнату, точно беспокойно возились, застигнутые несчастьем.
– Этого никогда не будет! – вдруг вскрикнула Лидия Алексеевна, порывисто приподнимаясь с тахты. Ее подбородок вздрагивал. – Я буду кричать, шуметь. Я перебью все окна. Слышите? Я буду стрелять в вас! – повторяла она беспорядочно, словно в истерике, вся охваченная волнением и тревогой.
– Тсс! – Жмуркнн замахал руками. – Не кричите-с! Вы меня совершенно не поняли-с. Не шутите-с! Сделайте милость, дайте высказаться! Вы меня совсем даже не поняли! – выкрикивал он шепотливо, точно свистящими звуками. – Сделайте милость обождать! Позвольте-с, – заговорил он через минуту снова уже более спокойно, убедившись, что и Лидия Алексеевна как бы взяла себя несколько в руки, словно вся насторожившись. – Позвольте-с. И кричать и шуметь, конечно, вы можете. И даже стрелять в меня можете. Но только-с к чему и для чего, если я над вами никакого насилия никогда в жизни себе не позволю! Вы меня поняли? Нет-с? Извольте, я повторю! Я над вами никогда никакого насилия не позволю, – повторил он с расстановкою, словно ставя после каждого своего слова точку. – Теперь вы меня-с поняли? – переспросил он. – Так вот-с, будьте спокойны, садитесь. И верьте моему слову больше, чем своему собственному. Будьте благонадежны. Насильственным образом я даже мизинчика вашего не трону. Клянусь! – проговорил он с жаром и совершенно искренно.
По крайней мере Лидия Алексеевна сразу же поверила искренности этого обещания. Она села. Жмуркин прошелся раза два по комнате, осторожно ступая и тихохонько потирая руки, словно в глубокой задумчивости, а затем снова он остановился перед нею в той же позе, крепко опираясь левой рукою о крышку стола.
– Итак-с, – заговорил он снова уже совершенно спокойно и даже пожалуй вкрадчиво, – итак-с, никакого насилия с моей стороны вам бояться нечего. Это совсем не в моих намерениях, ибо я хочу предоставить вам самую полную свободу выбора. Хотите, дескать, поступите вот этак, а не хотите – вот так. Как вам будет угодно. То есть: или вы меня сами к себе позовете, добровольно и без всякого насилия, или же я все Елисею Аркадьичу тотчас же выложу. Самым обстоятельным образом! Как касательно вашего поведения, так и относительно Максима Сергеича. Одним словом, всю вашу романическую эпоху! На чистую воду!
Жмуркин казался совершенно спокойным, и его слова журчали в притихшей комнате ласково и вкрадчиво. Он стоял перед Лидией Алексеевной все в той же позе, опираясь рукою о стол, но теперь эта рука уже не вздрагивала, как раньше.
– Вот все мое предисловие, – заговорил он снова после некоторой паузы. – Я предоставляю вам полный выбор. Или вы меня сами и добровольно позовете, или же я обращаюсь к Елисею Аркадьичу с словесным опровержением вашего супружеского поведения. Судите сами, что лучше. Ведь Елисей Аркадьич известно как поступит, и всю дальнейшую судьбу в этой истории можно даже с закрытыми глазами предсказать. Вам самим должно быть известно, как в хорошем купеческом быту при таких обстоятельствах поступают. Вас, конечно, на замок посадят, а на Максима Сергеича тоже управу найдут. Ведь Каплюзников на Завалишина нашел же, и вам вся эта история должна быть известна в достаточной степени. Максима Сергеича, конечно, наемными руками изловят и хотя до смерти не укомплектуют, но все же и здоровым не выпустят, а так-с, рухлядью сделают!
Он замолчал. Лидия Алексеевна плакала, припав к тахте и зарываясь лицом в подушку. Жмуркин безмолвно глядел на нее, поджидая, когда она несколько выплачется. Долго он стоял так, словно застыв в своей позе, с замкнутым лицом поглядывая на плачущую. Оранжевое пламя свечи тихо покачивалось, тени возились по углам, словно там шла борьба.
– Будет вам плакать, Лидия Алексеевна! – наконец проговорил Жмуркин. – Успокойтесь сделайте милость, и все, может быть, уладится в свое время. Ведь я не сейчас у вас решительного ответа требую и могу дать вам на размышление ну хотя бы дня три. А и этого вам мало будет, – пожалуй, отсрочу и еще. Только обсудите все в полном здравом рассудке, и тогда дайте ответ, будьте любезны. Полноте, не плачьте, Лидия Алексеевна! – добавил он.
Лидия Алексеевна приподнялась с тахты, вытирая скомканным платком покрасневшее от слез лицо.
– Ну, вот так-то лучше, – сказал Жмуркин со вздохом. – А теперь вам не пора ли домой, Лидии Алексеевна? Как бы вас не спохватились.
Лидия Алексеевна встала, двигаясь мимо Жмуркина с потупленными глазами.
– Так как же, Лидия Алексеевна, – говорил тот ей, – будете ли вы хотя бы думать относительно всего мною изложенного? Помните-с, что, в случае удовлетворительного ответа, я полную гарантию вашим приключениям обеспечиваю!
– Буду, – односложно проговорила Лидия Алексеевна с порога и, схватившись за виски, она простонала: – Поганая, поганая, поганая! – Она всхлипнула всей грудью.
– Вы дверку не запирайте, – сказал ей вдогонку Жмуркин, – у меня свой собственный ключ есть.
Лидия Алексеевна исчезла за дверью. Жмуркин потушил свечу и вышел на воздух, тотчас же заперев за собою дверь.
И долго, тяжело прислонясь к каменной стене теплицы, он смотрел вслед за удалявшейся женщиной, не спуская с нее внезапно опечалившегося взора. Вот она показалась на скате холма, вот мелькнула в опушке, вот исчезла и появилась снова. И снова исчезла, словно растаяв.
Кругом было тихо; лес не шевелился. Безмолвная ночь горела над землею; близко монотонно циркала какая-то птица, словно жаловалась на что-то горестно и без надежды на лучшее.
Жмуркин все стоял и глядел.
XVII
На другой день после этого свидания с Жмуркиным Лидия Алексеевна сидела у себя в саду с сестрой Елисея Аркадьевича, Анфисой Аркадьевной, пятидесятилетней вдовой, толстой, румяной и весьма добродушной на вид. Анфиса Аркадьевна варила из крыжовника варенье, а Лидия Алексеевна читала ей вслух, примостившись рядом, под тенью развесистых лип, на низенькой скамеечке. В саду было прохладно. Солнце близилось уже к западу, и нарядный полукруг цветника благоухал перед балконом сильнее. Круглые пятнышки света бегали по песку аллей, словно летали друг за дружкой, как мотыльки.
Лидия Алексеевна милым певучим голоском читала:
– «Катрина де-Барберис целый час неподвижно сидела, притаив дыхание. С своей веранды она хорошо видела пламенные объятия Виталя и Дорис, укрывшихся под тенью каштанов. И она думала: последняя пастушка не лишена земных радостей, а ей даже нельзя и мечтать о них...»
– Постой, постой, – перебила ее Анфиса Аркадьевна, деловито размешивая ложкой темно-зеленую гущу крутившегося в пене крыжовника. – Постой, постой. Я что-то все перепутала! – Она повернула к Лидии Алексеевне свое круглое и румяное лицо, с толстыми полукругами бровей, словно наведенных чернилами.
Брови, рот и подбородок были у нее совершенно в одном стиле, в форме правильных полукругов.
– Постой! – повторила она. – Это что же еще за Виталь? Откуда он?
– Это просто поселянин, – сказала Лидия Алексеевна.
– А Дорис?
– А Дорис – молодая пастушка с берегов Гаронны.
– Так зачем же они тут?
– Так; не зачем, а просто так. Катрина де-Барберис видит, как они целуются...
– И что же, ей завидно, что ли?
– Нет, не завидно, а просто грустно. Мужа своего она не любит. А кого любит, с тем видеться нельзя. Вот ей и грустно. Разве это не понятно?
Лидия Алексеевна положила книгу на траву и словно задумалась. В простом сарпинковом платье она казалась теперь совсем девочкой.
– Постой, – проговорила Анфиса Аркадьевна, – ты лучше вот что, голуба, расскажи ты лучше мне все с самого начала, да покороче. А то у меня все что-то путаться начинает. Дорис, Барбарис – все спуталось.
Лидия Алексеевна слабо улыбнулась.
– Это все очень просто, – сказала она. – Катрина де-Барберис – жена генерального прокурора. Она молодая, а он старик. И она влюбилась в Лафреньера, которого она видела в Фреквильском парке.
– Постой, постой! Этот, как его, Лафре, – кто же он такой?
– Лафреньер – блестящий капитан.
– Это, стало быть, гусар?
Лидия Алексеевна досадливо пожала плечом.
– Нет, вы все спутали. Гусара здесь нет, а есть Гуссар. Два эс! Гуссар! И это не капитан, а священник. Аббат по-ихнему.
– Это гусар-то священник?
– Ну, да. Фамилия священника – Гуссар. Два эс!
– Это все равно, – проговорила Анфиса Аркадьевна, – сколько ты этих самых эсов ни напихай, а все гусар – гусаром и будет, и священнику быть гусаром стыдно! Вот то-то и есть, – добавила она поучительно, – сразу же и видно, что все это любовное дело-то не в христианской державе завязывается, потому что в христианской державе у священников и фамелии настоящие: Благовещенский, Крестопоклонский, Предтеченский. А вот у одного учителя в Сердобольске, – вдруг изменила она свой поучительный тон в дружелюбно-ласковый, – тоже очень хорошая фамелия была: Тититипетов. Я вот только теперь хорошенько не помню, сколько раз это самое «ти-ти» перед «петовым» нужно было сказать. Не то три, не то четыре. Под эту фамелию даже можно кур манить. Тититипетов! Правда, можно? Да что ты, голуба, сегодня зеленая какая? – вдруг сказала она, и черные полукруги ее бровей ушли высоко на лоб.
Лидия Алексеевна вдруг простонала, точно от внезапной боли, порывисто приподнялась со своей скамеечки и, заложив руки назад, заходила по песку аллеи, тут же, в двух шагах от Анфисы Аркадьевны. Золотые пятнышки света запрыгали по ее лицу.
– Эхе-хе-хе, голуба! – вздохнула Анфиса Аркадьевна, и все полукруги ее лица как-то сдвинулись, придав ему выражение грусти. – Эхе-хе! И у тебя, видно, горе, голуба, как вот у этой у самой Катерины Барбарис. Видно, и в христианских державах, и не в христианских, – говорила она в задумчивости и нараспев, – видно, везде для бабьего сословия уставы все одни и те же. Тащат тебя нашу сестру под венец с арканом на шее, как овцу под ножик, а в случае чего, Боже упаси, – кулаком в зубы. Такая! Сякая! Немазанная! – выкрикивала Анфиса Аркадьевна, словно подражая ругающемуся. – Не такая и не сякая, – снова заговорила она вдумчиво, – а самая настоящая человеческая душа. Хо-о-рошая душа! И не ей стыдно, а вам. Кто вот с арканом-то на шее волок. Эх, доля бабья! – вдруг добавила она, размешивая ложкой крутившуюся в медном тазу ягодную гущу, и из-под полукруга ее брови внезапно упала в таз слеза.
Она умолкла. Лидия Алексеевна все так же ходила взад и вперед по аллее, делая при каждом повороте резкое движение, точно как бы отмахиваясь им от мучений. Так порою расхаживают тяжко страдающие физической болью.
– Да, – снова заговорила Анфиса Аркадьевна со вздохом, – так вот и тебя, голубу, на этом самом аркане волокли. Ведь Елисей Аркадьевич, хотя он и брат мне родной, а все-таки подлец он и негодяи. Это я ему и в глаза и за глаза скажу. Положим, в глаза не скажу, – добавила она через мгновенье, – и ты ему, голуба, этого не передавай, а за глаза скажу смело, что, дескать, ты подлец и негодяй! Ведь он, – заговорила она снова, ополоснув в воде ложку, – этот самый Елисей Аркадьевич тебя за десять тысяч купил. Прямо-таки купил! Твой батюшка, Алексей Moисеич, ему на десять тысяч векселей надавал, а он, Елисей Аркадьевич-то, на помолвке вашей от этих векселей сигары раскуривал. И сам раскуривал, и гостям давал. Не угодно ли, дескать, от тысячного векселька раскурить? Может быть, дескать, табачок-то от этого повкуснее будет. Эхе-хе! – снова вздохнула она и вдруг вскрикнула: – Батюшки! Грех великий! А ведь у меня крыжовник-то через край хлещет! А в кого влюблена эта рыженькая-то? – спросила она вдруг Лидию Алексеевну после долгого молчания, кое-как усмирив бушевавшую гущу. – В кого влюблена рыженькая? Сестра Барбарисовой? У нее еще названье на мой любимый соус похоже? Рыженькая в кого?
– Флоранс? – переспросила Лидия Алексеевна отрывисто. Она все так же расхаживала по аллее, с резкими движениями на поворотах, заложив за спину руки. – Флоранс влюблена в Мальверина, бедного молодого адвоката, который живет в доме графини дю-Марти, у церкви святого Филиппа. Сестрица! – вдруг вскрикнула она жалобно, громко и протяжно всхлипнув всей грудью.
Анфиса Аркадьевна, торопливо ковыляя с боку на бок, побежала к ней. Она беспорядочно взмахнула руками, словно собираясь лететь, и все полукруги ее широкого лица моргали.
– Ах, батюшки! – повторяла она сокрушенно. – Ах, голуба! Ах, батюшки! Святители-угодники! Архистратизи-заступники!
Лидия Алексеевна сидела на песке аллеи, с истеричными движениями рвала на себе волосы и исступленно выкрикивала:
– Умру, а этого не будет! Умру, а этого не будет!
Весь следующий день до самого вечера она пролежала в постели, а вечером она сидела на крылечке своего дома вместе с Анфисой Аркадьевной, бледная и задумчивая. На ее плечи была накинута длинная и тяжелая шаль, окутывавшая ее всю до самых пят. Но, несмотря на это, она точно зябла, и ее плечи порою вздрагивали. А Анфиса Аркадьевна добродушно поглядывала на нее и нараспев говорила:
– Если даже у тебя и есть, голуба, какие свои дела от Елисея Аркадьевича, все же убиваться тебе не след. Что делать, – всякое бывает. Весело тебе – веселись, а тяжко – почитай святое писание. Большую пользу больная душа в святом писании находит, – говорила она поучительно. – Мой покойный батюшка большой руки бабник и кутило-мученик был, а когда матушка его в том упрекала, то он, бывало, каждый раз говаривал: «Чем я вам не отец семейства! Святой Анастасий антиохийский пишет: кто не знаком с священным и писанием, тот не годится быть отцом семейства! Так видишь – только тот!» Это батюшка-то говорил. «А я, говорит, очень даже знаком! Так стало быть, говорит, в отцы семейства вполне даже гожусь». Так вот видишь, – говорила Анфиса Аркадьевна, – старые люди и то вон какое мнение имели, а уж им поверить можно! А думаешь, – вдруг спросила она, – что эта самая Катерина. Барбарис-то не утешится? Э-э, голуба, – она покачала головой – как еще утешится-то, и опять с этим Лафре целоваться будет!
– С капитаном Лафреньером? – переспросила ее Лидия Алексеевна словно деревянным голосом.
– Ну, хоть с капитаном!
– Как же она с ним целоваться будет, – проговорила Лидия Алексеевна тем же безучастным голосом, – если его в пятнадцатой главе убили!
– Убили, ах, батюшки! – Анфиса Аркадьевна всплеснула руками. – Стало быть, я это место опять проспала, – говорила она с сожалением, – я ведь думала, он живехонек! Кто же это его, голуба, убил-то?
– Мальверин.
– Ах, батюшки! – снова воскликнула Анфиса Аркадьевна, всплеснув руками. – Это адвокат-то? Вот негодяй-то! Вот подлец! Ну, будет, будет! – вдруг заговорила она ласково, видя, что Лидию Алексеевну точно всю извернуло.
Она прижала ее к себе, повторяя:
– Будет, голуба, будет, хорошая, будет тебе! Эхе-хе...
Тихохонько покачивая ее, словно ребенка, она замурлыкала на мотив колыбельной песенки:
Ой, цветочки – розы-ы-ньки,
Обмахните слезы-ы-ньки,
Скрасьте алой зорько-о-ю
Бабью долю горьку-у-ю!
– Ну, будет, будет! – повторила она ласково.
Лидия Алексеевна плакала, прижимаясь к ней лицом.
ХVIII
Три дня, данных Жмуркиным Лидии Алексеевне на размышление, уже истекали. Однако, Жмуркин не волновался; он был уверен, что Лидия Алексеевна вот-вот придет к ним в усадьбу, якобы в гости к Анне Павловне, и ответит ему так или иначе. Нужно только постараться перехватить ее где-нибудь хоть на одно мгновение. И вот, поджидая ее, он слонялся, в семь часов вечера, у крыльца кухни, беседуя с Флегонтом; тот сидел тут же, на ступенях крыльца, с папиросой в зубах. Ясный солнечный день заливал весь широкий двор усадьбы потоками веселого света, и окна дома ослепительно сверкали. Хребты холмов точно испускали свет.
Жмуркин похаживал мимо Флегонта, поглядывая в то же время на ворота усадьбы, и говорил:
– На всем земном шаре только один закон и есть: что тебе в рот попало – ешь! Вот это закон какой! – Он сердито усмехнулся.
Флегонт усмехнулся тоже.
– А если, например сказать, муха попадет? Так ее тоже есть? Ведь от нее не ровен час и стошнить может. – Он снова засмеялся. – Вот, стало быть, не все есть можно, что в рот попадает, – добавил он.
– Не о мухах тут речь, – отвечал Жмуркин сердито, – несъедобное не едят, это уж конечно. Тут и разговаривать нечего.
Он прошелся мимо Флегонта; сегодня он был одет более тщательно, чем всегда; от него даже попахивало одеколоном, точно он собирался в гости.
– Не в мухе тут дело, – снова повторил Жмуркин сердито, – а в законе этом. Вот, дескать, какой закон есть на всем земном шаре!.. Единый и для всех! – Он торжественно поднял вверх руку, точно свидетельствуя о непреложности этого закона. – В законе тут дело! – добавил он.
А если этот закон для тебя такой приятный, – вдруг сказал Флегонт, – так чего же ты вот сейчас сердишься?
– А разве же я говорю, что он приятен? – спросил его Жмуркин в свою очередь. – Я говорю: такой закон существует. И баста! А приятен он или неприятен – это другой разговор.
Он в задумчивости прошелся раза два мимо Флегонта.
– Для меня, – заговорил он снова, прижимая руку к сердцу, – для меня он, пожалуй, и неприятен, ибо он ставит меня на одну линейку с последним червем; один, дескать, я у всех у вас, мои голуби! Хотя, конечно, – поправился он сейчас же, – на закон и сердиться-то глупо. Не стану же я сердиться на то, что у меня две руки, а не три?
– А если он тебе неприятен, так зачем же ты его исполнять тогда будешь? – сказал Флегонт. – А если ты его исполнять не будешь, – добавил он, – стало быть, это для тебя не закон!
– Это все так, – согласился и Жмуркин, – я и сам об этом думал и вот что тебе на это скажу. – Он остановился прямо пред Флегонтом. – Я тебе вот что скажу, – заговорил он снова: – в исполнении этого закона, – ты понимаешь? – в исполнении этого закона я могу видеть для себя одни лишь неприятности, но, – повысил он голос, – но в исполнении дела моей мести за поругание наисветлейших мечтаний моих, так вот в этом я могу находить для себя даже очень много приятного! Ты понял?
– Нет, – отвечал Флегонт решительно.
– Допустим так, – снова заговорил Жмуркин, – допустим, что тебя незаслуженно вором сделали. Можешь ты после этого украсть? В самом деле уж? А если, дескать, я вор, так вот и наше вам? Можешь после этого украсть? – повторил он свой вопрос,
– Не знаю, – отвечал Флегонт, – со мною этого не бывало.
Они оба словно задумались. Жмуркин снова заходил мимо крыльца, поглядывая порою на ворота.
– Постой, – вдруг сказал Флегонт, – в этих твоих речах, пожалуй, правда есть. Со мною раз нечто вроде этого было. Назвала меня однажды барыня пьяницей, – продолжал он, – и я в самом деле в этот же вечер, как стелька, нарезался! Нарочно! А вот, дескать, если я пьяница, так вот и получайте! И нарочно мимо окон дома пошел! Чтобы там видели! – Флегонт рассмеялся – В твоих последних речах, – добавил он со смехом, – есть некоторая правда! Умница Лазарь Петров! На тя Господи уповахом!
Жмуркин молчал и глядел на Лидию Алексеевну, показавшуюся в воротах.
«Пришла-таки, не вытерпела!» – подумал он в то время, как она уже взбиралась на ступени высокого подъезда.
Он поймал на себе ее взгляд, брошенный как бы украдкой и случайно. Этот взгляд точно коснулся его, – настолько ясно он ощутил его на себе, и словно сказал ему: «На обратном пути. Подожди. Понимаешь?»
Она исчезла в дверях.
– Знаешь что? – вдруг обратился Жмуркнн к Флегонту. – Я лисицу в проточном овраге выследил.
– Ну?
– Выследил, и только брать ее не хочу, – говорил Жмуркин, внезапно бледнея. – Хочу, чтобы она сама ко мне пришла с поклоном. «Возьмите, дескать, меня, Лазарь Петрович, пожалуйста!» Да! – вскрикнул он, коротко рассмеявшись. – А я ее тогда даже, пожалуй, и брать-то не стану. Дескать, если ты уж такая тварь, понимаешь ли, т-тварь!.. так я об тебя и рук-то не хочу марать. Ступай, дескать, лисица, вовсю веселиться! Понял? До свиданья, Флегонт Ильич! – Жмуркин махнул фуражкой и поспешно пошел к воротам.
– До свиданья! – снова крикнул он повару уже от ворот. – Бегу в проточный овраг на лисьи выверты любоваться!
Он исчез.
– Ну, чего опять намолол? – думал сам с собой Флегонт, разводя руками. – Даже и мешалкой не провернешь, а человек, кажется, ведь неглупый! Это все в нем молодость бунтует, – добавил он, зевнув. Поживи-ка вот с наше! Умыкаешься! Охо-хо!
Он снова зевнул.
В то же время Жмуркин в задумчивости расхаживал по дороге между двумя усадьбами, за крутым выступом холма. Вокруг было светло. Ясное и безмятежное спокойствие, как бы не знающее никаких сомнений и никаких тревог, казалось, заливало всю окрестность счастливой улыбкой, и, поглядывая на окрестности, Жмуркин думал:
«Вот и здесь все светло и спокойно. И самая последняя козявка принимаете здесь законы жизни с благодарностью, потому что в исполнении закона – счастье».
– В исполнении закона – счастье, – шептал он.
«А если, – снова думал он, расхаживая под обрывом, – а если во мне бушует злоба, так это только потому, что я долго не понимал жизни и жил в совершенно другом мире, ничего общего с настоящим миром не имеющем. И я привык к нему. А очнувшись – осердился!»
– А чего же тут сердиться? – прошептал он, разводя руками с выражением недоумения. – Сердиться на закон – это все равно, что стричь бритого. Нельзя сердиться на то, что брошенный вверх камень падает обратно, а топор тонет в воде!
Жмуркин замолчал, слегка бледнея; он увидел Лидию Алексеевну. Она уже возвращалась домой, торопливо идя по каменистому грунту дороги. Он поспешно двинулся к ней навстречу. Между тем она так же торопливо прошла мимо него, потупив глаза и подобрав свое платье, точно боясь, что оно заденет его.
– Говорите Елисею Аркадьевичу, – сказала она ясно и отчетливо, не останавливаясь ни на минуту, скользнув мимо него, как ясная и светлая волна.
– Хорошо-с, – отвечал Жмуркин так же ясно и отчетливо.
Он круто повернулся лицом к Студеной и, заложив руки в карманы, стал глядеть на ее воды. Вскоре он хорошо увидел сбоку и не поворачивая головы, что Лидия Алексеевна остановилась тоже, саженях в сорока от него, и так же, как и он, стала глядеть на воды Студеной, играя зонтиком с самым равнодушным видом. Не повертывая к ней лица и принимая тоже самый беззаботный вид, Жмуркин не сводил с нее глаз. Она была в темно-синем шелковистом платье, словно усеянном малиновыми огоньками, и весь ее вид будоражил сердце Жмуркина жутким и мучительным чувством.
«Как она хороша, как она хороша!» – думал он в тоске и точно задыхаясь.
Она шевельнулась; малиновые огоньки ее платья и камни перстней, в изобилии украшавших ее пальцы, до боли резко сверкнули в глаза Жмуркину. Она тихо двинулась к нему. Он поспешно пошел к ней навстречу. Однако, она едва заметным движением руки не допустила его к себе. Он покорно остановился; десять шагов разделяли их.
– Вы непременно скажете Елисею Аркадьевичу? – спросила его она.
– Непременно, – отвечал Жмуркин.
Они замолчали оба, потупив глаза, оба бледные и внезапно смущенные.
– Я вас в последний раз спрашиваю, – вновь заговорила она, и Жмуркин хорошо видел, как дрогнули уголки ее губ. – В последний раз! Вы непременно скажете Елисею Аркадьевичу?
– Непременно-с, – отвечал Жмуркин сердито, – непременно-с скажу.
– Ну, так и говорите! – сказала она после минутной паузы и не сводя с него глаз, точно желая по его лицу проверить искренность его ответа. – Говорите! Ах, как я вас испугалась! – Она сердито качнула хорошенькой головкой и еще раз заглянула в глаза Жмуркину. – Послушайте, – снова заговорила она, с выражением боли на лице теребя свой розовый зонтик. – Послушайте. Если вы не скажете Елисею Аркадьевичу, Максим Сергеич даст вам тысячу.
– Ничего он мне не даст, – перебил ее Жмуркин гневно, – потому что если вы только заикнетесь ему об этом, я сейчас же иду к Елисею Аркадьичу. – Сейчас же! – повторил он гневно.
– Ну, я сама дам вам две, – проговорила она.
– Я скажу! – повторил Жмуркин решительно и в раздражении.
– А в таком случае говорите! – повторила Лидия Алексеевна. – Ах, как я вас испугалась!
Она двинулась от него прочь с самым решительным видом. Он пошел тоже; однако, они не ушли далеко, остановившись снова на прежних местах, с тем же как бы равнодушным видом поглядывая на тихие воды Студеной.
Так прошло с полчаса, и Жмуркин хотел было уже идти домой, как вдруг она снова двинулась к нему какой-то особенной, чересчур осторожной походкой и словно одолевая каждый шаг с большим усилием для себя.
Они снова остановились в десяти шагах друг от друга. Несколько минут она молча смотрела в его глаза, вся бледная, с болью на всем лице. Затем она слегка перегнулась к нему, приложив палец к губам. Он точно замер.
– Завтра, – наконец, прошептала она, и этот шепот сорвался с ее губ, едва уловимый, как шелест сухого листа. – В девять часов, – зашептала она тем же шепотом, с длинными паузами после каждого слова. – Вечером. В теплице.
Последнее слово точно замерло на ее губах, и Жмуркин едва уловил его значение.
– И я не поганая, – зашептала она с тем же выражением. – Слыхали? Я только умею любить. И это не для вас, – добавила она чуть слышно, слегка перегибаясь к нему, бледная, с отуманенными глазами, – не для вас, и не ради Елисея Аркадьевича, а ради него. Слыхали? Поняли?
– Хорошо-с, – прошептал Жмуркин, потупив глаза. – Понял-с.
Когда он поднял, наконец, глаза, она была уже далеко.








