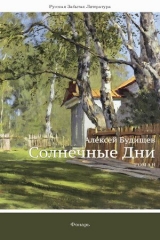
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Алексей Будищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
X
Вечером в первое же воскресенье после именин Быстрякова, столь памятных для Жмуркина, у Загореловых вновь собрались гости. Весь дом был ярко освещен. Гости остались ужинать, и в половине двенадцатого Флегонт уже отпускал сладкое. Он со вкусом уставлял на широком блюде фисташковое бланманже и говорил Фросе:
– Цвет-то какой? Аквамарин! Средиземное море это, а не пирожное! На Тя, Господи, уповахом, ловко соорудил, востроглазая! А это вот янтарь из того самого моря! – добавил он, тщательно раскладывая вокруг прозрачное желе, искусно налитое в апельсинные корки.
– Бараний бок с кашей остался, что ли, ужинать? – вдруг спросил он Фросю. – Ну, Быстряков, что ли? – пояснил он тотчас же, видя, что та не понимает вопроса.
– Остались.
– Так вот, когда ты вот это самое произведение ему подавать будешь, ты у него того – тихим манером вилку отбери. А то он вилкой ковыряться начнет и всю мне музыку испортит. Пусть лучше прямо из корочки схлебнет. Этим не подавится. Скажи, что повар Флегонт готовил! Фрося, – вдруг переменил он тон, – а ведь ты хорошенькая!
Фрося засмеялась.
– А вы старенькие!
– Ну, в пятьдесят лет какая же старость! В пятьдесят лет можно даже Шамиля в плен брать, а не только что с майским бутоном язык чесать. В пятьдесят лет не старость, – добавил он с усмешкой.
– Да и не молодость, – сказала Фрося лукаво.
Флегонт комично вздохнул.
– Да, оно, конечно, в пятьдесят лет кушанье, пожалуй, и того – пережаренное уж, а все же есть можно.
Он расхохотался и сделал движение, как бы желая поймать Фросю.
Та увернулась.
– Нет, уж ах оставьте! – сказала она капризно и с досадой. – Что это у вас за метода такая, в самом деле, каждый раз целоваться!
Флегонт снова засмеялся, покачивая головой и поглядывая на Фросю.
– Никак нет, – сказал он, – я тебя сейчас целовать не буду. Я тебя тогда целовать буду, когда ты в обе руки блюдо возьмешь. А сейчас нельзя! Сейчас ты меня правой рукой вот в это место толкнешь! Ну, бери, егоза, блюдо! Готово! – добавил он. – Бери, господа дожидаются.
– А вот и не возьму, – сказала Фрося капризно, принимая в то же время широкое блюдо, – что это в самом деле!
Когда она была уже на пороге, он догнал ее и обнял за талию.
– Ну, вот теперь получай! – сказал он. – Господам желе, а тебе безе. Сколько тебе: порцию, или две? Считай! Раз...
– Ей Богу, я сейчас блюдо брошу. Что за метода еще!
– Не бросишь, егоза. Два, три! Вот и все. А теперь ступай.
– А что, – говорил он ей вслед уже с порога, – разве не вкусно? И молодому так не суметь.
Он вошел в кухню, переоделся, сбросив поварские доспехи, и вышел на двор. Обогнув сад, он подошел к реке.
Там у тихих вод Студеной уже сидел Безутешный и Жмуркин. Между ними на земле был разостлан газетный лист, а на нем размещалась бутылка водки, три рюмки, толстый ломоть ситника и куски разрезанной воблы.
– Ты что долго не шел? – спросил повара Безутешный. – Мы тебя ждали, ждали... По две уж – не вытерпели – кувырнули!
Его громоздкая фигура темнела в полумраке косматым ворохом.
– Некогда было, – сказал Флегонт, – пирожное отпускал, а потом Фросю целовал. А ловко вы здесь устроились! – добавил он.
Жмуркин подумал: «И этот вот жить умеет».
– Ну-с, провиант готов, – проговорил Безутешный басом, налив все три рюмки.
– Я больше не буду, – отозвался Жмуркин хмуро.
Он приподнялся и пошел берегом, удаляясь.
– Что он какой? – спросил Флегонт Безутешного, кивая на удаляющуюся фигуру Жмуркина.
В тусклом сиянии ночи тот казался каким– то призраком, тенью человека.
– Задумывается он все о чем-то, – уныло проговорил Безутешный.
– Я вижу, что задумывается. Давно вижу, – согласился и Флегонт. – И как будто опять собирается куда-то. Только теперь не понять – куда. Не то в монастырь, а не то в острог!
Они снова выпили по рюмке.
– Ух, хорошо жить! – вздохнул Флегонт, ставя опорожненную рюмку на газетный лист.
– Чем хорошо-то? – угрюмо спросил Жмуркин, приближаясь и весь выдвигаясь из сумрака.
– Всем хорошо! – отвечал Флегонт. – Хорошо поработать в поте лица. Хорошо бланманже на славу состряпать. Хорошо хорошенькую поцеловать. Хорошо после трудов рюмочки три водки опрокинуть. Хорошо красоту Творца созерцать.
– «Ве-ру-ю в-о еди-на-го Бо...» – вдруг отрывисто запел он, ни с того ни с сего, хриповатым баритоном и также вдруг оборвал пение на полуслове. – Хорошо! – добавил он. – Налей-ка еще по рюмочке! Эка ночь-то какая! – воскликнул он. – Братцы-хватцы, достойны ли мы?
Вокруг в самом деле было хорошо. Лунная ночь неподвижно стояла над землею, словно застыв в благоговейном созерцании. Волнистые очертания холмов призрачно вырисовывались в лунном свете. Над лесною опушкой то и дело мигала белесоватая зарница, точно там за лесом кто-то беспокойно взмахивал белым покрывалом. И в этой тишине голоса разговаривающих звучали, как струны, кем-то в задумчивости перебираемые.
– Хорошо, – повторил Флегонт, и, кивая на белое пламя мигнувшей зарницы, он добавил: – Вон ангел Господень над лесом белыми крылами трепехчет. Чистую душу на разговор вызывает. Многое он в эту ночь чистой душе расскажет! «И-иже херу...» – снова внезапно запел он и так же внезапно оборвал пение. – Вижу тебя, светленький, вижу, – вдруг крикнул он мигнувшей зарнице, радостно, – но разговора с тобой недостоин! Ибо аз есмь – пес! Повар Флегонт!
Он стукнул себя в грудь кулаком и притих. Все помолчали.
В речке Студеной что-то забульбукало, точно там что-то просыпали в воду. Отдаленное рычанье мельницы прилетело, как гуденье шмеля.
– Это не ангел, а электричество, – наконец, сказал Жмуркин хмуро.
– По-твоему электричество, а по-моему Бог, – отвечал Флегонт.
– По-твоему все – Бог.
– По-моему все – Бог, – согласился дружелюбно Флегонт. – Все Бог и везде Бог! Бог в небе, Бог в земле, Бог и во мне.
Жмуркин ядовито усмехнулся.
– То-то ты с Богом-то в себе и качаешь рюмку за рюмкой.
– И качаю, – сказал Флегонт. – Это – слабость человеческая, и мне ее Господь-Бог простит. Простит, – повторил он с уверенностью. – Потому, позовет меня Господь-Бог на суд Свой праведный, и я перво-наперво в ноги Ему хлопнусь. «Чувствовал, дескать, красоту Твою, Жизнодавче, чувствовал всегда и везде! И наказание твое праведное, яко награду приемлю, ибо Ты еси истина и кротость!» И буду вопить я, аки бесноватый: «Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе!» – Флегонт возбужденно умолк.
– Ловко, Флегонт! – буркнул Безутешный.
– И что же, тебя в рай сейчас же после этого? – спросил Жмуркин безучастно.
Оп сидел в задумчивости, обхватив руками колена, бледный, не приподнимая глаз.
– В рай – не в рай – отозвался Флегонт, – а где-нибудь на паперти примощусь. Это уж верно. Много нас на этой самой паперти соберется, – продолжал он, – грешников, красоту нетленную Жизнодавца ощущавших. И будем мы сидеть ни во тьме ни в свете, ни в тепле ни в холоде. И единожды в год будет он Сам мимо нас туда к воротам царским проходить, яко день солнечный... И эта самая минуточка наградой нам за весь год будет, да такою наградой, какую здесь и во сне не увидишь! Ух, хорошо! – снова вздохнул Флегонт. – Хороша жизнь, хороша и смерть! Все хорошо!
Он замолчал. Вокруг стало тихо. Только зарница тревожно металась над опушкою леса. Из раскрытых окон дома прилетели веселые звуки цыганской песенки.
«Это Суркова», – подумал Жмуркин. Он сидел все в той же позе, словно чем-то придавленный.
– Там поют, – проговорил вслух Безутешный, – не спеть ли и нам что-нибудь?
Не дожидаясь ответа, он громко откашлялся.
– О-т юно-сти мо-о-ея, – вдруг загудел его, похожий на колокол, голос. Он точно порвал тишину, покатившись чугунным ядром.
– Мно-о-зи бо-рют мя страсти, – подхватил Жмуркин высоким фальцетом.
Высокие горловые звуки, казалось, высоко взвились над ними и рассыпались звучною трелью.
– Не-нави-дящии Си-и-она, – присоединился и хриповатый баритон Флегонта.
Три совершенно разнородных голоса встретились, переплелись и зазвучали, как одна струна...
– Ловко! – буркнул Безутешный, окончив пение. – Разве еще что-нибудь спеть? А?
Жмуркин и Флегонт молчали. Кто-то точно весь белый и сияющий на минуту показался над опушкой и вновь поспешно скрылся за темною стеною леса, как за оградой. Лунная ночь молчаливо светилась вокруг.
– Ду-у-ховны-ми о-о-чима о-сле-е-п-лен, – снова уныло загудела бархатная октава Безутешного.
– Да что ты!? – вдруг крикнул Безутешный, обрывая свое пение.
Он тяжело приподнялся, направляясь к Жмуркину.
– Флегонт, тащи воды, живее! – говорил он. – Вон, в бутылку, зачерпни!
– Эка его как вдруг! – повторял Флегонт, поспешно сбегая к тихим водам Студеной. – Словно кто его в грудь ударил. Эко его, сердягу!
Жмуркин бился в истерике.
– Лживая! Лживая! – судорожно вырывалось из его горла.
XI
Утром, когда Загорелов, только что возвратившийся с поля, слезал с щегольских беговых дрожек, к нему подошел Жмуркин. Лицо его казалось несколько осунувшимся, точно после лихорадки, и более бледным, чем всегда, но вместе с тем он смотрел весело и оживленно. Он был особенно тщательно приглажен и тщательно одет.
– А я к вам, Максим Сергеич, – сказал он с почтительным поклоном.
– Что такое? – Загорелов приветливо улыбнулся ему.
– Да вот сообщить вам, что я от вас не уйду. Расчета мне не потребуется.
– Ну, вот и отлично! – воскликнул Загорелов. – Очень рад этому! Так, значит, обстоятельства у тебя изменились?
– Окончательным образом! То есть прямо, надо сказать, навыворот пошли!
Жмуркин засмеялся.
– Ну, вот видишь! – сказал Загорелов. – А я рад этому. Очень, очень рад! – повторял он.
– Да кто же мог бы предвидеть такую перемену? – сказал вслух Жмуркин, направляясь вместе с Загореловым к крыльцу. – Такие перемены только ведь во сне присниться могут!
– Ну, вот видишь, – сказал тот одобрительно и добавил: – А ты сегодня смотришь молодцом. У тебя на лице точно двенадцать праздников!
– Один всего-то-с! – шутливо крикнул Жмуркин Загореловy, уже исчезнувшему в дверях. – Всего-то-с один!
«Прозрение болящаго сокола! – сказал он уже задумчиво и как бы самому себе. – Окончательное прозрение болящаго сокола! Вот это какой праздник. Один да двенадцати стоит!»
«А я тебя выслежу! – подумал он с внезапным раздражением. – И вот тогда-то посмотрим, что из этого выйдет. Впрочем, из этого я и сам не знаю, что выйдет!» – добавил он тотчас же мысленно, пожимая плечом. Беспокойная мысль метнулась в нем, как молния, но он как бы умышленно не остановил на ней своего внимания ни на минуту. Он даже как будто бы сказал вслед этой мысли: «А что ты, голубушка, за птица, я и знать не знаю и ведать не ведаю. А просто радуюсь своему счастью, да и все тут!»
– Кто же это мне запретить может? – проговорил он уже вслух, словно сердясь, и веселое выражение внезапно ушло с его лица.
Он вошел в кухню и присел на лавку у окна, поглядывая на Флегонта. Повар с веселым лицом рубил фарш для рулета и выстукивал ножами Пушкинского «Утопленника», которого он любил напевать на мотив «И шумит и гудит».
– Ловко у меня выходит? – спросил он у Жмуркина. – А? Не хуже, пожалуй, чем на барабане? А? Ты узнал?
– Узнал!
– Я вот это вот место сейчас жарю: «Суд наедет, отвечай-ка!» Ловко? Как всю эту музыку отбарабаню, так и фарш готов. На тя, Господи, уповахом! Это ведь для рулета, – добавил он, – а вот если для мелкого битка, так я одним «Утопленником» не управляюсь. Я к нему «Персидский марш» присоединяю. Да. А то жестковато выходит. Да. А ты, что какой нынче веселый?
– Я, Флегонт Ильич, веру нашел, – помните, мы говорили-то с вами относительно правды; так вот, нашел, – сказал Жмуркин, доставая папиросу и раскуривая ее.
– Нашел?
– Нашел!
– Которая настоящая?
– Самая настоящая!
– А ну, расскажи.
– Я думаю вот как, – заговорил Жмуркин, приваливаясь к подоконнику. – Что делается на небе – нам неизвестно. Там никто не был. Но зато на земле мы видим все в достаточной степени. Так вот если на небе и есть святость, так значит на землю ей доступ запрещен. Ибо на земле ее нигде не видно. На земле есть только личина святости. Поганый обман и больше ничего! – Губы Жмуркина сердито передернулись.
– Ну-с, а дальше что? – спросил Флегонт.
– А дальше-то, – продолжал Жмуркин, – дальше и выходит, что святые заповеди для берлоги непригодны. Для берлоги и заповеди берложьи нужны. Не так ли? И вот что это за заповеди. Первая: «с волками обращайся по-волчьи, а с змеями по-змеиному». Он рассмеялся, схватившись за грудь, точно этот смех причинял ему боль.
– Это не вера, – сказал Флегонт, выстукивая ножами, как барабанщик. – Это очень уж просто и сразу понять можно. А в настоящей вере туман должен быть. Это уж обязательно. А такую веру, как твоя, это пожалуй и я сочиню: «Сорока птица, а Флегонт повар. Сорока прыгает, а Флегонт готовит кушанья». Ну, разве это вера? Ты сам подумай! Это естественный слова и больше ничего. – Флегонт рассмеялся. – В вере туман должен быть и иносказание, – продолжал он затем и уже серьезно. – В стихах – ты сам подумай – в стихах и то уж туманность некоторая необходима. Например: «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой». Так вот даже и тут, в стихах, и то сразу же туман. «Кто скачет? Кто мчится?» – а кто спрашивает – неизвестно. Вот видишь, в стихах, и то! А ты вдруг о вере и с такими словами: «На небе никто не был, и что там делается – неизвестно!» Какая же это религия? Так ведь, голубчик, и простые рабочие могут разговаривать! Ты прими к сведению, что и у татар, – заговорил он с укоризной, – даже и у татар, и то такие места есть, что прямо-таки не скоро поймешь!
Жмуркин приподнялся и тихо пошел вон из кухни.
– Да ты куда? – громко крикнул ему Флегонт в окно. – Уходишь? А все-таки это у тебя не вера, а слова; естественные слова!
Жмуркин прошел в ворота. Солнце уже сильно пригревало землю, и вершины холмов резко светились в этом свете, точно сама земля испускала свет и тепло. В саду пели птицы; сочные травы благоухали по скатам, волны Студеной весело покачивались у берега, и как будто чье-то горячее дыхание обжигало щеки Жмуркина. Он шел и думал:
«Это – дыхание жизни. Жизнь хороша, и она единственная. Но только надо уметь пользоваться ею и ловить обстоятельства за хвост. Это – правда, самая настоящая правда, и Максим Сергеич – умница. А я до сих пор делал из достигаемого недосягаемое. И в этом-то вся моя ошибка и несчастие!»
Он повернул от Студеной и снова пошел мимо сада, думая все о том же.
«И Лидия Алексеевна не виновата ни в чем. Ибо виноватых нет, если нет закона, а есть лишь одно отрицание его, – думал он, возбужденно вышагивая мимо сада. – А какой же это закон, если весь его смысл в том, что не пойман – не вор. Никто не виновен в моем несчастии, – думал он, точно убеждая себя, – я один виноват кругом, потому что до сих пор не умел понять жизни!»
– Не умел понять жизни, – проговорил он вслух, – вот в чем вся штука!
Вот она – ребенок, Лидия Алексеевна, и та поняла и пользуется обстоятельствами, как может и как умеет, а он сидел, как разиня, перед раскрытым кошельком, воображая, что кошелек заперт и отпирать его – грех.
И он все ходил и ходил, пытливо разбираясь в своих думах, точно желая проверить себя самым решительным образом, установить себе что-то раз навсегда, окончательно и бесповоротно.
Когда он был уже у себя во флигельке, вся красивая фигура Лидии Алексеевны пригрезилась ему внезапно, словно наяву. Его точно опахнуло жаром; горячие вихри закружились в его сознании, опустошая вокруг себя все, кроме образа этой женщины, как бы озаряемой светом той беспокойно метавшейся в нем мысли, как беглым пламенем зарницы. Тихо расхаживая по комнате с озабоченным видом, он подумал:
«А ведь она ни за что не скажет! Ни за что! Кому же ей возможно рассказать: мужу или любовнику?»
Однако, он боялся остановиться на этой мысли более внимательно Он только твердо решил выследить, где видится Загорелов с Лидией Алексеевной, всегда ли в старой теплице, на что указывало присутствие там ее гребенки, или же у них есть под рукою и другое уютное местечко. Твердо приняв это решение, Жмуркин в то же время убеждал себя, что ему нужно выведать это ради праздного любопытства и без всяких с его стороны целей.
«Просто так себе выведаю, – убеждал он себя, – просто так. Для ради праздного любопытства!»
И иногда он даже верил этому крепко. Однако, несколько попыток вот именно в этом направлении оказались для Жмуркина совершенно неудачными. Он решительно ничего не узнал. И Загорелов и Лидия Алексеевна видимо были крайне осторожны, и выследить их являлось делом вовсе уж не столь легким. Неудачи стали было уже раздражать Жмуркина, как вдруг виноград сам упал ему в рот. Однажды после обеда Загорелов вошел к нему во флигель и сказал:
– Я иду на прогулку. Что-то голова побаливает. Так вот, если я кому безотлагательно понадоблюсь, так вы меня все-таки не ищите. Я скоро обратно буду.
Жмуркин выслушал его приказание с самым почтительным видом и почтительно сказал:
– Слушаю-с! Будьте покойны!
Но когда Загорелов скрылся в воротах, он поспешно выбежал вон из усадьбы на лесистые холмы и, что было у него сил, устремился туда, к крутому скату, откуда дверь теплицы была видна, как на ладони. Это местечко было им облюбовано заранее, в одну из его попыток, окончившихся неудачею. Скрываясь между кустарников, он прибежал, наконец, туда с громко колотившимся сердцем и стал глядеть, между тем как в его горле все жгло и саднило от поспешного бега и мук, клокотавших в нем.
И он увидел, как Загорелов, внимательно оглядевшись, отпер дверь старой теплицы и поспешно юркнул туда. А затем к этой же двери подошла и Лидия Алексеевна. Она была в сером длинном плаще, и ее взоры блуждали вокруг с беспокойством воровки. На минуту все закружилось в сознании Жмуркина.
Внезапно его охватило желание сбежать туда, к теплице, перебить там все окна, бушевать, кричать, полезть в драку. Но он удержался, однако, призвав на помощь всю свою волю. Между тем, Лидия Алексеевна, все так же беспокойно озираясь, сунула ключ в замочную скважину двери, очевидно, уже запертой Загореловым тотчас же после его входа туда. Дверь поспешно отворилась и так же поспешно закрылась вновь. Старая теплица точно поглотила ее, как проглатывает черепаха нарядную бабочку.
Жмуркин подумал:
«Ключи и у него и у нее. Ловко!» Понуро он поплелся в усадьбу.
А вечером этого же дня он присел за токарный станок. Взяв затем железный прут, толщиною в детский мизинец, он отломил от него кусок не более трех вершков длиною. Затем он вооружился тяжелым молотом, с металлическою же ручкой, лежавшим здесь же на станке, и придвинул к себе подпилок. Тяжело шлепнув молотом, он расплющил конец прута, сделав его похожим на лезвие стамески. Тогда он взял подпилок. Железо сердито захрипело под его рукою.
Жмуркин делал отмычку и думал:
«Это я так. Просто как в шутку! Для ради любопытства!»
Жмуркин был токарь и слесарь, умел починить часы и шить на швейной машине.
XII
Между тем, устроив отмычку, Жмуркин бережно спрятал ее в ящик своего стола и как будто бы успокоился. По крайней мере все в усадьбе видели его несколько дней подряд совершенно ясным и веселым. В нем точно все уравновесилось, стало на надлежащее место, вылилось в определенную форму. Очевидно, он чувствовал себя хорошо. По три раза в день он ходил с Флегонтом купаться, и однажды, весело отфыркиваясь и с шумом рассекая воду руками, он сказал повару:
– Хорошо, Флегонт, жить, когда все понятным сделаешь. Сидишь ты себе тогда на своем месте, как хорошо ввинченная гайка! Ух, хорошо жить! – воскликнул он.
Как-то вскоре же вечером он вошел в кабинет Загорелова и сказал ему:
– Верешимская мельница готова, Максим Сергеич. Сегодня в шесть часов пополудни.
– Готова? – Загорелов двинулся к нему ясный и веселый. – Вот это хорошо. И спасибо за точность. «Сегодня в шесть часов пополудни», – повторил он весело. – Большое спасибо за точность. Я тобой доволен, очень доволен.
– Весьма этому рад, Максим Сергеич.
– Доволен. Я люблю точность, – повторял Загорелов. – Ну, а вот теперь слушай. Ты знаешь дорогу из села Верешима на эту самую мельницу? – заговорил он уже серьезно, с выражением деловой озабоченности на лице.
– Знаю-с.
– Так вот, дорога эта вся в моей грани, – продолжал Загорелов тем же деловитым тоном, – и на планах она не значится. Нигде! Это – дорога российской неряшливости! А Быстряков, очевидно, этого не знает, – иначе он не строил бы там мельницы. Так вот сегодня же пошли туда два плуга и прикажи эту дорогу в нескольких местах распахать! И поставь заставки, чтобы проезду не было. Понимаешь? Я хочу, – добавил он, – запереть путь верешимским помольцам. Ведь не поедут же они к Быстрякову за пятнадцать верст, в объезд? Это ему за капустники! Полторы тысячи в год вон из кармана это ему составит! Это ему за капустники, – повторял он сердито. Жмуркин рассмеялся.
– Ловко же вы его, Максим Сергеич! – говорил он. – Он вас «под ножку», а вы его вот этаким манером и на другой бок!
– Чтоб ему неповадно было, – сказал Загорелов сердито. – Теперь у него эту охоту отобьет!
– А вторые деньги он с вас спросил? – полюбопытствовал Жмуркин, продолжая смеяться.
– Нет.
– Так вы его, стало быть, только на шестьсот подстрижете?
– Только на шестьсот.
– Ловко, Максим Сергеич. По делам вору и мука. Воруй, да не попадайся. А заставочки эти самые я сам уставлять поеду. Аккуратненько и чистенько! И местечко выберу для них нет того лучше. Чтоб они, то есть, сразу же ему в глаза! Он на мельницу, а они ему: «Здравствуйте! Увидите наших, кланяйтесь своим!»
Он снова рассмеялся. Загорелов засмеялся тоже.
– Да ты уж пожалуйста сам, – восклицал он сквозь смех, – и вот именно так, как говоришь. На виду! Увидите наших, кланяйтесь своим! Вот именно так!
– Да уж будьте благонадежны! Будьте благонадежны, Максим Сергеич!
С верешимской дороги Жмуркин возвратился уже поздно, но в доме были еще огни, и он отправился к Загорелову, чтоб лично доложить ему о том, как исполнено его поручение.
Загорелов вышел к нему в переднюю и, выслушав его, остался очень доволен.
– Хорошо, хорошо, – говорил он ему одобрительно. А затем он добавил: – А теперь вот еще что. У нас сейчас Лидия Алексеевна, и ее нужно домой доставить. Так ты прикажи кучеру подать шарабан.
Жмуркина точно всего всколыхнуло.
– Зачем же кучера тревожить, Максим Сергеич, – сказал он внезапно даже для самого себя, – это и я могу сделать. Кучер-то теперь спит.
– Как хочешь, – отвечал Загорелов.
Жмуркин поспешно пошел запрягать лошадь; он был совершенно спокоен и даже, пожалуй, весел. Однако, когда Лидия Алексеевна поместилась рядом с ним в шарабане, и они выехали за ворота, сердце Жмуркина мучительно сжалось, точно предчувствуя беду. Он даже растерялся и опешил.
«Что же это такое? – подумал он с тоскою. – То собирался, собирался, а теперь уж как будто играй назад. Чего же я испугался в самом деле? Каких таких наказаний».
Он беспокойно шевельнулся, недоумевая пред чувством, внезапно наполнившим его и казавшимся ему нелепым, идущим совершенно вразрез со всем строем его дум и желаний. До того вразрез, что его присутствие в нем делалось совершенно непонятным и почти сказочным. Откуда оно пришло к нему, как оно выросло в нем – он не мог отдать отчета. Для него было ясно лишь то, что оно явилось, как совершенно незваный гость, как выходец совсем из другого мира и вместе с тем, как власть имущий. Чувство это как бы предостерегало Жмуркина от чего-то и предостерегало боязнью какого-то наказания, тогда как он хорошо и наверное знал, что о наказании тут не может быть и речи. Он был крепко уверен, что идет наверняка. И он с тоскою и недоумением думал:
«Да что же это такое? Охотник должен радоваться удаче, и торговец не боится барышей. Зачем же я-то играю отбой, когда так?» Он придержал лошадь, спуская шарабан под гору. Ночь была лунная; выпуклые хребты холмов лоснились под лунным светом, как, жирные спины отъевшихся чудовищ, задремавших в ленивом сне. От Студеной веяло сыростью. Прямая и блестящая полоса ее вод разрывала окрестность, как вонзившийся клинок. Ночная птица кричала в лугах пронзительно и дико, точно в испуге.
Они съехали вниз и очутились среди курившейся парами лощины, точно среди пожара. Косматые профили высоких деревьев резко чернели среди этой молочной мглы, разливавшейся вокруг, как мутное озеро. Здесь было совсем прохладно; воды Студеной лежали рядом, и в тишине ясно слышался ее сонный лепет, похожий на чваканье. Жмуркин сообразил. Он был как раз на полпути. Он оглянулся на Лидию Алексеевну. Она сидела в шарабане, одетая в тот же самый серый плащ, в тот же самый, – как он сразу не заметил этого! И с невинным видом хорошенького ребенка она глядела вдаль, словно задумавшись. О чем? Может быть, о Загорелове.
Жмуркин резким движением остановил лошадь среди курившейся мглы и вылез из шарабана. Внезапная злоба на эту женщину и на предостерегающее его чувство охватило его словно пожаром. Он заходил вокруг шарабана.
– Вы что? – спросила его Лидия Алексеевна ласково.
И по ее лицу он хорошо видел, что даже и тени подозрения не зародилось в ее сердце. Это только увеличило его злобу.
– Кнут потерял – отвечал он ей недовольно, – вот и ищу.
Он ходил и думал:
«Зайду сзади и скажу: а Загорелова знаешь? Помнишь? Старую теплицу не забыла? А?»
Лидия Алексеевна опять спросила его:
– Вы еще не нашли?
– Нет еще, – хмуро отвечал он.
И тут же ему пришло в голову:
«А отмычка? Зачем же я эту музыку орудовал?»
Ему стало ясно, что надлежащий момент не подошел, что сейчас он только мог испортить все дело.
«Ишь ты, – подумал он, – чуть-чуть не влетел. Душа разыгралась. Под топор могла подвести».
– Какая история, – сказал он вслух и пытаясь придать своему голосу тон шутки. – Какая история! Ищу кнут, а кнут у меня в руке! Вот это так история!
Он пошел к шарабану.
– Да неужто? – спросила его Лидия Алексеевна, весело засмеявшись.
«А ты не смейся, – подумал он сердито, – я ведь не помиловал тебя, а только момент отсрочил».
– Да вот поглядите сами, – сказал он вслух, – кнут в руке, а я все глаза проглядел, его искавши.
Он вдруг рассмеялся, в то время как на его лице трепетало выражение боли. Оборвав, наконец, смех, он сел в шарабан и резко взмахнул кнутом. Косматые профили деревьев рванулись к ним навстречу.
– А я вот что хотел вас спросить, Лидия Алексеевна, – через минуту заговорил Жмуркин, слегка повертываясь к молодой женщине, – вот о чем, извините пожалуйста за беспокойство.
– О чем?
– Вот о чем. Если, скажем так, люди хитрят по-всячески, обманывают там, или еще что, – так вот могу ли и я к ним вот с такою же точно хитростью? Как вы думаете? То есть прав ли буду я?
– Нет, – отвечала Лидия Алексеевна уверенно.
– Это почему же?
– Вот почему. Если люди хитрят, то они поступают нехорошо. Так зачем же вам в таком случае дурной пример с них брать?
Жмуркин сдержанно засмеялся.
– Я это не совсем понимаю, Лидия Алексеевна, – сказал он почтительно. – Как же это: «Если люди хитрят, то поступают нехорошо». Это-с непонятно! Для чего же они тогда хитрят, если это нехорошо? Нет, а я думаю вот как. Люди хитрят, потому что это для них весьма-с даже хорошо. И это они всем сердцем ощущают и сознают. А вот других они, действительно, стараются убедить, что это самое «хорошо» совсем не хорошо. И для того стараются убедить, чтобы у них одних эта самая привилегия осталась. Пусть, дескать, другие не хитрят, а мы очень прекрасно будем, и все пироги у них из-под носа повытаскаем. Так, дескать, нам лучше будет. Я вот как думаю, Лидия Алексеевна. Я думаю, что то, что действительно нехорошо, – того ни один дурак не сделает. Пальца, вот, себе небось никто не отрубит! Я вот как думаю, Лидия Алексеевна, – повторил Жмуркин. – Что вы на это скажете, извините за беспокойство?
Лидия Алексеевна понуро молчала.








