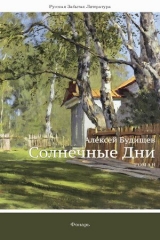
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Алексей Будищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Алексей Будищев
Солнечные дни
Роман
I
Стояли солнечные дни, ясные и теплые. Было начало июня.
Загорелов шел у себя по плотине, близ мельницы, сопровождаемый конторщиком Жмуркиным, своим «чиновником по особым поручениям», как он его звал обыкновенно. Ему хотелось посмотреть всходы конопли, посеянной по ту сторону реки Студеной, среди низины, на десятинах, только что осушенных из-под болот. Теперь же, проходя по плотине, он строил всевозможные планы, соображая вслух, нельзя ли воспользоваться еще как-либо рабочей силой воды, которая и без того молола ему муку, драла крупу, валяла сукна и мяла кудель. А Жмуркин, тонкий и безбородый малый, шагал рядом с ним молча, прислушиваясь к его планам с почтительностью на всем своем бледном лице, почти с подобострастием. Жмуркин всегда выслушивал так своего хозяина, а перед его рабочей способностью и умом он положительно благоговел. Впрочем, по его губам, плотно сжатым и тонким, порою блуждала улыбка, болезненная и замкнутая, – трудно было бы догадаться, что именно выражала она собою. Но все же чувствовалось, что она далеко не без содержания. Между тем они прошли всю плотину и очутились перед мельницей, у скрипевших снастей. Загорелов замолчал. Клокотавшая под колесами вода с грохотом бросала вокруг шипящие клочья серебристой пены, и вести разговор при таком шуме было бы затруднительно.
Обреченная на вечную работу река, вся пенившаяся у колес, наподобие взмыленной лошади, видимо негодовала, как каторжник, прикованный к тачке, и оглашала воздух сердитым гулом. Резкий свист крутящихся снастей врывался в этот гул озлобленным воем и между водою и этими снастями точно шла ожесточенная борьба насмерть.
А на мельнице своим чередом кипела работа самого мирного свойства. Кругом, как муравьи, сновали рабочие, с лицами словно осыпанными пудрой, согбенные под тяжестью кульков, белевших на их спинах, как глыбы снега. То и дело, отъезжая, скрипели телеги, нагруженные этими кулями, крепкие, словно отъевшиеся поглощенной мукою, сильно пахнувшие дегтем. Раздавались разнообразные возгласы; слышались шутки, звенел смех.
Из раскрытых дверей амбаров порошило мучной пылью, как снегом. Оттуда словно метелица мела. Загорелов остановился, с удовольствием оглядывая всю эту веселую картину труда, ярко залитую солнцем. И в возбуждении он воскликнул:
– Ух! Вот это я люблю! Лазарь, погляди!
Он повернулся к Жмуркину сильным движением, указывая на скрипевшие телеги, на рабочих, на амбары, порошившие мучной пылью.
– Погляди, Лазарь, какая славная кипит здесь работа! Как здесь хорошо! Сколько денег наметет нам в кошелек эта метелица!
Он умолк с лицом, выражавшим восхищение, и все еще как бы наслаждаясь зрелищем шумной рабочей жизни. Теперь он весь выдвинулся из-под тени осенявших плотину ветел, и солнце ярко освещало всю его фигуру, стройную и сильную, с молодым и красивым лицом, с острою золотистой бородкой, с выпуклыми серыми глазами, смелыми и ясными. Его крутокурчавые волосы, ярко-рыжие, чуть прикрытые легонькой спортсменской фуражечкой, отливали под лучами солнца золотом.
Жмуркин невольно залюбовался им.
По крайней мере по его бледному лицу, безбородому и худощавому, на минуту скользнуло что-то похожее на восхищение; впрочем, выражение это тотчас же исчезло, и на его тонких губах, чуть опушенных крошечными усиками, снова появилась та же замкнутая улыбка. Он неловко передвинулся всем своим тонким туловищем ближе к амбарам, ища тени, с выражением внезапного неудовольствия. Зной и блеск видимо беспокоили его, отвлекая мысли от чего-то главного и наисущественного, что всегда и всюду он носил в себе, не расставаясь с ним ни на минуту.
А Загорелов весело двигался вперед, полный; самых радостных настроений.
– Да, Лазарь, – заговорил он снова, дружески кивая Жмуркину, – не удивляйся, что у меня такой безумно счастливый вид! Я, действительно, счастлив! Без меры счастлив! Пьян от счастья! И разве же это не счастье – принять вызов от судьбы, обрекшей тебя на самое жалкое прозябание, и крикнуть ей: «Посмотрим!» И схватиться с ней грудь с грудью, и одолеть ее! И одолеть ее так, что у нее хрустнут все ребра! О, это очень большое счастье! – воскликнул он с живостью. – Это все! Вся суть и все цели бытия!
Он снял фуражку, обмахивая ею свое возбужденное лицо. В самом деле он казался пьяным от счастья.
«Стучи в барабан и не бойся!» – вдруг продекламировал он:
Целуй маркитантку под стук!
Вся мудрость житейская в этом,
Вся суть философских наук!
– Лазарь, – вновь воскликнул он восторженно, – это наилучшее стихотворение в мире! «Вся мудрость житейская в этом!» – повторил он, сдвигая на самый затылок свою крошечную фуражку. – В этом! В победной борьбе с судьбою. А вот каковы должны быть приемы этой борьбы – тут мнения расходятся. Иные говорят: «Под ножку нельзя!» – и даже на этот случай соответствующие циркуляры тиснули. А я говорю: можно! Можно и «под ножку»! Но при условии непременной победы. Только при этом условии! Почему? А вот потому, что победителей не судят! Это во-первых. А во-вторых, при несоблюдении этого условия непременной победы воспользовавшегося сим нециркулярным приемом и тем не менее очутившегося под низом, – так вот такого господина – вдвое больнее бить будут. Поверь мне! Его будут бить и за поражение и за нециркулярный прием. То есть квадратной лупцовкой! Следовательно, мораль сей басни такова: если на силы свои ты не рассчитываешь и на одоление не уповаешь – прием оставь, «под ножку» не смей! Ни-ни! А рассчитываешь, так отчего же, дерзай!
Он на минуту умолк, поглядывая на Жмуркина ясным, самоуверенным взглядом серых выпуклых глаз.
– Этот прием вовсе не беззаконен, – начал он снова. – Ведь и судьба по отношению к нам к тому же самому приему прибегает. Посуди сам. Допустим, что я, будучи пятилетним мальчонкой, упал с качелей и получил на спину горб, стал калекой, неспособным к жизни, несчастным из несчастных. А за что? Почему? – Неизвестно. Или еще пример. Предположим, что у меня энергия и работоспособность в сорок лошадиных сил, а судьба заперла меня в мышеловку без воздуха и света. Так вот разве же это не «под ножку»? Лазарь, ответь по совести! А если она так, так и я буду так. «Под ножку». Буду «под ножку», черт вас совсем побери! – вскрикнул Загорелов с внезапным раздражением и злобой, с резким жестом.
Его жесты вообще отличались резкостью. И, также внезапно, вслед за этим сердитым возгласом он рассмеялся самым добродушным образом.
– Однако, мы с тобой уже у цели, – проговорил он, все еще хохоча. – Лазарь, мы увлеклись, по обыкновению.
Он умолк, оглядывая расстилавшееся перед ним поле. Освобожденная из-под болот почва, жирная, вся словно лоснившаяся, была обильно покрыта здесь темной и мясистой зеленью конопли, издававшей тягучий запах масла. Загорелов сказал:
– Здесь было пятьдесят десятин болот, доходность которых равнялась минусу. А теперь эти десятины насыплют в мой карман семь-восемь тысяч: прав ли я был, перескочив через путы судьбы?
Он снова умолк, предвкушая будущие обильные жатвы, оглядывая окрестность счастливыми глазами человека, уверенного в удаче. Здесь было тише; мельница была уже далеко; рев воды достигал сюда подавленным ропотом, счастливым ворчаньем наевшегося до отвала животного.
– Весело на мельнице, весело и здесь, Лазарь, – заговорил Загорелов. – Слышишь, и здесь жизнь говорит нам: «Живите, трудитесь, завоевывайте ваше счастие. А если оно не дается вам, ловите его, как умеете, арканом, капканом, западней. Я все разрешаю сильным и умным и все запрещаю хилым глупцам и разиням! Будьте же смелы! С зайцами, пожалуй, обращайтесь по-заячьи, но с волками: – по-волчьи»! – заключил он своею любимой поговоркой.
– Хорошо вам так говорить, Максим Сергеич, – внезапно перебил его Жмуркин, – вы сильный! А что, если который слаб? Или не в удаче? Ужли ему своего счастья так вовеки веков и не увидеть? Зачем же ему тогда такое хотенье дано? То есть жажда души?
Он с недоумением развел руками, не находя надлежащего слова для выражения всего теснившегося в нем.
– Зачем им тогда такое хотенье и порыв мечты? – повторил он с тем же выражением.
Его голос звучал нежно и вкрадчиво, а жесты казались сдержанными и мягкими, чересчур мягкими, неестественно мягкими, словно их врожденную порывистость сдерживало что-то могучее, одевавшее пока еще непроницаемой бронею дух мятежный и в высокой степени беспокойный Эти жесты сделали понятными теперь и его улыбку, раньше казавшуюся такою замкнутой. Эта улыбка как бы говорила Загорелову: ты умен и силен и ловок. Это правда. Но я перерасту тебя головою, если захочу. Но я еще не хочу; я сомневаюсь.
– Большое хотенье, – проговорил он, наконец, вслух и с усилием, – большое хотенье при слабых силах, это – все равно, что большой колос на слабом стебле. Где же ему налиться?
Он снова умолк, вздыхая.
– А вот ведь арбуз наливается, – сказал Загорелов, – стало быть, дело не в стебле, а в хотенье.
Жмуркин внезапно рассмеялся сдержанным и тихим смехом, более похожим на кашель.
– А я так и думал, Максим Сергеич, что вы на арбуз намекнете, – проговорил он, сквозь смех, – вот именно на арбуз!
II
Они двинулись в обратный путь. Они шли, повернув лицом к мельнице, среди веселой низины, сбегавшей к реке Студеной ровной зеленой скатертью. Тот берег, представлявший собою вначале такую же низину, замыкался затем, на расстоянии полуверсты от реки, цепью лесистых холмов с красивыми глинистыми изломами, с глубокими и узкими оврагами, словно пропиленными пилою. На одном из этих холмов, левее мельницы, раскинулась усадьба Загорелова, обширная, с многочисленными постройками, с громоздким каменным домом в два этажа, высоко возвышавшимся на пологом скате. На другом виднелась усадьба купца Быстрякова, с низеньким, но веселым домиком, радостно выглядывавшим из-за курчавых кустов сада. И обе усадьбы словно купались в золотистом блеске, будто тоже светились от счастья.
Загорелов смотрел туда, по ту сторону реки, на свою усадьбу, и думал:
«И все это я заработал сам, своими руками, своим уменьем».
Обращаясь к Жмуркину, он заговорил как бы в раздумье:
– Когда мне было двадцать два года, когда я был твоих лет, Лазарь, все мое состояние, ты знаешь, равнялось сотне десятин, сугубо заложенных. И тогда же я сказал: «Я буду богат. Непременно!» И вот теперь мне двадцать восемь лет, – и у меня две тысячи десятин земли. Я богат, я очень богат. Вот что значить большое хотенье, Лазарь! Лазарь, – говорил он, когда они были уже на плотине, – все стремленье человека должно быть направлено на созидание личного своего счастья. Работай, трудись, созидай, и если ты способен, остальное все приложится. Толцыте, и отверзется вам. И твоя жизнь будет вот такими же солнечными днями. А я, я заработал уже их; мои солнечные дни занялись, и, видишь, я охмелел от счастья. А ты не собираешься теперь в монастырь, как раньше? – неожиданно спросил он Жмуркина, слегка склоняясь к нему сияющим от счастья лицом.
Тот не отвечал ни слова и только тихо рассмеялся своим похожим на кашель смехом. И тут же они чуть не столкнулись с Лидией Алексеевной Быстряковой выходившей из калитки Загореловского сада.
Загорелов поспешно подбежал к ней.
– Боже мои, вы сидите у нас, а я даже и не подозреваю этого!
Он здоровался с молодой женщиной и, покачивая головою с грустно-комичным видом нашалившего школьника, говорил ей:
– Какой я глупый, какой я глупый! Я бегаю по коноплям и гоняюсь за счастьем, за призраком счастья, а счастье сидит в это время у меня под крышей. Вы были у Анны Павловны? – спросил он ее.
Загорелов всегда звал так свою жену и в глаза и заочно, словно подчеркивая их взаимную чуждость.
– У Анны Павловны? – переспросил он весело.
– У Анны Павловны!
– А теперь светлое счастье разве не рискнет возвратиться туда же, но уже со мною?
– Не рискнет. Пусть лучше ваша милость проводит меня вот хотя бы до угла сада.
Молодая женщина говорила весело, по-видимому, невольно впадая в тон Загорелова, и вся ее хорошенькая белокурая головка с милыми голубыми глазами, с ямочкой на подбородке глядела по-детски доверчиво и кротко.
– Мне нужно торопиться. Меня ждет обед и... и муж, – добавила она.
И в тоне ее голоса внезапно послышалось выражение как бы некоторой досады или уныния, впрочем, едва уловимое, как тень облака. Через мгновенье она уже так же весело играла своим розовым зонтиком с тем же беспечным и милым видом простодушного ребенка.
А Жмуркин стоял несколько поодаль, прислонясь спиною к массивному столбу ворот, потупив глаза, бледный, точно пораженный внезапным недугом.
Можно было подумать, что ему сделалось дурно. Однако, когда Лидия Алексеевна, сопровождаемая Загореловым, двинулась уже в путь, он оправился и вошел в ворота усадьбы совершенно бодро и пожалуй даже весело. Но едва лишь он сделал два-три шага, как его слуха внезапно коснулся звук поцелуя, поспешного, сорванного украдкой, подневольная поспешность которого как бы выдавала его удвоенную ею горячность.
Звук этот прилетел со стороны тех удалившихся, и был едва уловим, как вздох сонного дерева, как шелест листа. Но он ворвался в сознание Жмуркина как буря, опустошив в нем все, все думы и все желания, закрутив в нем целые вихри самых разнородных ощущений, жутких, мучительных, диких.
Вначале Жмуркин даже слегка согнулся, словно придавленный непомерной тяжестью этого звука. А затем он поспешно побежал в сад, растерянный и бледный, чувствуя в себе лишь пламя этих вихрей. С тем же видом он подбежал к забору и припал глазами к скважине между рассохшихся тесин. Отсюда он увидел Лидию Алексеевну и Загорелова. Жмуркин впился в них глазами, пытаясь разгадать загадку; но они шли с самым невинным видом, на далеком друг от друга расстоянии, и болтали о каких-то пустяках; и ни единая черточка их лиц не наводила мысль на возможность поцелуя. Жмуркин остался доволен тем, что увидел. Вихри улеглись в нем, и мысли вновь прояснились, словно оболочка спала с его мозга.
– Ух! – с облегчением вздохнул он, отрываясь, наконец, от забора.
«Это мне показалось, – подумал он тотчас же, – этого быть не могло! Не такая она, чтобы... Не в таком стиле-с!»
Он двинулся садом к своему крошечному флигельку в два окна, ютившемуся в углу сада на одной линии с домом, среди густых зарослей сирени и жимолости.
«Он, – думал Жмуркин по дороге о Загорелове, – он, конечно, не прочь. Он даже был бы весьма рад, черт его побери, но она-с! А дело в ней! Она-с – чистейшая и святейшая женщина. Лидия Алексеевна! Как же можно-с, чтоб вдруг?.. Не такая она, чтоб спотыкнуться!»
Жмуркин как будто успокоился. Впрочем, час спустя, когда он обедал в кухне вместе с поваром Флегонтом, воспоминание о слышанном поцелуе снова мучительно коснулось его сердца. Его сразу же точно всего перевернуло, и Флегонт с участием на лице спросил его:
– Что это нынче с тобой, Лазарь Петрович?
– А что?
– Да вид у тебя какой-то такой! – Флегонт повертел пальцем у себя под носом.
– Какой?
– А такой. Гляжу я на твое лицо, и сам никак не пойму. Не то тебя нынче пересолили, не то пережарили. А что? Разве не правда! Вон у тебя и начинка вся подсохла!
Он замолчал, потому что Жмуркин внезапно и с шумом отодвинул от себя блюдо с бараниной.
– Прошу в мои дела не вмешиваться, Флегонт Ильич! – крикнул он запальчиво – Имейте в виду, что я человек, а не соус! Чего? Будьте-с любезны! Человек, и не хуже других! Может быть даже почище многих! Я! Почище-с! Имейте в виду! – И он поспешно вышел из кухни, стуча сапогами.
А вечером, покончив свои обыденные занятия он сидел у себя в конторе, в крошечном флигельке за столом, заваленным громоздкими конторскими книгами и пачками счетов, и со вниманием что-то заносил в свою обтянутую холстом записную книжечку. Писал он медленно, видимо, напряженно обдумывая каждое слово, прежде чем занести его. Его бледное лицо, несколько склоненное на сторону, было хмуро-сосредоточенно, а его губы порою шевелились, точно он произносил про себя каждое написанное слово.
Жмуркин вел свой дневник.
«2-ое июня, – писал он. – Видел сегодня мое божество, Лидию Алексеевну. Хотел сказать ей «здравствуйте» – и не посмел. Поклонился молча, а душа словно кипела в котле. Максим Сергеич говорит: «Наше счастье и наше хотенье – вот единственные боги наши!» А я даже не дерзаю назвать по имени хотенье мое и открещиваюсь от него, как от сатаны. И я смотрел на мое божество, будто в молитве. И только. Так-то пройдет вся моя жизнь. У людей солнечные дни, а у меня – туман и туча. Бедный я, бедный! Видно, мне вовеки не видеть моего солнышка!»
Жмуркин оставил тут на минуту перо, тихонько, словно крадучись, прошелся по комнате, сосредоточенно потирая руки, и затем снова уселся за ту же работу, с озабоченным и хмурым видом.
«А потом она пошла домой, – записывал он ровным и узким почерком, – с Максимом Сергеичем. Мое божество, солнечный день, ласточка! И я услышал как будто звук поцелуя. Во мне все перевернулось. Побежал в сад и стал за ними подглядывать. Однако, убедился, что вид их доказывал невинность. Поцелуя не было; не могло быть. Сумасшедший бред это, несуразность, чепуха!» Жмуркин написал эти слова с самым спокойным видом, но тут внезапно его руку точно кто толкнул. Крупным и нелепым почерком он занес далее нижеследующее:
«А что, если это не бред? Что мне тогда делать? Ох, боюсь я, боюсь, боюсь»!
После этого он быстро запрятал книжку в боковой карман, словно боясь перечитывать написанное, затем подошел к своей узкой и жесткой постели и лег, зарываясь лицом в подушку, обтянутую розовой наволокой.
В комнате было уже совсем черно, когда он снова встал с постели. Не надевая фуражки, он вышел на крыльцо, как бы желая, чтобы его обдуло ветром. Там он уселся на ступеньке в задумчивой позе, весь привалясь к боковой перильце, как расслабленный.
Ночь была тихая и ясная; сонные деревья сада стояли не шевелясь, будто погруженные в думу. Малиновое пятно зари едва тлело, как догорающий уголь, над вершиною далекого леса, походившего теперь на взмывающую тучу. А из сада до слуха Жмуркина доносился звон посуды, веселый смех и беспечный говор людей. Там ужинали, пили вино, шутили, смеялись, наслаждались жизнью, кто как мог и как умел. И большой каменный дом смотрел туда, на веселившихся в саду людей, своими ярко освещенными окнами одобрительно и радостно. Жмуркин понуро сидел на крыльце и слушал.
Вот послышалась возбужденная болтовня Перевертьева и Сурковой – гостей Загореловых, – очевидно, взаимно кокетничавших, умышленно настраивавших друг друга на влюбленный лад. Вот прозвучал ленивый голос Анны Павловны – жены Загорелова. Вот звонко и радостно расхохотался он сам, Максим Сергеич.
Жмуркин сидел и тоскливо думал:
«У людей – солнечные дни, а у меня – туманы и туча».
А затем беспечный говор стих, окна в доме потухли, точно он внезапно ослеп; над широким двором усадьбы воровским полетом метнулась сова, и тишина застыла вокруг Жмуркина непроницаемой стеною, как бы отгородив его от всего мира.
И тогда Жмуркин тихо приподнялся и исчез в дверях флигелька. Оттуда он появился снова и уже с гитарой в руках. Задумчиво, он опустился на ступени крыльца, взял тихий, нерешительный аккорд и запел, думая о Лидии Алексеевне. Пел он: «Приходи, моя милая крошка», но на мотив «Взбранной воеводе»...
III
В селе Протасове, там, к юго-западу от усадьбы, едва только заблаговестили к обедне, и узкие овраги, изрезывавшие холмистые окрестности, еще гудели протяжным и радостным звоном, словно перекликаясь, а Загорелов уже сидел у себя в кабинете, за письменным столом. Он подсчитывал, во что обойдутся ему за все лето полевые работы, желая знать, сколько останется в его распоряжении свободных сумм, которые можно пускать в дело, «посылать в работу», как он выражался обыкновенно. Он сидел с карандашом в руке, подводя итоги, а рядом, сбоку, стоял Жмуркин, по выпискам из конторских книг почтительно докладывая о необходимых за лето денежных выдачах. Лицо Жмуркина было бледно и носило следы усталости, и он читал свои выписки порою совсем упавшим голосом, но Загорелов работал весело, со вкусом, почти вдохновенно. В каждом его движении так и сказывался умелый работник. Ослепительный свет солнца вливался в широкое окно кабинета, настежь отворенное, и ярко освещал их обоих. Крутые завитки волос Загорелова казались в этом свете вычеканенными из золота. Он был одет в легкий серый пиджак из какой-то шелковистой материи, свободный и ловко сшитый, не стеснявший его движений, а на его ногах ярко блестели своей лакировкой полевые сапоги, достигавшие до половины выпуклых икр. И вся его фигура, хорошо вымытая, вычищенная до лоска, довольная, сытая, удобно и красиво одетая, громко говорила, что он любит жизнь, умеет ценить удобства, находит вкус даже в мелочах, завоеванных жестоким боем.
А Жмуркин был одет в черный пиджак из такой же шелковистой материи и такие же точно сапоги. Его розовый галстук тоже был завязан бабочкой. Было очевидно, что он подражал в костюме Загорелову до мелочи, до смешного, затрачивая на это последние гроши; и, вероятно, это его радовало обыкновенно. Но теперь, поглядывая на Загорелова, на его красивую, свежую и сильную фигуру, и мысленно представляя свою собственную, Жмуркин томился беспокойным, мучительным чувством. В его сердце точно кто-то то горько плакал и тоскливо жаловался, то вдруг безудержно бесился, пытаясь разнести это сердце вдребезги.
Жмуркин казался самому себе порою жалким, ничтожным, гнусным до отвращения, – хотя в его наружности гнусного решительно ничего не было, – порою же несправедливо обиженным. И это сознание собственной ничтожности или несправедливой обиды то придавливало его, как невыносимая тяжесть, то бесило, вздымая все его существо на дыбы диким желанием померяться с кем-то силами, проявить себя, вырасти внезапно в исполина.
В эти минуты необычайного подъема ему верилось в свои силы, и он думал:
«Я перерасту тебя головою, если захочу!»
Когда они кончили работу, Загорелов спросил:
– Лазарь, ты что какой сегодня? Не в духе?
Он подождал его ответа – и не дождался.
– У тебя, может быть, денежные дела не в порядке? – снова спросил он его. – Так я тебе дам! – Он подумал и добавил: – Немного.
Жмуркин молчал, аккуратно укладывая свои выписки в папку.
– Нет, я не о деньгах, – наконец проговорил он, – деньги что!
– А о чем?
Загорелов закинул ногу на ногу и, покусывая золотистые усики своими яркими губами, внимательно глядел на Жмуркина.
Жмуркин встревоженно шевельнулся. Этот пристальный взор, казалось, беспокоил его, как беспокоит щекотливых чужое прикосновение.
– А о чем? – повторил Загорелов.
Унылый вид Жмуркина, казалось, слегка растрогал его, и в тоне его голоса слышалось самое искреннее соболезнование.
– Вот я о чем, – заговорил Жмуркин, с усилием подбирая слова. – Чему тут радоваться, если там пустота и безразличие? – Он кивнул головой, указывая на небо.
– Чему радоваться? – переспросил Загорелов. – А жизни? Восторгам? Здоровью, солнечным дням, удачной работе? Разве ты не находишь вкуса во всем этом?
– Плохой вкус! – Жмуркин презрительно усмехнулся. – Плохой вкус в безразличии и в пустоте-с! – повторил он твердо. – Посудите сами, Максим Сергеич! Ведь если и я, червь ползучий, и то не лишен бываю мечтаний светлых, так какова же должна быть цена всему миру громадному, если в нем ни единой светлой грезы нет, и только один живот, да мрак, да пустота, да безразличие? Грош цена миру такому, если он насест для червей есть, и только! Грош цена, если я себя до него принизить должен-с! Чему же тут после этого радоваться? – повторил Жмуркин свой вопрос.
Он как будто оживился, и на его бледных щеках, пониже скул, розовыми пятнами выступил румянец.
– Да, так ты вот о чем? – в задумчивости произнес Загорелов, меняя позу.
– Что же, – продолжал он затем, – если мы, черви, будем стараться, по крайней мере, быть нарядными червями, умными, сильными, благородными пожалуй отчасти, – добавил он.
– Это по-вашему так, – перебил его Жмуркин, – а по-моему, если уж я червь, так я и буду самым настоящим червем. И даже чем хуже, тем лучше! Потому что этим самым сугубым моим-с принижением я верховному безразличию мщу-с. За поругание светлой мечты моей мщу! Мщу-с! – повторил Жмуркин с внезапной судорогой на губах. И, забрав свою папку, он поспешно вышел из кабинета.
«Чудак!» – подумал Загорелов, улыбаясь.
Однако, тень уныния скользнула по его лицу, – точно разговор с Жмуркиным всколыхнул в его сердце что-то. Он встал из-за стола, прошелся раза два по кабинету и опустился затем на диван в задумчивости. Утренняя прохлада вливалась в открытое окно кабинета и касалась его щеки, как чье-то легкое дыхание. Казалось, там, за окном, стоял кто-то, светлый, вечно юный и непорочный.
«За поругание светлой мечты моей мщу! – припомнилось Загорелову. – Смешные люди, – подумал он с некоторой грустью: – кому тут мстить и за что? Ведь в таком случае и курильщики опиума вправе мстить за поругание своих несбывшихся грез. А кто же тут виноват? Не кури опиума, – вот и все!»
Он встал с дивана и пересел на стул.
«Светлые мечты, светлые мечты», – думал он в грустной задумчивости, и его сердца как будто касалось нежное и легкое облако. Утренняя прохлада дохнула ему в лицо снова, точно желая сказать что-то.
– А-а, что за вздор! – вдруг проговорил Загорелов сердито, словно отмахиваясь.
Он поспешно встал, оправил перед зеркалом бороду и пошел в столовую пить чай. Оттуда уже раздавался звон посуды, и ленивый голос Анны Павловны говорил:
– Фрося, голубушка, принеси ты мне чайку в спальную. Не спалось мне что-то, милая; полежу я еще хоть с часочек! За меня Глашенька пусть чай разольет.
«Экая ленища! – думал Загорелов о жене. – Даже чай лень разлить!»
Он сердито прошел в спальню к жене и сказал:
– Анна Павловна, неужели вам надо по двадцати часов в сутки спать? Разлейте хоть чай-то сами. Ведь у нас гости!
– Сейчас, Максим Сергеич, – раздалось из-под одеяла, – сейчас, сейчас; я только чуточку, самую чуточку!
«Вот тут тоже, – думал Загорелов, удаляясь из спальни, – из-за светлых мечтаний все бока себе отлежали!» «Да что я буду делать-то? – мысленно передразнил он ленивый голос жены. – Еще обидишь кого или согрешишь!»
А Жмуркин пил в это время чай у кухни с Флегонтом на свежем воздухе. Из окна кухни вкусно пахло кореньями и хорошо пропеченной булкой, и Жмуркин, с удовольствием вдыхая пахучий воздух, весело схлебывал с блюдечка чай и весело говорил:
– Гениальный человек Максим Сергеич, золотая голова!
– А что?
– Как что? Какое именье задаром охватил?
– Ужли задаром?
– А как же! Ведь это все на наших глазах произошло! Ведь я с малых лет в доме Максима Сергеича вроде как воспитывался. И всю эту музыку знаю. Очень доподлинно! Так рассказать?
– Качай-валяй!
Жмуркин налил себе свежего чаю и продолжал:
– Пронюхал он, что господин Хвалынцев...
– Это Петр Павлыч? Бывший хозяин здешний?
– Он самый. Прослышал Максим Сергеич, что Петр Павлыч в Париже в долги влопался и в деньгах нужду возымел. А именье у него шесть тысяч десятин было и заложено по тридцати рублей на десятину. Только пронюхал об этом Максим Сергеич, и, видимо, у него тотчас же в мозгах мечта эта самая всеми колесами завязла. Чтобы, то есть, вот это именье заполучить. И поженился он тут скоропостижно на Анне Павловне. А та постарше его годочков на шесть, и за ней по случаю этому прилагательного двадцать пять тысяч значилось. Ну-с, заполучил он денежки эти, свое именьишко вдруг заложил и пропал неведомо куда. Это мы так думали. А оказывается, он к Петру Павлычу уехал. В Париж. Вон куда! Приехал и стал его, конечно, оглаживать сахаром-медом оказывать очки втирать. «Продайте, дескать ваше именье!» – «Извольте. За сколько?» – «За тридцать тысяч!» Тот даже в амбицию. «Хотите, говорит, двести тысяч в доплату к банку?» А Максим Сергеич смеется. «Да я, говорит, то же самое вам предлагаю». – «Как то же самое?» – «Так то же самое. Продайте, говорит, мне ваше именье за тридцать тысяч. И эти денежки я вам единым моментом выкину. И сейчас же закладную совершим. То есть, как будто бы я именье мое у вас в ста семидесяти тысячах заложил. А через год я их вам уплатить обязуюсь. А не уплачу – именье ваше, а мои тридцать тысяч – фью-с, в гости уехали! Хотите, говорит?» А Петр Павлыч ему: «А кто же, говорит, мне составление закладной обеспечит? Илья пророк что ли?» – «Нет, говорит, не Илья пророк, а сорок мучеников». И показал ему тут Максим Сергеич на кресте своем благословение материнское, образочек серебряный. «Вот, говорит, они все обеспечат». И тут же добавил: «Ведь мы, говорит, тем же часом, не выходя, оба акта совершим. Как же я на попятный пойду? Да разве есть, говорит, на свете такая наглость?» И так понравилось это Петру Павловичу, что он руку ему тут же пожал. Согласился.
– Ужли он и после сорока мучеников его обдул? – спросил Флегонт.
– Вот то-то и есть, что нет! – весело воскликнул Жмуркин. – Зачем? С зайцами можно и по-заячьи! Приехал сюда Максим Сергеич с двумя актами в кармане и, понимаешь ли, в полгода четыре тысячи десятин восьми деревням по частям распродал. Через банк. И за это самое двести сорок тысяч чистаганчиком заполучил. Итого вышло ему за хлопоты две тысячи десятин с усадьбой, да сорок тысяч деньгами. Гениальный человек Максим Сергеич! – заключил Жмуркин.
Флегонт сказал:
– Да, это не телячьи мозги с изюмом!








