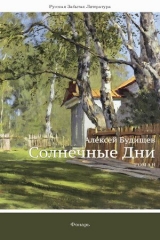
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Алексей Будищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
XXII
Прошло еще несколько дней. Все те же думы преследовали Жмуркина всегда и везде, не оставляя его ни на минуту. Он точно переселился в какой-то особый мир головокружительных ощущений, нелепых образов, мучительных дум. Всюду и везде ему мерещились враги, подосланные Загореловым для его истребления, и часто он собирал все свое мужество, мысленно приготовляясь к отчаянной защите.
«Постойте! – думал он в эти минуты о своих врагах. – Если уж вы так, так ведь и я могу вот этак! Ведь зубки-то и у меня есть, собаки!»
Он злорадно улыбался, словно грозя кому-то, точно стараясь запугать невидимого врага своею смелостью и решительностью. В то же время он принимал все меры предосторожности, чтобы не быть застигнутым врасплох. Он внимательно оглядел все запоры в окнах своего флигелька, где он помещался, заменил у двери крюк более надежным и всегда ходил теперь с револьвером в кармане. И все-таки все эти предосторожности казались ему ничего нестоящими, игрушечными и смехотворными, как выстрел из детского пистолетика по медведю. Он прекрасно сознавал, что враг хитер, и, конечно же, он упадет к нему, как снег на голову, внезапный и неожиданный, страшный этой самой неожиданностью, как снежная пурга, застигшая путника посреди безлюдной степи. А когда так, что же могут предотвратить все эти запоры, крюки и пистолеты? Враг может, хотя бы например, сжечь его в его же флигельке ночью, сонного, устроив якобы случайный пожар. Разве же это так трудно сделать? Эта мысль серьезно остановила на себе внимание Жмуркина, и он, желая сделать свое жилище менее воспламенимым, стал каждый вечер поливать его крышу и стены из ручного насоса.
Раз Загорелов застал его вот именно за такою работою.
– Ты что это, братец, делаешь? – спросил он его ласково, но этот ласковый тон нисколько не успокоил Жмуркина, а только еще более взбудоражил его, наглядно доказав ему, насколько хитер и опасен его враг.
– Вот видите-с, стенки-с поливаю, – отвечал он с некоторым лукавством в лице.
– А что?
– Да спать ночью душновато-с. А потом мало ли что-с может выйти. Извольте вот сами сообразить-с! – Он весь шевельнулся перед Загореловым с самым лукавым выражением. – Сами сообразите-с! – шептал он с мучительною усмешкой.
– Да это верно, – согласился Загорелов, – это верно, – я и сам терпеть не могу спать в духоте! Только почему же ты окон на ночь не отворяешь? – спросил он его вдруг совершенно спокойно.
– Окон почему не отворяю? – переспросил его Жмуркин в глубочайшем недоумении. Этот вопрос показался ему чересчур уж нелепым по своей наглости. – Окон почему не отворяю? – повторил он свой вопрос. – Я думаю, сами знаете почему. – Он снова лукаво усмехнулся.
– Простуды боишься? Так тогда затворяй, непременно затворяй! Ты ведь в самом деле здоровьем похвастаться не можешь. Затворяй, затворяй!
Загорелов пошел прочь от Жмуркина, к балкону, где слышалась веселая болтовня Сурковой и Перевертьева.
А Жмуркин злорадно говорил ему вслед:
– И окна запираю и все крючочки заново переменил! Так что уж теперь надежно! В случае чего...
Он усмехнулся и торжествующе подумал:
«А я ему опять закорючку и навыворот, – поди-ка вот, поломай-ка теперь головку-то!»
Вскоре же после этого, когда он работал однажды в кабинете Загорелова, тот предложил ему стакан чаю. Жмуркин наотрез отказался; внезапно ему пришло в голову, что чай может быть отравлен.
– Нет-с, будьте уж любезны-с, я не могу, – сказал он Загорелову, почтительно прижимая руку к сердцу и всем своим лицом в то же время желая его предуведомить, что он тоже себе на уме, и что взять его голыми руками будет довольно затруднительно и почти невозможно. – Нет, уж извините-с! – шептал он с лукавым поклоном.
– Да разве ты никогда не пьешь чаю? Что тебе, вредно, что ли? – с участием допытывался у него Загорелов.
– Да пожалуй что и вред может выйти!
– Это от одного стакана-то?
– Да уж пожалуй что и от одного стакана-с! Будьте любезны, никак нельзя-с!
Он все более и более точно погружался в какую-то яму, населенную всяческими ужасами. Он потерял сон и аппетит; ночью его терзали мучительные сердцебиения, а пища казалась ему приправленной каким-то отвратительным на вкус снадобьем.
Жизнь стала для него невыносимою, а иногда ему приходило на мысль немедленно же рассчитаться и уйти куда-нибудь, куда глядят глаза, лишь бы освободиться от всех этих ужасов, преследующих его по пятам, как своры злобных ищеек. Однако, и эта мысль тотчас же казалась ему никуда негодным вздором: разве Загорелов оставит его в покое даже и там, раз он знает, что самая заповедная его тайна находится вот в этих самых руках? Наоборот, Жмуркину казалось, что жить здесь для него даже много выгоднее, чем где бы там ни было, так как все же его враг был у него на виду, и, следовательно, ему было удобнее следить здесь за каждым его движением.
«И в случае чего, – сейчас же наоборот!» – думал он.
И он оставался жить здесь.
Как-то раз среди ночи он проснулся в сильнейшем беспокойстве, с удушливым криком, ощущая припадок мучительного сердцебиения. Он услышал извне какой-то подозрительный шорох, и ему показалось, что его флигель обкладывают сухим хворостом; он сразу же сообразил, что это делают для того, чтобы подпалить затем его жилище. Он беспокойно бросился к револьверу и не нашел его. Ему пришло в голову:
«Отобрали! Умышленно!»
Он бросился к токарному станку, вооружился тяжелым молотом с металлическою ручкой и, тихонько полураскрыв дверь, выглянул наружу, сжимая свое оружие в похолодевшей руке. Но вокруг не было ни души. Лунная ночь сияла на небе, и сад спал в серебристом покрове. Осторожно прислушавшись, он двинулся на крыльцо, беспокойно оглядываясь разыскивая невидимых врагов, мягко ступая босыми ногами. С теми же телодвижениями он обошел весь свой флигель, заглядывая в глубину кустарника, неподвижно купавшегося в зеленоватом свете месяца. Но и там он не увидел никого. Это его несколько успокоило, но теперь он уже боялся возвратиться назад во флигель. Ему пришло в голову, что пока он делал свой обход и был у задней стены, в открытую дверь флигеля мог кто-нибудь проскочить и затем спрятаться в темном углу. И когда он теперь войдет туда, его внезапно ударят по голове, накинут на его шею полотенце, задушат как беспомощного кролика.
«Что же это такое? – думал он с тоскою, застыв перед своим флигелем с молотом в руке. – Что теперь будешь делать?» – шептал он в мучениях, чувствуя себя запертым в ловушку.
С минуту он простоял так, напряженно разбираясь в безвыходности своего положения, а затем ему пришло на мысль идти сейчас же к окну загореловской спальни, разбудить того ударами по стеклу и покаяться ему во всем. Пусть он его судит сейчас же и как хочет; все же это нисколько не страшнее тех ужасов, среди которых он живет уже давно. Эта мысль как будто даже понравилась ему; он словно успокоился и двинулся к дому, как был, в одном белье. Через минуту он уже был там, у этого окна, светившегося под лунным светом. Окно это выходило на восток и не задергивалось на ночь гардиной, так как Загорелов любил, чтобы его поднимало с постели восходящее солнце. Жмуркин затаил дыхание, осторожно поставил ногу на широкий выступ фундамента, и заглянул через это окно в глубину спальни. Однако, в первую минуту он ничего не увидел там; у него точно мутилось в глазах от мучительного сердцебиения, снова наполнившего его шумом, похожим на сердитый свист кузнечных мехов. В нем точно раздували этими мехами какую-то отчаянную решительность, как кузнец раздувает горячее пламя угля, и Жмуркину стало ясно, что просить у Загорелова какой-то там милости он пожалуй что и не станет. Он передохнул и снова заглянул в окно спальни. И тогда он увидел Загорелова, он внимательно оглядел его. Загорелов спал на спине, до пояса завернутый в простынку, и его красивая голова высоко лежала на белевших подушках. Ворот его рубахи был расстегнут, и Жмуркин увидел на его груди маленький серебряный крестик и такой же медальончик, вероятно, образок с сорока мучениками, – тот самый, при помощи которого он купил все это имение. Жмуркин услышал его ровное и спокойное дыхание и тут же заметил, что окно его спальни даже не заперто. Загорелов спал безмятежным сном младенца, даже не потрудившись запереть на ночь окна. Это открытие поразило Жмуркина, и на минуту в нем шевельнулась какая-то мысль, которая как бы шла вразрез с прежними его думами, но она сейчас же исчезла, словно утонув во мгле. Передвинувшись на выступе фундамента к одной стороне окна, зажав под мышкой свой молот и не спуская глаз с лица Загорелова, он стал тихонько отворять створку окна; та плавно двинулась к нему навстречу без звука, точно ее петли предупредительно смазали маслом.
Его сознание напряженно застыло, словно замкнувшись непроницаемым кольцом вокруг одной идеи: «Молотком в лоб и изо всех сил!»
«Ты на два вершка от душегубства ходишь!» – внезапно припомнились ему слова Безутешного. И непроницаемое кольцо разорвалось перед этим воспоминанием, как туча перед бурей.
Жмуркин поспешно спрыгнул с фундамента, быстро прошел к себе во флигель и, швырнув молот на прежнее его место, сел на кровать. На минуту все ложные страхи точно покинули его, и он внезапно увидел ту пропасть, куда его влекло так неудержимо. Он схватился за голову и горько заплакал, припав к подушке. А утром, когда он проснулся, та же мучительная мгла одевала его сознание, и он тотчас же устремился на поиски своего револьвера. Его он нашел вскоре же в кармане ватной куртки, но зато он обнаружил у себя новую пропажу. И эта последняя пропажа была много существеннее первой.
Пропал его дневник, тот самый, которым он запугивал Загорелова.
– Ловко? А? – шептал он, бледнея после усиленных и бесполезных поисков. – А? Самонужнейший документ выкрали!
Он как будто бы теперь сообразил с совершенной ясностью, что значит ответ Загорелова: «муха берложья»!
Вечером в тот же день он почтительно спросил его:
– Вы помните, я вас как-то-с о дневничке моем предупреждал?
– Помню, помню, – отвечал Загорелов весело.
– Так вот-с, я вам забыл тогда сказать, что он у меня в двух копиях имелся. Одна, то есть, у меня, а другая у постороннего лица, для передачи той самой особе. На случай безвременной кончины! – пояснил он.
– В двух копиях? – переспросил Загорелов. – Это хорошо; а ты «муху берложью» помнишь? – вдруг добавил он, рассмеявшись.
Жмуркина точно всего передернуло. Он не отвечал ни слова и, сердито повернувшись, пошел от Загорелова.
«Опять заковычка! – думал он, останавливаясь посреди двора. – Стало быть, опять жди чего-нибудь такого!»
Весь вечер он проходил по усадьбе, углубленный в свои размышления, бледный, с потерянным взглядом. Хорошенькая Фрося несколько раз прошла мимо него, и с досадою отвернув от него лицо, но задевая его не без умысла юбками, она каждый раз задумчиво и скороговоркой произносила:
– Пучины моря кто измерит? Кто усладит мои мечты? Кто сердцу бедному поверит? – Увы! не ты, – увы! – не ты, – увы! – не ты!
Но он не слышал и не видел ее, точно отгороженный от нее чем-то.
XXIII
Дни по-прежнему стояли солнечные и приветливые. Изредка веселый и шумный дождь звонко барабанил по железным крышам построек, порою гудел ветер, закручивая по дороге пыльные вихри, прыгавшие с обрывов холмов на светлые воды Студеной. А затем окрестности светлели снова в радушном тепле ясных и приветливых дней. И если судить по наружному виду, в обеих усадьбах все обстояло вполне благополучно. Загорелов ходил все такой же веселый и счастливый. Хлеб уже перевезли на гумна; у мельницы сердито завыл барабан молотилки, жадно перебивая золотистую солому своею железною пастью, и нагруженные зерном телеги целыми днями нетерпеливо скрипели у амбаров, торопясь пересыпать свой груз в их ненасытные животы.
Весь урожай был уже на виду, и Загорелов весело потирал руки, предвкушая изрядные барыши, строя планы будущих посевов, новых работ, новых обогащений. И, поглядывая вокруг с уверенностью удачника, он думал:
«Я буду богат, я буду страшно богат!»
Порою он приходил в контору к Жмуркину, веселый и ясный, весь словно благоухающей счастьем, и, дружелюбно кивая ему, говорил:
– Урожай прямо-таки баснословный; мы обогатимся. Мне ужасно везет, Лазарь, и вот тебе наглядное доказательство, что судьба покровительствует только тем, кто умеет жить, в ком есть энергия и сила. Да иначе и быть не может! Тучное зерно процветает и при маленьком дождике, а слабое гибнет и при ливне. В этом-то и заключается все покровительство судеб, счастье и удача, и этот закон тяготеет над всеми живущими. Сильный благоденствуй, а слабый... что же делать? – Загорелов пожал плечами.
– А слабый – «со святыми упокой», что ли? – переспросил Жмуркин.
Загорелов точно уклонился от прямого ответа и сказал:
– А как поступает хозяин, приготовляясь к посеву? Он тщательно сортирует зерно и хорошее сберегает, а плохое отдает в снедь.
– Свинкам-с? – снова спросил Жмуркин с усмешкой.
– А на кого же тут сердиться? – сказал Загорелов. – Таковы веления судьбы, и не нам их изменять!
– Это-с конечно! – почтительно согласился и Жмуркин. – Хорош ананас да не про нас, а картошка похуже, да привычна к стуже! Вот даже-с под рифму, – добавил он со смехом.
Вечером 13-го августа, в день именин Загорелова, в усадьбу съехались гости. Тут был и Фердуев, и все семейство Быстряковых, и множество других. После чая в обширном зале закружились танцующие пары. Молодые женщины и девушки, в пестрых и ярких нарядах, переплелись красивой гирляндой; зазвенел смех, и певучие звуки вальса наполнили весь дом, тоскующе зазвучали в аллеях сада. Танцевала и Лидия Алексеевна с Загореловым. Сегодня она выглядывала веселой и оживленной, и она много смеялась с лукавым задором ребенка, как бы отрешившись на время от всех своих темных дум.
Тут же, в уголке, поглядывая на танцующих, сидели в креслах Анфиса Аркадьевна и Анна Павловна. Анфиса Аркадьевна постоянно вытирала свои мясистые губы скомканным в левой руке платочком, и, поглядывая на жирное тело Анны Павловны, она говорила:
– Вы весело живете, нужно правду сказать. Да, между прочим, и у нас в Сердобольске весело тоже живут. У каждого сословия свои развлечения. У мужчинского – свои, а у бабьего – свои. Мужчинское сословие каждый вечер под окна к околоточной надзирательше шлендает. Смотреть, как она блох ловит. А бабье сословие друг по дружке ходят и чаи пьют. Сегодня с смородинным вареньем, – с удовольствием растягивала она слова, – завтра – с клубничным!
– А чай хорошо еще со смоквой пить, – сказала Анна Павловна, зевнув.
– И со смоквой пьем. Очень, очень весело живут в Сердобольске, – добавила Анфиса Аркадьевна со вкусом.
В то же время Быстряков, улучив удобную минутку, взял под ручку Фердуева и провел его в кабинет Загорелова, где не было ни души. Осторожно затворив затем двери кабинета, он стал перед Фердуевым, заложил руки в карманы и сказал:
– Ну-с, господин Гладстон, напряги мозги и соображай. Ты вот зачем мне нужен!
– Что прикажете, Елисей Аркадьевич? – спросил Фердуев с заискивающей улыбкой под накрашенными усами.
– Вот что мне требуется, господин Гладстон! Снимаю я у Максима Сергеева, то есть Загорелова, в аренду кусишко земли в сто десятин; они у него за рекой, а мне под самым боком. Ты соображаешь? Так вот нельзя ли такой проектец арендного контракта состряпать, чтоб в случае чего, Боже упаси, ежели дело-то до суда дойдет, так чтоб этот кусишко-то за мною в вечное остался! А? Шевельни-ка мозгами! Нельзя ли такой, карамболь учинить? А? А то он у меня в долгу, Максим Сергеев-то, – пояснил он сердито. – Я ему вот на этот самый стол шесть сотенных задаром вывалил!
– Трудно это, Елисей Аркадьевич, – отвечал Фердуев задумчиво. – Трудно, хотя подумать можно. Если бы, Елисей Аркадьевич, – говорил он с сожалением, – одни законы гражданские были, я, поверьте, кобениться бы не стал. Но, к сожалению, есть еще законы и у-го-ловные, – растянул он это последнее слово.
Между тем, Жмуркин беспокойно ходил по саду, мимо окон дома, и встревоженно поглядывал на танцующие пары, на Лидию Алексеевну и Загорелова, внимательно присматриваясь ко всему, что происходило в доме. Его осенила теперь новая идея. Он решился во что бы то ни стало добиться свидания с Лидией Алексеевной, хотя бы на единую минуточку. И пусть она искренно ответит ему, говорила ли она о нем Максиму Сергеичу, или же нет? И в случае удовлетворительного для него ответа, он сумеет, упросить ее навсегда сохранить все происходившее между ними в строжайшей тайне, обещая ей зато навсегда же оставить ее в покое. С этою целью Жмуркин и ходил мимо окон дома, желая как-нибудь дать знать Лидии Алексеевне о своих намерениях. Однако, долго он не находил никаких средств к этому, и это его мучило и угнетало. А потом он вдруг увидел тонную фигуру Лидии Алексеевны; она стояла, повернувшись спиною к раскрытому окошку, в трех-четырех шагах от Жмуркина. Он не выдержал, осторожно подошел к окну и, просунув руку, тихонько коснулся ее талии. А затем он поспешно нырнул в сторону. Лидия Алексеевна неторопливо повернулась лицом к саду, и по взволнованному выражению ее лица сразу же было видно, что она тотчас же догадалась, кто был этот коснувшийся ее. Сквозь ветки деревьев она увидала Жмуркина; он делал ей какие-то знаки. Убедившись, что за нею не следят, она торопливо прошла в сад.
– Что вам? – спросила она, стараясь быть скрытой со стороны дома. Ее встревоженное лицо выражало досаду.
– Мне нужно говорить с вами, – сказал Жмуркин.
Они говорили шепотом.
Ей показалось, что его лицо посинело, а его зубы пристукивали. Он точно страдал лихорадкой.
– Вы видите, теперь не время, – отвечала она, брезгливо пожав плечами.
– Мне нужно, – повторил он, тоскливо заглядывая в ее лицо, – и для вас и для меня нужно! Ради Бога! – добавил он уныло и просительно.
– К сожалению, не могу, – сказала она.
– А тогда я могу пойти туда, – он кивнул на дом, – и сказать всем, кто ты такая!
Последние слова вырвались у него удушливым возгласом.
– Тише же, ради Бога! – с мольбою прошептала она, беспокойно оглядываясь на окна дома. – Хорошо. Где же мы будем говорить? – добавила она, убедившись, что его окрика никто не слышал.
Он кивнул на свой флигелек.
– Там, ради Бога! – проговорил он. – Это нужно и для меня и для вас.
– Хорошо. Я выйду через час, – сказала Лидия Алексеевна после минутного колебания.
Она ушла, оставив его одного. Он прислонился спиною к дереву и о чем-то задумался, поглядывая в одну точку и беспокойно вздрагивая плечами.
Музыка стихла; дом тихо гудел веселым говором. Сумрачные аллеи сада стыли в неподвижной тишине. Жмуркин стоял все в той же позе и думал.
– Не мни-и-и-те! – вдруг прилетело из лесного оврага, словно гуденье колокола.
Все общество, переполнявшее дом, поспешно выбежало на балкон, толкаясь и пересмеиваясь с оживленными лицами.
– Это Спиридон, – сообщал всем веселый голос Загорелова. – Послушайте, что это за удивительный басище!
– Не мни-и-и-и-те, – между тем, летело из оврага, – я-яко приидо-ох ми-и-р во-овре-щи на землю...
– Удивительный голос! – тихо проносилось в пестрой толпе, затопившей собою всю платформу балкона. – Удивительный!.. Какая силища!..
– Не ми-и-р при-и-дох во-вре-е-щи-и... – катилось из оврага. – Но-о-о ме-е-е-еч, – высокий до пронзительности звук вдруг зазвенел в воздухе, как лязг скрестившихся мечей.
XXIV
Через час, когда в зале снова возобновились танцы, Лидия Алексеевна подошла к Анне Павловне.
– Простите меня, – сказала она ей, смущенно улыбаясь, – я сейчас ухожу домой и не буду ни с кем прощаться, кроме вас.
– Что так, родимушка? – спросила Анна Павловна лениво.
– Что-то зубы разболелись, – говорила Лидия Алексеевна. – Извините ради Бога меня, но я больше не могу!
Простившись с хозяйкой дома, она вышла на широкий двор усадьбы и на минуту задумалась. Затем она беспокойно огляделась и быстро двинулась к углу сада, тотчас же скрывшись за темною стеною кустарника. И тут она увидела Жмуркина; он стоял в сенях своего флигеля, слегка прячась за косяком двери, и не сводил с нее глаз. Она снова остановилась, прислушиваясь и озираясь, прижимая руку к сердцу с беспокойством в каждой черточке своего лица. Дом весело гудел. Звуки вальса уныло замирали в вершинах деревьев.
– Идите же, – прошептал Жмуркин, как бы чувствуя, что у нее не хватает решительности, – идите же!
Она все стояла в той же позе, придерживая рукою сердце, с беспомощным видом.
– Я не могу, – наконец, прошептала она, точно прося у него милостыни.
Он весь выдвинулся из-за косяка, с лицом точно потемневшим от бесконечных мучений и злобы.
– А когда так, так я могу идти туда! – вскрикнул он удушливо, словно его горло внезапно перехватило морозом.
Она вся сжалась и быстро юркнула к нему в сени, будто нырнула в воду.
Он быстро распахнул дверь во флигель, как бы приглашая ее войти туда, но она осталась в сенях. С минуту она молча смотрела на него; она стояла прямо перед ним, придерживая сбоку шелестящие юбки своего шелкового желто-розового платья, цвета лососины; ее лицо выражало уже теперь презрение, гнев, досаду. Это точно смутило его, и он молчал, беспорядочно хватаясь за голову, чувствуя, что злоба ушла из его сердца.
– За что вы мучаете меня так? – между тем, заговорила Лидия Алексеевна с выражением гнева, обиды и досады. – Что я вам сделала? За что? Какой вы гнусный! – вдруг добавила она с омерзением.
Он глядел на нее с тоскою и, беспокойно хватаясь за виски, думал:
«Зачем же я звал ее сюда? Боже мой, зачем я ее звал? Я не помню!»
Он не находил в себе ни единой мысли, точно весь его мозг превратился в кусок льда.
– Боже мой! – простонал он вслух, весь качнувшись перед ней с жалким видом.
– Вы вот до чего меня довели, – в то же время говорила Лидия Алексеевна, вся содрогаясь порою от гнева и омерзения, – вот до чего! Гнусный вы человечишка! – ее рука со свистом скользнула по шелку юбки. Она извлекла из кармана письмо. – Вы вот до чего меня довели! – говорила она, судорожно потрясая этим письмом перед лицом Жмуркина. – Я две недели, целых две недели! – ее голос внезапно сорвался, словно в нем зазвучали рыдания. – Целых две недели, – повторяла она, потрясая письмом, – хожу вот с этим письмом в кармане! «Прошу в моей смерти никого не винить». Поняли? – В ее голосе вновь зазвучали гнев и досада. – Вот до чего довели! И я решилась, – говорила она, – лучше головой в омут, чем вашей любовницей стать. Поняли? Прочтите, если угодно, гнусный, мерзкий, отвратительный человек! – Она потрясла перед ним письмом с выражением гадливости.
Но он не принял письма из ее рук; она снова спрятала его, скользя по шелку юбки и долго не находя кармана. Минуту они молчали оба. Только звуки вальса звенели в вершинах сада; Жмуркин прислушивался порою к этим тоскующим звукам, и ему казалось, что это поют деревья, жалуясь звездному небу на свою горькую участь. В его сознании точно все пришло в порядок.
– Что вы все о себе да о себе, Лидия Алексевна, – заговорил он, сердито усмехаясь, – все о себе да о своих муках! Промежду прочим, – добавил он, прижимая руку к левому боку, – промежду прочим, этим вашим письмецом вы меня не запугивайте... которое вы сейчас спрятали! Я очень хорошо могу соображать, что сей сон собой обозначает. Которое спрятали! Я не сумасшедший, – проговорил он членораздельно. – Я не сумасшедший и хорошо вижу, что вы его вместе с Максом сочинили для ради дальнейшей отсрочки. То есть пока меня не сотрут в порошок! – Он снова помолчал, как бы собираясь с мыслями. – И потом, – заговорил он, – что вы все о себе и о своих муках! Почему вы, Лидия Алексевна, о моих-то ни полсловечком не заикнетесь? Лидия Алексевна, – он вдруг весь качнулся перед нею снова, – Лидия Алексевна, – повторял он беспорядочно, – солнце ты мое безгрешное! Куда ты от меня ушло? – Он опустился перед нею на порог, закрывая лицо руками, точно сломленный чем. – Солнце, солнце, где ты? – шептал он в тоске.
– Ну, будет вам! – сказала Лидия Алексеевна с брезгливой досадой и гневом. И она вся шевельнулась, точно собираясь уходить.
Он порывисто вскочил и поймал ее за руку, уже весь преображенный иными чувствами.
– Куда ты? – прошептал он, весь сотрясаясь в диком порыве и перегибаясь к ней с потемневшим лицом. – К Максу? Да не пущу!
Она гневно простонала, пытаясь вырвать руки, вся извернувшись с выражением омерзения на лице. Он рванул ее внутрь флигеля изо всех сил. Она вся перегнулась, пытаясь вырваться, и слабо вскрикнула. И тогда он выпустил ее руки, но тотчас же ухватил ее одною рукой за грудь лифа, а другой он поспешно сорвал с токарного станка молот.
– К Максу? Да не пущу! – повторял он в бешенстве, весь перегибаясь к ней.
Он двинул ее вглубь флигеля, уронив стул, тяжело дыша от переполнявших его чувств.
Она снова вскрикнула, вся извертываясь с выражением испуга и отвращения.
– А-а? К Максу? – спросил он ее в последний раз свистящим шепотом и, взмахнув молотом, он тяжко ударил ее в висок.
Она упала, скользнув по стенке станка.
И тотчас же после невероятного подъема, злоба ушла от него, оставив его одного, жалкого и беспомощного. Он схватил себя за голову, выронив молот, и опустился на колени, заглядывая в ее лицо, не веря глазам. Его сознание будто опрокинулось бурей. А затем он приподнялся, снял с вешалки свой старый пиджак и встряхнул его, неизвестно для чего. Из кармана пиджака выпала книжечка, та самая, где он вел свой дневник. Он спрятал ее в карман, эту книжечку, а пиджак подстелил под голову убитой, чтобы ее кровь, стекая, не попятнала пола. Потом он зажег свечу и внимательно оглядел самого себя. Убедившись, что на нем нет ни капли крови, он потушил свечу, запер на ключ дверь своего флигеля и прошел в сад. Там он опустился на скамейку и глубоко задумался. В его голове снова возникал новый план. Он долго сидел так, безучастно поглядывая на дом. Танцующие пары кружились в обширном зале, и окна дома точно моргали. Вершины сада монотонно гудели. Он приподнялся и пошел в дом с подъезда. Войдя в прихожую, он остановился на минуту, прислушиваясь к веселым голосами звучавшим в доме. Затем он снял с вешалки дорожный чапан Загорелова из толстого желтого драпа, на зеленой фланелевой подкладке. Перекинув его на руку, он вышел из дома. Проникнув снова к себе во флигель, он завернул в этот чапан тело Лидии Алексеевны, а свой запятнанный стекавшей кровью пиджак он затолкал в печь. После этого он достал отмычку, спрятал ее в карман, и, бережно взяв на руки завернутое в чапан тело Лидии Алексеевны, он понес его вон из флигеля. Тотчас же с крыльца он исчез за оградой сада, делая мелкие и поспешные шаги и тут же повертывая в заросли кустарника, цеплявшегося по скату холма. Он нес тело Лидии Алексеевны в теплицу; до старой теплицы было с полверсты, но на дороге он дважды передыхал; его мучили сердцебиение и одышка, и его ноша казалась ему слишком тяжкой. Опуская ее на землю, он каждый раз садился возле нее, и, обхватив колени руками, он безучастно глядел в сумрак ночи с сознанием, наполовину застывшим. Ночь была тихая и туманная; лесные овраги дымились, и легкий шорох листа странно звучал в этой тишине, как говор сонного человека в притихшем доме. В теплице он бережно уложил тело Лидии Алексеевны на тахту, потом на минуту присел тут же рядом с мучительным выражением на лице, схватившись за бока.
«Ну, что же, так лучше, – подумал он, – не ему и не мне!»
– Так лучше! – прошептал он, раскачивая головой.
Внезапно он встал на ноги и, отвернув широкую полу чапана, заглянул в лицо Лидии Алексеевны. Оно казалось теперь восковым, это словно замерзнувшее лицо.
– Солнце мое ясное, – прошептал он в то время, как его лицо точно все моргало от душивших его рыданий, – солнце мое ясное, простишь ли ты меня!
Он беспорядочно взмахивал руками, сложив их точно в молитве, и заглядывал в ее лицо, тускло освещенное светом свечи.
– Солнце мое ясное, прости меня! Ведь я всегда верил чистоте твоей и удивлялся, что ты выросла такая посреди берлоги! – шептал он, потрясая руками, с лицом, мокрым от слез. – И я никогда не думал, что произойдет вот это! – Он на минуту замолчал, будто задохнувшись от рыданий, в мучениях тиская свои руки, точно желая заглушить этим боль. – И это не я тебя убил, – снова зашептал он с теми же жестами и словно захлебываясь от слез, – не я, а он! Ведь он четыре года меня звериной музыке обучал и взрастил во мне змея, которого испугался и я сам! И я не отказываюсь, – шептал он, – идти за тебя на каторгу, но я захвачу и его с собою, моего наставника и учителя! Солнце мое ясное, прости меня! – повторял он беспорядочно.
Он подошел к ней, весь склонившись, осторожно снял с ее ноги туфлю и приложился к остывшей подошве ее ступни. А эту похожую на игрушку туфельку он спрятал к себе в карман. После этого он посидел еще несколько минут тут же на тахте, точно приводя в порядок думы и чувства, взбудораженные как листья дерева в бурю.
Затем он снова закрыл лицо Лидии Алексеевны полою чапана, потушил свечу и вышел из теплицы, заперев за собою дверь.
Его лицо точно успокоилось и замкнулось в голодной решительности.
«Надо делать надвое, – думал он всю дорогу, возвращаясь уже в усадьбу – и так, что как бы вроде самоубийства и вроде как бы он! То есть, совместно со мною!»
Когда он возвратился в усадьбу, в доме ужинали. Он прошел к себе во флигель, облил свой запиханный в печь пиджак керосином и зажег его, открыв заслон. Затем он оглядел со свечкой в руках всю свою комнату, и, усмотрев на полу несколько капель крови, он тщательно отскоблил их подпилком. Он оглядел и молоток, но тот был чист. Приведя таким образом все в порядок, он прошел в дом и попросил вызвать к себе Загорелова.
– Максим Сергеич, – сказал он, когда тот вышел к нему, – я в мельничных отчетах что-то не совсем понимаю. Там-с, по всей видимости, растрата.
– Растрата? – переспросил Загорелов с неудовольствием и беспокойно. – Где отчеты? Это нужно сейчас же проверить!
– Пожалте-с, они у меня-с в конторе, – сказал Жмуркин.
Загорелов поспешно пошел туда вслед за ним. Тотчас же они занялись проверкой отчетов, и Жмуркин умышленно задерживал его у себя. Но в отчетах все обстояло благополучно, и Загорелов успокоился и повеселел.
Когда он ушел, Жмуркин, не теряя времени, отправился к берегу Студеной, туда, где ее воды вырыли ниже плотины глубокий омут. Вываляв в тине туфельку, снятую с ноги Лидии Алексеевны, он оставил ее на берегу, с тем расчетом, чтобы она производила впечатление выброшенной волною. Он знал, что на это место водят купать лошадей с их мельницы, и эту туфлю найдут завтра в полдень.








