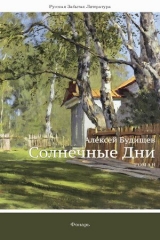
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Алексей Будищев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Хорошо-с; понял-с, – повторил он, стоя посреди дороги.
Внезапно он схватился за бока обеими руками, и из его горла вырвался не то смех, не то рыдание.
– Ну, чего же ты стоишь-то? – вдруг крикнул он себе резко. – Иди, собака, спать!
XIX
Весь следующий день Жмуркин беспокойно бродил по усадьбе, нигде не находя себе места. Работать он не мог; ему не читалось, не спалось, нигде не сиделось. Чтобы хоть как-нибудь убить время, он пошел в Безутешному, помещавшемуся здесь же в доме, в маленькой угловой комнатке наверху. Пошел он туда с черного хода, и когда он вошел к нему, Безутешный сидел за столом, с книжкой в руках. Его громадная спина заслоняла собою весь стол. Жмуркин поздоровался и сел на стул у раскрытого окошка.
– Что скажешь? – спросил его Безутешный загудевшей, как колокол, октавой
Жмуркин вздохнул.
– Скучно, Спиридон Павлыч! – сказал он.
– Что делать! – согласился и Безутешный с грустью. – «И всяк скучает, да живет, и всех нас гроб, зевая, ждет». Жить-то ведь все-таки, братец, надо.
– А вы читали что-то, кажется? – спросил Жмуркин. – Старую книгу, как переплет оказывает?
– Да, читал; старую книгу.
Безутешный говорил с неохотой, точно тоскуя.
– А что, Спиридон Павлыч, – снова спросил Жмуркин, – прежде лучше теперешнего писали или похуже?
– Да как тебе сказать, – Безутешный пожал широчайшими плечами, – и прежде хорошо писали и теперь недурно умеют. Только прежде стиль возвышеннее был. Прежде писали вот как: «Селима, отерши слезу, вопрошала себя: почто, богиня любви, привлекла меня под сень сию ранее брака?» – Слышал, какой стиль? А теперь это же место напишут так: «Маланья высморкалась и подумала: а вдруг да я забеременею?» Видал разницу? Или положим так. Прежде писали: «Объятый ужасом, Веньямин повергается на одр свой, и смертная бледность на челе его паки распростирается». Чувствуешь? А теперь это же напишут вот как: «Спиридон в страхе брякнулся на постель, и его красный нос стал серым». А я от вас, может быть, уйду скоро, – вдруг добавил он.
– Что так? Чем мы вас прогневили, Спиридон Павлыч? – Жмуркин натянуто улыбнулся.
– Скучно стало, – сказал Безутешный угрюмо, – да и на вас глядеть опротивело. Очень уж вы тут друг друга охаживаете хорошо. Глядеть противно! – повторил он, качнув косматой головою и весь повертываясь к Жмуркину. – Быстряков этого нашего нажег, Капернаума-то этого, – продолжал он, несколько оживившись, – Капернаум – Быстрякова! А ты тоже таким гоголем стал ходить, словно их обоих облапошить собираешься. Противно глядеть на вас! – повторил он, словно рявкнул в колодец.
– Чего-с? – переспросил Жмуркин, поднимаясь со стула и бледнея. – Примите к сведению, что я от вас таких вздоров выслушивать не желаю! – сказал он запальчиво. – Примите-с к сведению.
– А чего у тебя губки-то запрыгали, когда так? – спросил Безутешный сердито. – Смотри, брат, широко шагать хочешь, так как бы надвое не разорваться!
– Чего-с? – вскрикнул Жмуркин.
– Я давно на тебя поглядываю, – между тем говорил Безутешный, тоже как будто начиная сердиться, – давно поглядываю и хорошо вижу, какая из тебя цаца писанная растет!
– Спиридон Павлыч!
– Вижу, братец, – повысил голос и Безутешный, – очень хорошо вижу, что ты на сажень выше Загорелова вымахиваешь! Ты ведь живоглотство за религию стал выдавать!
– Спиридон Павлыч! – снова выкрикнул Жмуркин в бешенстве.
– А ты, брат, в исступление не впадай, – говорил Безутешный сурово, – я ведь вижу, что ты на два вершка от душегубства ходишь. Цыц! – вдруг выкрикнул он запальчиво, точно дунул всей грудью на огонь. – Он схватил Жмуркина за руки. – Ты, братец, в исступление не входи и ручками не брыкай! Драться не лезь! Слышишь? – говорил он Жмуркину, насильно сажая его на стул. – Ну, вот, успокойся, брат! – говорил он ему, еще придерживая его за руки. – Успокоился? Так теперь гляди на меня и отвечай. Что ты задумал? – Он выпустил его руки, прошелся по комнате и затем молча сел на свое место у стола.
Жмуркин сидел на стуле, бледный, точно утомленный припадком внезапного гнева. Безутешный смотрел на него, положив на колени свои громадный руки. Он казался совершенно спокойным.
– Ты чего задумал? Говори! – повторил он свой вопрос.
– Ничего, – отвечал Жмуркин замкнуто.
Безутешный помолчал, покачивая косматой головою, как бы в задумчивости.
– Погляди мне в глаза и отвечай! В последний раз тебя спрашиваю. Ты что задумал? – снова сказал он.
Жмуркин шевельнулся на своем стуле.
– В глаза мне ваши глядеть нечего, – отвечал он, наконец, уже совершенно успокоившись и даже развязно, – я не Дон-Жуан, а вы не испанская красавица! – Он усмехнулся. – Я ничего не задумал, – добавил он.
– Ну, хорошо, – сказал Безутешный, – допустим, что я ошибаюсь. Весьма возможно! Скажи ты мне вот что! Действительно ли ты живоглотство религией провозгласил и поклонился ему, как истине, ее же не прейдеши? Действительно ли? – повторял Безутешный, внимательно поглядывая на Жмуркина.
– Совершенная правда-с, – отвечал тот. Он был бледен, и его губы криво усмехались насмешливо и дерзко-вызывающе. – Совершенная правда, – повторил он: – один он, закон-то, во всей вселенной и для всех. Кланяюсь ему и провозглашаю-с!
– Уходи вон! – кротко буркнул Безутешный, качнув лохматой головой по направлению к двери. Ну, чего ты сидишь-то? – спросил он спокойно. – Разве ты не слышишь, что я тебя выгоняю? У дикого кафра и чуда Африки нет ничего общего с цивилизованной собакой. Уходи же! – добавил он совсем тихо.
Жмуркин развязно пошел из комнаты. Впрочем, на пороге он остановился и с побледневшим лицом оглянулся на Безутешного.
– Вот вы с-сами-то, – зацедил он сквозь зубы с выражением гнева и презрения, – сами-то с-скушали все з-зубки-то, вот вам и досадно!
Он скрылся, шумно хлопнув дверью.
– Мне не верят, – заговорил Безутешный после ухода Жмуркина, задумчиво и как бы рассуждая сам с собой. – Не верят, ибо аз есмь пьяница. Погибший человек. Чиновник особых приключений по министерству утаптыванья дорог. Спиридон Безутешный! – Он снова помолчал, задумчиво покачивая гривой и чмокая губами. – Пришел Иоанн – не поверили, – заговорил он снова с грустью. – Пришел Сын человеческий, – и Ему не поверили. Ур-роды! – добавил он злобно. – Он тихо встал и пошел в кухню. – Флегонт, – сказал он там, – свободного созерцателя жизни тошнить стало от сих прекрасных мест. Так вот не устроить ли нам с тобою сегодня маленький фестиваль? А? Как ты полагаешь? Но только без Жмуркина, – добавил он.
– Это еще что за птица фестиваль? – спросил Флегонт.
– А так фестиваль – водкупопиваль!
– Фестиваль – водкупопиваль? – переспросил Флегонт с восторгом. – Непременно! Умница Спиридон Павлыч! – выкрикивал он. – Фестиваль – водкупопиваль? Непременно! Сегодня же вечером! Гений Спиридон Павлыч! – А у меня сегодня, Спиридон Павлыч, – вдруг заговорил он, меняя свой восторженный тон на дружелюбно-ласковый и вместе с тем деловито-серьезный, – а у меня сегодня – вы слышали? – «Персидский марш» совсем не удавался. И кто его знает, вот этот вот палец мешал! Ведь вы знаете, я к «Утопленнику» «Персидский марш» присоединяю на случай мелкого битва? А то жестковато выходит!
А Жмуркин ровно в девять часов вечера проник в старую теплицу. Когда он зажег на столе свечу, он увидел Лидию Алексеевну быстро поднявшуюся с тахты. Ее лицо было бледно и словно озабочено чем-то.
– Я вот собственно зачем вас сюда вызвала, – заговорила она, не поднимая глаз и беспокойно теребя кружево рукава. – Вот зачем...
– Зачем-с?
– Не знаете ли вы, когда приедет Максим Сергеич?
– Макс? – переспросил Жмуркин насмешливо. – Макс приедет 15-го. Сего месяца, конечно.
– Это уж наверное?
– Совершенно точно-с. Телеграмма делового характера от них мне-с была. То есть от Макса. – Он усмехнулся. – 15-го, это уж совершенно точно-с, – повторил он.
Он пристально глядел на Лидию Алексеевну и ее волнение и беспокойство точно доставляли ему удовольствие.
– Так вот я хотела вас просить, – заговорила Лидия Алексеевна с беспомощным выражением, – не отложите ли вы окончательный ответ до 14-го? Видите ли, – она вся всколыхнулась, – я в вашей власти, но мне хотелось бы приучить себя к этой мысли. Немножко привыкнуть к ней. Освоиться... Видите ли, ведь я в вашей власти, – беспорядочно шептала она, – что же вам стоит? Не можете ли вы отложить до 14-го?
– Хорошо-с, – отвечал Жмуркин, несколько подумав.
– Благодарю вас, – прошептала Лидия Алексеевна, снова вся точно всколыхнувшись. – А чем вы можете засвидетельствовать перед Елисеем Аркадьевичем относительно нас? – вдруг спросила она, беспокойно потупляя глаза.
– Относительно вас с Максом? – переспросил Жмуркин. – А вот чем-с! – Он вынул из бокового кармана пиджака свою записную книжку и повертел ею перед глазами Лидии Алексеевны. – Вот этим самым! – добавил он, снова пряча книжку в карман. – Тут все по числам записано, – так не лгут-с! Дозвольте вас спросить, – вдруг переменил он тон: – целовались ли вы с Максом 14-го июня, на пророка Елисея, в комнатке возле буфета-с? Что же вы молчите-с? А второго числа того же месяца – у ограды сада в ихней усадьбе? А хотите ли я скажу вам, в каком вы платье сюда к Максу бегали-с? Хотите-с? Вот то-то и есть! Так не лгут. Вам не вывернуться! – добавил он и рассмеялся с злобным мучением на лице. – Не вывернетесь! – повторил он.
– Я это знаю, – зашептала Лидия Алексеевна, – я в вашей власти. И я хочу только, привыкнуть. Я знаю!
– И я вам эту отсрочку даю-с, – проговорил Жмуркин. – До 14-го-с!
Он подошел к двери и широко распахнул ее.
– Пожалте-с, когда так! Что же выстоите? До четырнадцатого-с, если уже на то пошло, будьте любезны!
Лидия Алексеевна быстро прошла мимо него, потупив глаза.
XX
Однако, этот расчет оказался не совсем верен, и Жмуркина поджидало некоторое разочарование. 14-го июля утром, совершенно неожиданно, в усадьбу возвратился Максим Сергеич Загорелов. Возвратился он счастливый, довольный и весь словно сияющий, так как поездка для него казалась вполне удачной, и все свои дела он обделал лучше и быстрее, чем рассчитывал. Вся усадьба снова увидела его красивую и сильную фигуру, с резкими и смелыми жестами, с звонким и решительным голосом. И тотчас же после своего приезда он с головой окунулся в дела, словно стосковавшись по ним, как по любимой женщине. Его видели в полях, где уже шла уборка, и на гумнах, и на скотном дворе, и на мельнице, у крутящихся снастей, и в лесу – намечающим будущие порубки и будущие насаждения. Он точно связывал собою воедино все работы в полях и лесах, на гумнах и на мельнице и как бы являлся душою какого-то громадного организма, какого-то сказочного чудовища, распростертого на берегах Студеной, обросшего зеленой щетиной лесов и золотистым пером злаков, мирно греющего горбатую спину своих холмов в свете безоблачных дней и жадно ревевшего у мельницы. И он являлся везде счастливый и довольный, окидывавший все свои начинания уверенным взором удачника. А Жмуркину неожиданный приезд Загорелова принес с собою некоторое разочарование, отодвинув самый решительный момент в его намерениях на неопределенное время. Жмуркин, конечно, был уверен, что его план нисколько не пострадал от этого в самой своей сути, так как Лидия Алексеевна по-прежнему находилась в полной его власти. Однако, он сознавал, что добиться свидания с нею теперь много труднее, и это раздражало и сердило его несколько. В то же время этот неожиданный приезд пробудил в нем и еще какое-то не вполне определенное для него чувство, мучительное и беспокойное, пронизывавшее его порою острою болью. Что это было за чувство и о чем оно напоминало ему, он долго не мог определить себе с достаточной ясностью; но каждый раз при его появлении в себе он беспокойно оглядывался на свой план, точно желая проверить, действительно ли он так неуязвим, как это казалось ему раньше. И каждый раз после самой тщательной проверки он убеждался лишь в строгой выдержанности этого своего плана и пытался успокоить себя, насколько мог.
Между тем Загорелов возобновил свои свидания с Лидией Алексеевной там, в старой теплице, как всегда. И теперь он находил в ней перемену. Она казалась ему грустной, точно чем-то озабоченной, как будто чем-то напуганной. При каждом малейшем шорохе она беспокойно вскакивала, тревожно озиралась, испуганно повторяла:
– Кто-то идет! К нам кто-то идет!
– Что с тобой, Лида? – спрашивал ее Загорелов, с участием заглядывая в ее глаза, в которых мерцал испуг.
– Я боюсь, – повторяла она, в испуге прижимаясь к нему, так что он чувствовал удары ее всполошившегося сердца. – Я боюсь, я очень боюсь, Максим!
– Чего?
– А вдруг кто узнает про нас? О нашей любви, о наших свиданьях вот здесь?
– Этого быть не может, – говорил Загорелов.
– Ну, а вдруг? Вдруг? – твердила она с тоскою, готовая расплакаться.
– Этого быть не может, – повторял Загорелов самоуверенно и упрямо.
Постоянные удачи точно ослепили его, и он не хотел верить, что и его может постичь несчастие, незадача, катастрофа.
– Я осторожен, – говорил он ей успокоительно, – кто же может узнать? У тебя это нервы; возьми себя в руки и верь мне. Разве ты не веришь мне, моему уменью, моей находчивости? Верь же мне, моя радость!
Он целовал ее и приходил к себе домой веселый и самоуверенный, как всегда, с беспечной улыбкой и звонким хохотом.
А Лидия Алексеевна, каждый раз, как ей нужно было войти в кабинет к мужу, мысленно крестила себя и шептала:
– Господи, защити меня, поганую! Господи, защити и укрой!
И она переступала каждый раз порог кабинета, как ступень эшафота. Каждый день приносил ей новые терзания, и часто Анфиса Аркадьевна заставала ее в слезах где-нибудь в скрытом местечке сада.
Как-то в одну из таких минут та спросила ее:
– Ты о чем, голуба? Скажи мне, может быть, и у тебя есть свой Лафре? Не бойся, я ведь тебя, голуба, не выдам, а научу. Ведь ему, – добавила она шепотом, – этому подлецу, моему родному братцу, так того и надо. Сам добивался этого, – ну, так и получай, рябая форма!
– Никого у меня нет, – отвечала ей Лидия Алексеевна печально.
И, поспешно утирая слезы, она думала о Загорелове:
«Никому я тебя не выдам, никогда и ни за что, а лучше уж сама на себе все перенесу!»
Мысль, что когда-нибудь ей придется увидеть этого человека избитого, искалеченного и изуродованного наемниками ее мужа, не давала ей покоя, сопровождала ее на прогулках, всюду, томила ее во сне, как тяжелый кошмар. Подавленная этой мыслью, она сама стала искать свидания с Жмуркиным, и однажды она встретила его по дороге между усадьбами. Он молча и почтительно поклонился ей, а она вдруг прошла на берег и стала глядеть на воды, вся обеспокоившись. Он понял, что она хочет с ним говорить, и остановился в той же позе в двух саженях от нее. Они оба производили впечатление людей, любующихся рекою.
– Послушайте! – заговорила Лидия Алексеевна после долгого молчания, не оборачиваясь к Жмуркину. – Вам меня слышно?
– Слышно-с.
– Послушайте: не думайте, что я хитрю и лукавлю с вами. Вы видите, как все это неожиданно вышло для меня? – Она говорила с мольбою в голосе, точно заискивая перед этим человеком.
– Вижу-с, – отвечал тот.
– Вы верите, что я в вашей власти, и мне не уйти никогда, никуда?
– Верю-с.
Они переговаривались все так же, не глядя друг на друга, оба бледные.
– Так вот, все будет так, как я сказала, – говорила Лидия Алексеевна, не отрывая глаз от сверкающей поверхности Студеной, и было видно, как вздрагивала ее рука, придерживавшая сбоку юбку. – Все будет так, – говорила она, – и вы верьте этому и не губите нас. Как только он куда-нибудь уедет, Максим Сергеич, – пояснила она чуть слышно и замолчала, точно будучи не в силах вытянуть из себя более ни единого звука.
Он словно понял это и сказал:
– Хорошо-с. Будем-с ждать! Вы меня ненавидите? – вдруг спросил он.
– Да, – отвечала она.
– Что же делать-с! – прошептал он. – Благодарим-с и на этом!
Его лицо выразило на минуту мучение, точно оттуда внезапно выглянул кто-то другой. А потом это лицо снова застыло в выражении холодной решительности.
– Что же делать-с, что же делать-с! – шептал он холодно. – И все-таки вам не уйти.
– Стыдно вам! – проговорила она и пошла, но уже не в усадьбу Загореловых, куда она было направлялась, а обратно домой.
Ей было бы тяжко увидеть сейчас Максима Сергеича. А вскоре и совершенно неожиданно ее осенила новая идея, точно указавшая ей путь спасения. Перед ней словно раскрыли дверь. Она сразу оживилась, воспрянула духом, повеселела, как ребенок, выпущенный на свет из темной комнаты, населенной всяческими ужасами.
«Неужели же я спасусь? – думала она в беспечной радости. – Неужели же? Неужели же? Господи, за что Ты так милостив ко мне, недостойной!»
В первое же свое свидание с Загореловым она спросила его:
– Максим, ты меня любишь?
– Люблю, – отвечал тот. – Разве же ты можешь сомневаться в этом? Конечно, люблю. Люблю, люблю! – повторил он весело.
– Я хочу попросить у тебя некоторой жертвы, – снова заговорила Лидия Алексеевна. – Способен ты ради меня на жертву? – Она придвинулась к нему, ласково перебирая крутые завитки его рыжих волос. – Способен ты ради меня на жертву? – повторяла она с выражением ласки во всей фигуре.
– На жертву? – переспросил тот, на минуту задумываясь. – Тебе нужны деньги? – спросил он ее вдруг. – Если так, я могу дать тебе хоть сейчас три тысячи. Или две, – добавил он тотчас же. Он весело рассмеялся, счастливый сованием, что он может выдать такой, куш, не моргнув бровью.
– Не денег я прошу у тебя, а жертвы, – сказала Лидия Алексеевна, чувствуя сердцем беду; ей казалось, что раскрывшуюся было перед ней дверь снова начали тихонько затворять.
– Жертвы? – повторил Загорелов, задумываясь. Он как будто плохо разбирался в этом слове. – На безрассудство я не способен, – наконец сказал он, – а на жертву – не знаю. – Он пожал плечами. – Вот если ты потребуешь от меня, – пояснил он, – чтобы я остался бос и наг и переселился бы с тобою в аркадский шалаш, – на это я не способен.
– Нет ты можешь оставаться богатыми – сказала она, – но сделай для меня вот что: продай все имущество и бежим с тобою. Я люблю тебя, и мне надоело сидеть по уши в обмане. Убежим с тобою! – повторяла она, заглядывая в его глаза с выражением мольбы.
– Куда?
– За границу, в Америку, куда-нибудь! – Она вся прижалась к нему с внезапной надеждой в сердце.
Грустно-озабоченное выражение его лица точно оживило ее. Между тем он долго сидел в задумчивости и молчал. В нем как бы шла некоторая ломка. Она застыла рядом с ним в беспокойном ожидании, придерживая его руку в своих, точно желая передать ему всю свою решительность.
– Нет, я этого не могу сделать, – наконец проговорил он, как бы очнувшись. – Ты знаешь, я не могу жить без дела, а что я буду делать там, в этой Америке? Я боюсь очутиться там в положении клюквы, пересаженной на экватор. И потом, чего ты боишься?
Он заговорил все на ту же тему, пытаясь убедить ее, что бояться им нечего, что никакая нелепая неожиданность не может обрушиться на их головы, раз они умны и осторожны.
Она не могла переломить и одолеть его, и по дороге домой она печально думала о нем: «самоуверен, как мальчик».
В саду она увидела Анфису Аркадьевну и подошла к ней. Та со вниманием читала книгу, шевеля мясистыми губами.
– Ты что же это, голуба, говорила мне, что этого самого Лафре убили? – сказала она. – А он здоровехонек! Вот видишь, – она повела пальцем по странице, – вот видишь! «Ха-ха-ха, засмеялся капитан Лафре»... – прочла она по слогам.
– Лафреньер, – договорила за нее Лидия Алексеевна и замкнутым голосом она добавила: – Его убивают в пятнадцатой главе, а это четырнадцатая.
– Ах, и то правда! – спохватилась Анфиса Аркадьевна. – А я грешным делом перепутала. Я ведь римскую-то цифирь только до двенадцати знаю!
Она замолчала. Лидия Алексеевна внезапно положила ей на плечи обе руки.
– Сестрица, – сказала она жалобно, – вы спрашивали меня, есть ли и у меня Лафре. И знаете что? Скоро у меня их два будет!
Она припала к ней.
– Ну, будет, будет, голуба! – зашептала Анонса Аркадьевна, прижимая ее к себе. – И если я тебя этим самым поганым Лафре обидела, прости ты меня, глупую! Ну, будет, будет, будет!
XXI
Прошла неделя. Был вечер, и потускневшая поверхность Студеной дымилась паром. Жмуркин беспокойно слонялся по берегу, тревожно прислушиваясь к мучительному чувству, пронизывавшему его сердце острою болью. Это чувство точно предостерегало его в чем-то, и, озираясь по своему обыкновению на свой план, он с недоумением думал:
«Чего же я беспокоюсь-то? В плане ведь все аккуратно. Все, как есть! Чего же это я?»
Он был уверен, что в этом отношении все обстоит вполне благополучно, по это сознание нисколько не утешало его теперь, а лишь повергало в недоумение еще большее, и он говорил себе:
«А если все обстоит благополучно, так чего же я волнуюсь? Стало быть не все благополучно, а только я не вижу бреши!»
– Разве же этого не может быть? – спрашивал он себя и уже вслух, разводя руками, бледный и взволнованный.
Он в унынии хватался за виски и снова принимался напряжению думать все о том же, проверяя каждый малейший штрих своего плана. Он уже не думал ни об обладании тою лукавой женщиной, ни о деле своего мщения, как он любил называть свои намерения, а только о своем плане, только о нем одном, точно он заслонил перед ним весь мир, всех и все, точно он придавил его собою, как каменная груда. И внезапно ему стало ясно в то же время, что он уже давно думает только о нем одном, об этом плане, о мечте, точно для него было гораздо важнее доказать себе свою берложью правоспособность, чем осуществить свои намерения на деле.
На минуту ему стало страшно от этого сознания.
«Что же это я все об одном и том же?» – подумал он с тоскою. Он присел на берег и, поглядывая на туманившуюся поверхность реки, решился ни о чем не думать более. Однако, план вставал перед ним снова, как призрак, от которого нельзя было откреститься никакою молитвой, и, забывая свое решение, он думал снова:
«Что же в нем неладно, если так?» Он шевельнулся, разводя руками и снова уходя с головою в свои думы, нахлынувшие на него, как наводнение.
«Постойте, постойте!» – думал он, словно обращаясь к кому-то, кто мешал ему разобраться с должным вниманием в этом потоке дум. И он снова принимался за свои выкладки, шевеля губами.
«Она никому не может сказать, – думал он о Лидии Алексеевне, занятый бесконечной проверкой своего плана. – Никому не может, так как если она выдаст нашу тайну Максиму Сергеевичу, я, лишь только узнаю об этом, сейчас же иду с докладом к Елисею Аркадьевичу. Следовательно, ей нет никакой выгоды обличить меня перед Максимом Сергеевичем».
– Так-с! – проговорил он вслух, взвесив все эти соображения. – Это-с совершенно верно, – проговорил он снова. – Так-с!
«Теперь-с, – снова погрузился он в свои размышления, – ей нет никакого расчета сказать о моих притязаниях и Елисею Аркадьевичу, так как этим она опять-таки повредит тому же Максиму Сергеевичу.
– Так-с, – снова проговорил он вслух, – и это-с совершенно справедливо!
Он хотел было приподняться с берега и даже сделал уже первое движение к этому, как вдруг снова тяжело опустился, почти упал на берег, с открытым ртом и выпученными глазами. Его сознание словно прорезала молния, и внезапно он увидел в своем плане брешь во всю стену. Все его расчеты, которыми он любовался с таким самодовольством, как дурак, не стоили и полушки. Открытие это было для него так неожиданно и так шло в разрез с прежними его мечтаниями, что он не сразу поверил ему, и долго он сидел на берегу с криво раскрытым ртом и вытаращенными глазами, с диким желанием кричать: этого не может быть, не может быть! Лжете вы все!
Но, еще раз внимательно проверив свое неожиданное открытие, он прошептал:
– Это-с совершенно справедливо! Да-с!
План его не стоил ничего. Это было совершенно справедливо. Как только он не сообразил этого раньше! Следуя с точностью предначертаниям этого плана, он не приобрел решительно ничего и только самого себя запер в ужаснейшую ловушку.
– Самого себя запер! Самого себя! – повторял он потерянно. – В ловушку!
Он понуро задумался.
Существенный недостаток его плана заключался вот в чем. Приняв за его основание заповеди и ухватки берлоги, он ожидал от противников противодействий, так сказать, в человеческом духе и на этом-то строил все свои расчеты. Таким образом, его план, действительно, мог бы оказаться достаточно неуязвимым, если бы его исполнение должно было протекать, так сказать, в человеческом обществе. Но идти войною с такими соображениями в руках было бы чересчур наивно. На берложье нападение нужно ожидать и берложьих же противодействий, а при таких условиях его план не годился никуда. И теперь вот каким образом могут ответить на его нападение Лидия Алексеевна и Загорелов. Лидия Алексеевна скажет об его, Жмуркина, притязаниях Максиму Сергеичу, и, вероятно, она уже сказала ему о них, экстренно вызвав его для этого сюда, почему тот и приехал совершенно неожиданно 14-го, в день, назначенный для ее решительного ответа. Весьма вероятно, что это так произошло. Даже наверное так! А осведомленный обо всем Загорелов, конечно, не будет поднимать шума, примет самый невинный вид и постарается разделаться с ним, Жмуркиным, совершенно точно так же, как разделывается волк с собакой, напавшей на его логовище. И конечно же Загорелов будет дружески кивать Жмуркину, не подавая ни малейшего подозрения на то, что он уже осведомлен, до тех пор, пока он не сотрет его с лица земли, как гнусного червяка. А разве мало способов пригодных для этого?
«С зайцами можно обращаться по-заячьи, но с волками непременно по-волчьи!» – припомнилось Жмуркину любимое изречение Загорелова, и он понял, что тот причислит теперь его к волкам и не поцеремонится в средствах.
«Запер самого себя в ловушку!» – подумал он и снова с головой погрузился в свои размышления.
Теперь его положение было безвыходно – он это сознавал хорошо. Если сейчас он даже и скажет Быстрякову об отношениях Загорелова к Лидии Алексеевне, так все-таки это нисколько не поправит дела. Нисколько: Загорелов уже предупрежден Лидией Алексеевной и он сумеет, конечно, оградит себя от Быстрякова. На то он и Загорелов! Разве у него мало денег? Он может нанять себе хоть целую сотню телохранителей, которые будут сопровождать его всюду. А с ним, Жмуркиным, Загорелов-то все-таки разделается по-свойски!
«Сотрет, как червяка!» – подумал Жмуркин; он шевельнулся, весь отдаваясь своим думам, снова завертевшим его в своем водовороте.
Было уже поздно; Студеная сердито ворчала; косматый слой тумана покрывал всю ее поверхность, словно она обросла седою плесенью. Серп луны бежал навстречу к тучам, точно преследуемый кем-то. Деревья беспокойно шумели, кивая вершинами. А Жмуркин все сидел и думал, неподвижно уставившись в одну точку, жалкий и одинокий, как выгнанная со двора собака. Несколько дней подряд он бродил все с теми же муками, а затем ему пришло в голову, что Загорелов все-таки должен отчасти бояться Быстрякова, так как, если тот узнает его тайну, ему уже не видеть больше Лидии Алексеевны, как своих ушей. А следовательно и у него, Жмуркина, есть еще все же некоторые средства хоть сколько-нибудь оградить свою жизнь. Нужно только дать понять кое о чем Загорелову. И Жмуркин решился.
Однажды после своей работы в кабинете Загорелова, уложив уже в папку отчеты и счета, он с многозначительной улыбкой сказал ему:
– А я, Максим Сергеич, может быть, это вам известно-с, имел обыкновение дневничок вести!
– Дневник? – переспросил его Загорелов, поднимая на него самоуверенные и ясные глаза. – Это интересно.
– Дневничок, – заговорил снова Жмуркин, весь шевельнувшись с лукавым видом, – где все исключительные события записывал как своей собственной жизни, так и других прочих. Весьма любопытные события-с, – повторил он, подчеркивая каждое слово.
– Это очень хорошо, – снова одобрил его Загорелов, спокойно раскуривая сигару. – Упражняйся, братец, в стиле: это полезно.
– Там, кроме стиля, весьма много интересного есть, Максим Сергеич, – усмехнулся Жмуркин. – Весьма много-с! Вроде любовных похождений... Весьма интересно-с. – Он снова усмехнулся, нагнувшись к Загорелову.
Загорелов курил сигару и маленьким ножичком-брелоком чистил ногти. Видимо, он плохо слушал Жмуркина.
– И этот самый дневничок-с, – между тем, говорил тот, опираясь о папку руками и весь слегка перегибаясь к Загорелову, – и этот самый дневничок я в надежные руки передал. То есть, чтобы, на случай моей внезапной смерти, его передали-с одному известному вам лицу. И это уж будьте благонадежны; это так уж и будет! В случае, то есть, моей безвременной кончины. В этом даже и сомневаться-с нельзя! Будет исполнено в точности-с!
– Твое духовное завещание, что ли?.. Да, вот что! – вдруг точно спохватился Загорелов. – Ты свой последний отчет поправь, да повнимательней. У тебя там в одном месте вместо «мука ржаная» написано: «муха берложья»! Слышишь? Пожалуйста поправь! «Муха берложья!» – повторил Загорелов и расхохотался.
А Жмуркин долго глядел на него во все глаза и затем тихо пошел вон из кабинета.
«Муха берложья, – думал он по дороге. – Что же это такое? Ответ ли это его, то есть, на мою закорючку, или же просто сцепление обстоятельств?..»








