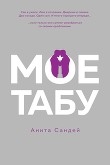Текст книги "Микельанджело"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Весь 1527 год после переворота и весь 1528 год Микельанджело был во Флоренции и понемногу работал в капелле Медичи. Когда должна была начаться осада города, Климент послал сказать художникам, работавшим на него, чтобы они ехали в Рим. Большинство беспрекословно повиновалось. Бенвенуто Челлини некоторое время упорствовал, потом выругался и поехал. Микельанджело остался. Остался защищать родной город против папы, для которого он украшал капеллу в Сан Лоренцо.
6 апреля 1529 года коллегия Десяти (Dieci della guerra), военное министерство республики, назначила Микельанджело верховным заведующим (governatore et procuratore) укреплениями города. В декрете об этом назначении есть фраза, которая показывает, что в это время Микельанджело уже работал над укреплениями как доброволец и совершенно безвозмездно. Там говорится: «…Принимая во внимание, что любовью и преданностью родине он не уступает ни одному доброму и любящему гражданину, а также памятуя о трудах, им понесенных, и об усердии, им обнаруженном в вышеупомянутом деле, вплоть до сегодняшнего дня, безвозмездно и горячо»… он назначается на эту должность. В одной анонимной хронике осады приводится и политический мотив его назначения. Рассказывая о том, что Микельанджело, кроме заведывания укреплениями, был избран в состав коллегии Девяти (Nove della milizia), ведавшей комплектованием воинских сил, автор прибавляет: «…чтобы привлечь его и сделать угодным народной партии, знавшей его, как человека Медичи» (creato dei Medici). Это был способ заставить пьяньонов и, что было еще труднее, аррабиатов признать Микельанджело своим.
Микельанджело принялся за работу немедленно и очень горячо. Его план, когда он осмотрел укрепления Флоренции, был создан сразу же. Он увидел, что основным ядром укреплений должен быть холм, где стоит церковь Сан Миниато и где теперь на месте главного бастиона Микельанджело разбита площадка, носящая его имя и украшенная бронзовой копией его грозного Давида. Но ему сразу же пришлось встретиться с противодействием. Гонфалоньер Никколо Каппони, тайный сторонник Медичи, либо близоруко, либо со злым умыслом не хотел согласиться на укрепление Сан Миниато и.выдумывал для Микельанджело поручения, связанные с отлучкой из Флоренции: в июне 1529 года он посылал его в Пизу инспектировать ее бастионы, в августе – в Феррару, чтобы ознакомиться с классическими крепостными сооружениями столицы работы Альфонсо д’Эсте, лучшего специалиста по этому делу в Италии. Без Микельанджело работа над укреплениями подвигалась плохо, а осада становилась все теснее, постепенно превращаясь в настоящую блокаду. Когда перед 15 августа Микельанджело вернулся во Флоренцию, противник, успев понять значение Сан Миниатского холма, направил на колокольню монастыря, где стояли флорентийские пушки, огонь самых сильных своих орудий. Микельанджело парализовал действие бомбардировки, спустив с выступающего вперед карниза колокольни свободно висевшие туго набитые шерстью матрацы: они обезвреживали ядра. Он лихорадочно работал над усилением фортификаций под огнем неприятеля, одетый в панцырь и шишак, и вместе со своими пушкарями мужественно выдерживал нападения противника.
Но тут произошло событие, которое до сих пор ставит в тупик его биографов. Микельанджело вдруг бежал ни города, охваченный обычной дли него странной паникой, но более сильной, чем когда-либо, очень похожей на внезапный пароксизм мании преследования. Его сопровождали Антонио Мини и двое друзей. С ним было много денег. Кондиви рассказывает: «Построив эти укрепления, Микельанджело, несмотря на угрожавшую опасность, не покидал горы Сан Миниато. После шестимесячной борьбы солдаты, защищавшие город, стали роптать и поговаривать о какой-то измене. Микельанджело, узнав об этом отчасти сам, отчасти от офицеров, своих друзей, явился к Синьории, передал все, что видел и слышал, объяснил, в какой опасности находится город, и добавил, что еще есть время и возможность помочь беде. Но вместо благодарности он услышал брань и упреки за малодушие и подозрительность. Микельанджело, видя, как мало цены придают его словам, и убедившись в том, что город будет взят, воспользовался данной ему властью, велел себе открыть одни из городских ворот и бежал с двумя преданными ему людьми по направлению к Венеции. Однако толки об измене не были басней, но тот, кто ее злоумышлял, тщательно скрывал свои намерения, желая по возможности избегнуть позорной славы и надеясь со временем достичь цели одним неисполнением своего долга и этим отняв возможность у других его исполнить. Отъезд Микельанджело вызвал сильный ропот, а правительство провозгласило его государственным преступником. Несмотря на это, флорентийцы звали его вернуться, умоляли его спасти отечество и не покидать должности, которая ему была поручена, говорили, что город совсем не находится на краю гибели, как он думает, и еще много другого. Микельанджело, склоненный уговорами влиятельных лиц, писавших ему, и любовью к отечеству, получил охранную грамоту для проезда во Флоренцию на десять дней и вернулся на родину, хотя и не без опасности, грозившей его жизни».
Факты у Кондиви рассказаны, очевидно, правильно. Но нас мотивы странного поступка Микельанджело интересуют, пожалуй, больше, чем факты. Некоторые точки опоры имеются в объяснениях самого Микельанджело, из которых одно было им дано сейчас же после событий, другое – почти двадцать лет спустя. Добравшись до Венеции, он отправил письмо своему другу, упоминавшемуся выше, Баттисте делла Палла. Он спрашивал его, присоединится ли он к нему в задуманной им поездке во Францию. И продолжал: «Я уехал, не сказав никому ни слова и в большом смятении духа (molto disordinatamente). И хотя, как вы знаете, много раз просил разрешения на эту поездку – правда, я его не получал, – я, однако, ни за что не решился бы двинуться, не увидев конца войны, если бы не был охвачен страхом. Но во вторник утром 21 сентября ко мне, за ворота Сан Никколо, где я находился на бастионах, пришел некто и шепнул на ухо, что, если я хочу остаться в живых, мне нельзя больше задерживаться в городе. Он сопровождал меня ко мне домой, закусил со мною, привел мне лошадей и не покидал меня, пока не вывел меня из Флоренции, говоря все время, что в этом мое спасение. Бог ли то был или дьявол, я не знаю».
Читая эти строки, мы узнаем нашего художника. Мы припоминаем, как он спешно покинул Болонью в 1495 году и потом рассказывал Кондиви, что некий художник, у которого он отбил заказ, грозил ему чем-то нехорошим. Мы припоминаем, как после бегства из Рима от Юлия II в 1506 году он взволнованно повествовал о том, что кто-то тоже шепнул ему, что, останься он в Риме, пришлось бы делать гробницу не папе, а ему. Такая же болезненная нервная вспышка была и здесь. А кто был этот «некто», быть может, несколько выяснится из другого письма, написанного в 1549 году не Микельанджело, а с его слов Джанбаттистою Бузини историку Бенедетто Варки, из Рима. Правда, теперь уже между эпизодом и его истолкованием лежала двадцатилетняя давность. Но память у Микельанджело была превосходная, а самый эпизод был таков, что его подробности не могли быть забыты даже через двадцать лет. Вот что пишет Бузини: «Я спросил у Микельанджело, что было причиною его отъезда. Он ответил: «Я был членом коллегии Девяти. Когда подошли наши части, а с ними Малатеста, синьор Марио Орсини и другие военачальники, представители коллегии Десяти расставили солдат по стенам и по бастионам, указали каждому начальнику его место, снабдили всех съестными и боевыми припасами. Малатесте были вверены восемь орудий, с тем чтобы он поставил к ним охранение и защищал часть бастионов холма Сан Миниато. Он их поставил не внутри бастионов, а под ними и без всякого прикрытия. Марио поступил как раз наоборот». Когда Микельанджело, как должностное лицо и архитектор, осматривал эти места у холма, он спросил у синьора Марио, почему Малатеста поставил так небрежно свою артиллерию. Тот сказал: «Ты должен знать, что он происходит из такой семьи, где нее до одного – предатели. И он тоже предаст этот город». Эти слова нагнали на Микельанджело такой страх, что он решил уехать, опасаясь, что случится недоброе с городом и, следовательно, также и с ним самим».
Сопоставляя оба рассказа, мы видим, что отъезд и тут и там мотивируется страхом, но в истолкованиях, данных немедленно после эпизода, фигурирует «некто», который в более поздних отсутствует. Зато упоминание о Малатесте Бальони, о его изменническом поведении на бастионах, об открытых разговорах о том, что он собирается предать город, объясняет, быть, может, и появление таинственного советчика. Малатеста ведь действительно готовил предательство и уже в то время вел секретные переговоры с агентами Климента. Микельанджело сообщил правительству о своих подозрениях на его счет, но его тревога была приписана всем известной нервности художника: ему не поверили. Малатеста мог догадываться, что Микельанджело что-то стало известно и, зная, что его нетрудно вывести из равновесия, подослал к нему своего человека. Отъезд Микельанджело был вдвойне ему выгоден: город лишался хорошего инженера и честного гражданина, а сам Бальони избавлялся от влиятельного недруга.
Таковы данные, которыми мы располагаем. Больше чем они нам дают, мы едва ли получим. Все остальное будет уже домыслами. Их много в литературе о Микельанджело, и научной, и беллетристической. Едва ли стоит на них останавливаться. Главное ясно. Бегство Микельанджело не налагает на него никакого пятна, ни морального, ни тем более политического. То был акт чисто болезненной мании, обычной у него. Когда приступ этой мании прошел, – это случилось уже в Венеции, – он вернулся к своему посту.
Что и правительство, – гонфалоньером уже был Франческо Кардуччи, ставленник демократии, – не смотрело на него, как на предателя, показывают мероприятия по отношению к нему. Его имя, правда, было опубликовано 30 сентября в числе тринадцати, выехавших без разрешения, с угрозою тяжких кар в случае невозвращения к определенному дню. По истечении срока, 7 октября, появилось постановление о конфискации имущества многих эмигрантов. Микельанджело в нем не фигурировал. И лишь 19 ноября вышло постановление о лишении его должности и задержке ему жалованья – он получал по дукату в день, – но и оно было отменено, ибо 20 ноября он уже был во Флоренции.
В городе он немедленно вернулся к своим обязанностям и твердо стоял на посту до того самого момента, когда истощение средств, человеческих ресурсов и предательство Малатесты вынудили Флоренцию сдаться. Это было в августе 1530 года.
Когда армия папы и императора вступила в город, начался жесточайший белый террор. Папа, успокоившийся после страхов и уже не боявшийся, что Флоренция уйдет из-под власти Медичи, в каждом письме подстегивал палачей и требовал крови. Его комиссар Баччо Валори без передышки посылал на плаху лучших людей Флоренции, не успевших бежать. Микельанджело не бежал, а скрылся в городе, в колокольне одной скромной окраинной церковки. Он боялся репрессий не только как член коллегии Девяти и начальник укреплений, героически им защищавшихся до конца, но и потому еще, что Малатеста Бальони, при своем первом появлении кричавший о том, что Флоренция – не стойло для мулов, распустил про него слух, что он предлагал снести дворец Медичи и назвать площадь на его месте площадью Мулов. Микельанджело скрывался до тех пор, пока ярость папы не улеглась и он не насытился кровью своих сограждан. Он дождался, когда папа сам вспомнит о своем художнике. Такое время пришло. Папа приказал найти Микельанджело и, если он согласится продолжать работу в капелле Медичи, освободить от всякой ответственности и обращаться с ним с должным уважением. Услышав об этом, Микельанджело покинул свое убежище и вернулся к статуям в капелле «больше из страха перед папою, чем из любви к Медичи», как говорит Кондиви. Ему вновь стали выплачивать его пенсию в пятьдесят дукатов.
Гений Микельанджело спас его и от плахи во Флоренции и от каменных мешков в Пизе. Микельанджело с честью исполнил долг гражданина, защищая свой родной город. В последней борьбе Флорентийской республики за свободу и независимость он оказался не в стане ее врагов, где собрались почти все оптиматы и почти вся знать. Он остался в рядах народа, в его ополчении, на бастионах, гордо возвышавшихся у подножия церкви Сан Миниато, о которые враг обломал себе зубы и которые сдала врагу только измена главнокомандующего. Он забыл и о своих землях, и о прабабушке-императрице, и о родстве с графами Каносса. Он чувствовал себя флорентийским пополаном, плотью от плоти и кровью от крови своего народа, одного из талантливейших в Европе, кузнеца лучших творений Ренессанса, борца и мученика за свободу. После того как он оплакал свою родину в трагических образах Сикстинского плафона, он возжаждал чести – стать на защиту ее свободы с оружием в руках, с тем чтобы потом, в мраморах капеллы, носящей имя тиранов Флоренции, дерзко пропеть последнюю, лебединую песнь ее свободе, еще более трагическую, чем пророки, сивиллы и фигуры в люнетах Систины.
Этими тремя моментами определяется полнее всего и лучше всего политическая настроенность Микельанджело. В них гражданин Микельанджело сказался целиком.
Работы во Флоренции. Переезд в РимЕще гремели пушки вокруг флорентийских стен, и Микельанджело целыми днями не докидал своего поста на бастионах у подножия церкви Сан Миниато, любуясь панорамой, превратившейся в боевой лагерь Флоренции и ее чудесных окрестностей, пестревших шатрами неприятельских войск, – а рука его уже невольно тянулась то к кисти, то к резцу. Вазари рассказывает, что среди тяжелых своих обязанностей художник успевал, потихоньку от окружающих, поработать резцом: над статуями капеллы Медичи. Потихоньку, потому что открыто ваять памятники родичам свирепствующего против города папы, конечно, было нельзя. Но и противиться своим творческим порывам Микельанджело тоже не мог. Но не только мраморы капеллы притягивали его к себе. Одновременно с «Ночью» он писал на деревянной доске живописную сестру «Ночи» «Леду». Почему именно Леду? Как могли вдохновить художника грохот артиллерийских залпов и трескотня мушкетов на создание этого чувственного образа – прекрасная женщина в истоме страсти сжимает в объятиях огромного лебедя и целует его в клюв? Едва ли и сам Микельанджело мог бы ответить на этот вопрос.
Быть может, теперь, много лет спустя после богатырского соревнования с Леонардо да Винчи, когда великого конкурента уже десять лет как не было в живых, Микельанджело нашел в себе спокойное, не смущаемое ревностью настроение, чтобы рискнуть взяться за леонардовский мотив. Быть может, он давно таил этот сюжет из опасения впасть в подражание и только теперь, когда так мощно утвердилась в нем вера в свое мастерство, решил осуществить старый замысел, Леда во всяком случае еще раз подтверждает, что у него с Леонардо было и много точек соприкосновения.
Непосредственным поводом создания Леды было данное им Альфонсо д’Эсте обещание.
В первое свое посещение Феррары в августе 1529 года, когда Альфонсо чрезвычайно любезно показал Микельанджело все секреты своих укреплений и сам водил его по стенам, он попросил прославленного художника подарить ему какую-либо из его работ на память. Отказать было невозможно, тем более, что и во второй визит Микельанджело в Феррару – во время злополучного бегства – Альфонсо был столь же к нему предупредителен и любезен.
Историю картины рассказывают почти в одинаковых выражениях Кондиви и Вазари. Вот рассказ последнего. «В это время прислал к Микельанджело герцог феррарский Альфонсо одного из своих придворных, узнав, что тот собственноручно сделал для него нечто редкостное, и не желая упустить такую драгоценность. Этот придворный прибыл во Флоренцию, нашел Микельанджело и представил доверительные письма от герцога; Микельанджело оказал ему хороший прием и показал ему написанную им Леду, обнимающую лебедя; Кастор и Поллукс, вылупляющиеся из яйца, были также на этой большой картине, очень тонко написанной темперой. Герцогский посланный, судя по славе Микельанджело, ожидал от него какого-нибудь величественного произведения, а мастерства и высоких достоинств этой фигуры он не понял. «Только и всего!» воскликнул он, разглядев картину. Микельанджело спросил, какова его профессия, зная, что лучше всего оценит тот, кто сам достаточно опытен в соответствующем ремесле. Дворянин насмешливо ответил: «Я купец», думая, что Микельанджело не признал его за дворянина, желая досмеяться над подобным вопросом и показывая; в то же время презрение к хозяйственным занятиям флорентийцев. Микельанджело, отлично понявший, зачем он так говорит, сказал тогда: «На этот раз сделаете вы плохую сделку для своего государя. Убирайтесь вон». Так как ученик его, Антонио Мини, у которого было две сестры на выданье, попросил тогда эту картину у него, он охотно ему подарил вместе с большей частью своих рисунков и картонов, произведений божественных.
Мини увез картину и все подаренные ему рисунки и картоны Микельанджело во Францию. Картину оттягал у него очень неблаговидным способом какой-то его приятель, продавший ее потом королю Франциску. Она еще находилась в Фонтенебло в момент вступления на престол Людовика XIII (1610), но потом была варварски сожжена за непристойный сюжет по приказу матери короля, Марии Медичи, надеявшейся, по-видимому, этим путем замолить собственное распутство. Картон вернулся во Флоренцию и был позднее приобретен англичанами. Он находится сейчас в Лондонской королевской академии. По разным галереям Европы имеются четыре копии с картины, а в Национальном музее во Флоренции – ее мраморная реплика, принадлежащая Амманати.
Вскоре после окончания осады Микельанджело сделал и еще одну вещь. Это была небольшая статуя, которую раньше называли «Аполлоном», а теперь чаще зовут «Давидом», хотя сюжет не оправдывает вполне ни того, ни другого названия. Микельанджело подарил ее Баччо Валори, чтобы расположить к себе свирепого папского проконсула. Она не вполне доведена до конца и изображает юношу, как бы вынимающего левой рукой стрелу из предполагаемого за плечами колчана. Мастерски выдержанный контрапост – правая согнутая нога, стоящая на каком-то круглом предмете, выдвинута вперед, правая рука отведена назад, торс чуть повернут вправо, а голова очень сильно влево – дает удивительное впечатление движения.
Однако и «Леда» и «Аполлон-Давид» были только эпизодами. Главные силы до конца 1533 года Микельанджело отдавал фигурам капеллы Медичи. Но и тут ему мешали без конца и всякими способами. Больше всего портили ему кровь те же несносные, надоевшие, нераспутывавшиеся отношения с наследниками папы Юлия. Так как Клименту хотелось, чтобы Микельанджело поскорее закончил работы в капелле Медичи, он лично взялся еще раз наладить новое соглашение с наследниками Юлия, с тем чтобы художник сидел во Флоренции и работал. А тому хотелось приехать в Рим и самому принять участие в переговорах. Это ему удалось только в апреле 1532 года, да и то ненадолго. Микельанджело приезжал в Рим впервые после смерти папы Льва. В переговорах он участие принял, но подписан был новый договор уже без него: он вернулся во Флоренцию. Согласно этому договору, памятник должен был быть построен в церкви Сан Пьетро ин Винколи, титулярной церкви папы Юлия в бытность его кардиналом, и заключать в себе шесть статуй, сделанных Микельанджело лично. Ему определенно оговаривалось право жить по два месяца в году в течение трех лет в Риме и работать над памятником Юлию.
Микельанджело хотелось если не совсем переселиться в Рим, то, во всяком случае, пожить там гораздо дольше, работая над любимым произведением своих молодых лет. Во Флоренции оставаться ему не хотелось. На это у художника были свои причины. Кондиви повествует: «Микельанджело жил в великом страхе, так как герцог Алессандро, жестокий и мстительный молодой человек, сильно ненавидел его. Нет никакого сомнения в том, что если бы не страх перед папой, то он не пощадил бы Микельанджело. Тем более, что однажды Алессандро, желая построить крепость, – она действительно была построена позднее, – приказал ему через синьора Вителли поехать с ним верхом, чтобы на месте решить вопрос, где лучше всего строить эту крепость; Микельанджело отказался и сказал, что он не получал на этот счет приказаний от папы Климента. Этот поступок привел герцога в ярость, и Микельанджело как по этому случаю, так и по старому его недоброжелательству и по характеру герцога имел причину опасаться за свою жизнь. К его счастью, папа Климент вызвал его в Рим прежде, чем он успел докончить гробницу, и было истинным господним произволением, что ко времени смерти Климента Микельанджело не было во Флоренции».
Герцог Алессандро Медичи, незаконный сын папы Климента или Лоренцо Урбинского от какой-то негритянской невольницы, передавшей ему толстые вывернутые губы и мелкокурчавые черные волосы, был разнузданный тиран, и от него можно было ждать чего угодно, тем более такому мнительному человеку, как Микельанджело, которому всюду чудились покушения. Но случай с отказом ехать на разведку места для крепости вывел Алессандро из себя не просто потому, что Микельанджело не поехал, а потому, что художник ясно показал свое нежелание помогать ему в такой постройке, которая должна была стать твердыней деспотизма. И действительно, мог ли защитник Флоренции против Медичи, громивший их войска со стен города, советовать надменному и развратному властителю, как лучше соорудить опору медичейского самовластия против возможных выступлений народа? В этот момент Микельанджело нашел настоящий тон и забыл все свои страхи. Зато потом они вернулись, и его потянуло в Рим.
Микельанджело вновь прибыл в Рим в августе того же 1532 года и пробыл там всю зиму, а также первые пять месяцев следующего года. Теперь его посещения Вечного города становятся чаще. Он делит время между Римом и Флоренцией. А 20 сентября 1534 года он покинул Флоренцию окончательно, чтобы навсегда поселиться в Риме. На это у него было много причин.
Прежде всего, не осталось никого из родни, кого бы любил Микельанджело. Из братьев ему был близок, только Буонаррото. Джовансимоне и Джисмондо стали ему совсем чужими. Он очень мало писал им, и они не очень к нему приставали, довольные тем, что имели от него: у этих потребности были скромные. Буонаррото был культурным человеком, занимал в разное время видные должности в городе и обхаживал брата очень усердно. В этом деле он проявлял великий талант, который приносил ему изрядные выгоды. Он один из всех братьев был женат и имел детей. Его сын Лионардо был единственным представителем рода Буонарроти Симони, что, как мы знаем, в глазах Микельанджело имело большое значение. Поэтому Микельанджело очень деятельно поддерживал связь с Буонаррото и помогал ему очень щедро, хотя на взгляд Буонаррото недостаточно. В 1528 году Буонаррото умер от чумы на руках у Микельанджело, самоотверженно за ним ухаживавшего. Великий художник горько его оплакивал, сейчас же отдал дочь его на воспитание в монастырь и позаботился, чтобы вдова с девятилетним Лионардо не нуждались ни в чем.
Отца своего Микельанджело отправил в Пизу при самом начале осады. Старик пробыл там все время, пока была какая-нибудь опасность. Потом он жил больше в Сеттиньяно, в одном из имений Микельанджело, и умер там в 1534 году, перевалив за девяносто, «сытый годами». У Лодовико характер был не из приятных, особенно к старости. Он был капризен, ворчлив, требователен, своенравен. Но Микельанджело нежно его любил. Когда отец умер, он проводил его трогательной поэмой.
Близких друзей у художника не было: известное всем неприязненное отношение к нему сумасбродного герцога Алессандро предостерегало от слишком открытого проявления дружеских чувств со стороны кого бы то ни было. Зато в Риме у него завязывались дружеские связи, которыми он очень дорожил.
В числе людей, к которым Микельанджело почувствовал особую симпатию, был молодой дворянин Томмазо Кавальери. Он вскоре стал самым любимым его другом. Вазари рассказывает: «Бесконечно больше всех любил он мессера Томмазо деи Кавальери, римского дворянина, который был юн и очень склонен к искусствам, и вот Микельанджело, чтобы учился тот рисовать, сделал для него много изумительных рисунков красным и черным карандашом с изображением божественных ликов, потом нарисовал ему Ганимеда, похищаемого на небо птицей Зевсовой, Тития, у которого коршун пожирает сердце, падение в По колесницы Солнца с Фаэтоном и вакханалию путтов. Каждый из этих рисунков – произведение редкостное, подобных им никогда не найти. Изобразил Микельанджело мессера Томмазо на картоне в натуральную величину; ни прежде, ни после того портретов он не делал, ибо ужасала его мысль срисовывать живого человека, если он не обладает необычайной красотой».
Чувство, которое Микельанджело питал к Томмазо, было больше, чем дружба. Это была нежная и пылкая привязанность, совершенно чистая, не имевшая никакого двусмысленного характера, на который намекало известное гаденькое письмо Пьетро Аретино, пытавшегося выклянчить у великого художника хорошую вещицу. Микельанджело не только делал для Томмазо рисунки. Он посвящал ему сонеты, проникнутые таким искренним чувством, что первый издатель его заменял во избежание излишних толков горячие слова словами попрохладнее. А письма, которые Микельанджело писал Кавальери, были полны таких пламенных изъявлений, что повергали скромного, по-видимому, юношу в великое смущение: оно чувствуется в его ответных посланиях. Во всяком случае, отношения между художником и Томмазо не омрачались никогда и ничем. Томмазо почитал в Микельанджело старшего друга, учителя и гениального мастера. Под его руководством он сумел развить свое скромное, но изящное дарование и занять в римском артистическом мире очень заметное положение. Тридцатилетней дружбе положила конец только смерть Микельанджело. Томмазо нежно ухаживал за ним во время его последней болезни, закрыл ему глаза и принял меры к охране его имущества до прибытия законного наследника. Когда ему было поручено довести до конца одно из многочисленных художественных начинаний, возложенных на Микельанджело, архитектурное оформление Капитолия, он отдался ему целиком, бережно и благоговейно осуществляя планы своего великого друга.
Кавальери был первым и самым любимым из римских друзей. Но не единственным. Во время наездов в 1532 и 1533 годах у Микельанджело завязались или возобновились тесные отношения с флорентийскими кардиналами Ридольфи и Сальвиати, очень его почитавшими, с папским придворным Бартоломмео Анджелини и со старым приятелем, художником Себастьяно дель Пьомбо. Отношения были очень сердечные. Друзья присматривали все время за домом, подаренным Микельанджело Юлием II и удержанном вопреки всем натискам папских наследников. Присматривали, конечно, не очень заботливо. Мы то и дело узнаем, что и крыша течет, и полы разваливаются, и сад в запустении, но все-таки какой-то глаз за домом был. А ведь в доме помещалась мастерская Микельанджело, где вместе с другими готовыми и полуготовыми вещами стояли «Моисей» и два «Пленника».
Дом – небольшая усадебка с садом и виноградником – был одноэтажный, с башенкой, крыт черепицею. Стоял он на Мачелло деи Корви, недалеко от Капитолия, близ палаццо Венеция. Теперь он давно снесен, и на его месте возвышается пышный и безвкусный памятник королю эпохи воссоединения Италии Виктору-Эммануилу, поглотивший целые кварталы таких усадеб. После первой поездки Микельанджело в Рим, когда в доме был, по-видимому, произведен некоторый ремонт, Анджелини стал присматривать за ним несколько внимательнее и часто сообщал другу во Флоренцию о том, что делается в его владениях, 12 июля 1533 года он писал ему: «Ваш дом все время караулится по ночам, и я постоянно туда наведываюсь днем. Куры и мессер петух в блестящем состоянии, а кошки очень жалуются, что вы не едете, хотя корма им хватает с избытком». 23 июля: «Ваш дом со всеми зверями и сад ваш благополучны, как всегда, и все ждут вас с нетерпением». 2 августа: «В вашем доме все неизменно благополучно. Мускателло почти поспел, и, когда он станет совсем хорош, я пошлю их доли мессеру Томмазо и фра Бастиано, если только не сожрут его галки, которые уже начали это делать. Ведут они себя совершенно непозволительно, и я пробую справиться с ними при помощи пугал. Я о вас вспоминаю постоянно».
Эти дружеские связи делали пребывание в Риме чрезвычайно приятным для Микельанджело и успокаивали его насчет судьбы его мастерской во время отлучек. Друзья были очень полезны и в деловом смысле. Близкие к папскому двору, они помогали художнику, без всяких просьб, в его делах, особенно в улаживании спорных вопросов с наследниками Юлия II, что было для него очень важно.
Уже в конце 1533 года, соображая, какие работы ему предстоят в Риме и во Флоренции, Микельанджело должен был все более и более решительно склоняться к мысли о переселении в Рим. Что у него оставалось во Флоренции? Капелла Медичи была готова, и при расстановке в ней статуй личной его работы требовалось немного. Были более или менее закончены оба саркофага, каждый с тремя фигурами, и мадонна с младенцем. Подручные художники Монторсоли, Монтелупо, Триболо, Солисмео заканчивали статуи Козьмы и Дамиана, а также внутреннюю архитектурную и скульптурную отделку. Все так или иначе отвечало его замыслам, и капелла переставала возбуждать в нем творческий жар. Библиотека – знаменитая с тех пор Лауренцианская библиотека, которой суждено было стать хранилищем величайшего рукописного богатства, собранного трудами Козимо, Пьеро, Лореицо, Льва X и самого Климента, – уже стояла под крышей и нуждалась только во внутренней архитектурной отделке и в меблировке. В августе 1533 года Микельанджело уже сдал рисунки для скамей, дверей и первый набросок лестницы. Он считал, что большего он и не обязан для нее делать. То, что в его мастерской имелось готовым из фигур для памятника Юлию, согласно последнему договору, предстояло отправить в Рим. Все, что при сокращении масштаба надгробия уже не могло в него вместиться, было роздано друзьям. Флорентийская его мастерская скоро должна была опустеть.
С другой стороны, в Риме, в церкви Сан Пьетро ин Винколи, уже в августе 1533 года были подготовлены для памятника Юлию стена, фундамент и свод. Подручные мастера и тут уже трудились над обрамлением и второстепенными статуями, и сам он с апреля по октябрь того же года ни над чем, кроме фигур этого памятника, не работал. Теперь захватили его именно фигуры, и только они возбуждали в нем творческий экстаз. В октябре все того же года папа повел с Микельанджело разговор о том, чтобы тот взялся написать на алтарной стене Сикстинской капеллы фреску Страшного суда. Микельанджело – что ему было делать? – согласился и очень скоро стал уверять папу, что уже делает эскизы, хотя на самом деле не отрывался от фигур для юлиева памятника.