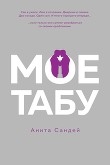Текст книги "Микельанджело"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Микельанджело начал работу над Сикстинским плафоном в мае 1508-го и закончил в октябре 1512 года. C перерывами он просидел на своих подмостках без малого четыре с половиною года. Кроме ведра с известкой, большого деревянного утюга для разглаживания стены, красок и кистей, у него ничего не было под рукою, быть может, только библия и Данте. Читать ему было некогда. Он мог только думать, перенося контуры и краски с картонов на стену. А думать ему пришлось много. И он не мог не отозваться на совершавшиеся в Италии события, раз в руке его была кисть, а перед ним гладкая поверхность, которой он мог передать плоды своих дум.
Что же он видел кругом? О чем слышал? Какие до него доносились вести? Именно в эти тревожные годы развертывалась великая трагедия итальянской земли. После того как прямым результатом походов Карла VIII и Людовика XII оказалась оккупация юга Италии испанцами, а миланского герцогства французами, свирепая грызня между обоими державами уже не прекращалась. Наоборот, она все больше и больше вовлекала в свои кровавые перипетии остальные итальянские государства и непрерывно обостряла их местные противоречия.
Папа Юлий был не такой человек, чтобы остаться в стороне от драки, раз он считал курию обиженной. Ибо ни в одном мирном договоре, ни в одном соглашении никто не вспоминал, что часть Церковной области отхватила Венеция после катастрофы с Цезарем Борджа, а часть продолжала оставаться под властью своих тиранов. Мы знаем, что, не дождавшись ни от кого никакой помощи, папа Юлий решил действовать сам. Дипломатический подкоп под Венецию он начал вести с 1504 года, а в 1506 году во главе своих войск двинулся в Романью, захватил Перуджу и – дождавшись французской подмоги – Болонью.
Между тем, вокруг Пизы, осажденной флорентийцами, плели интригу Франция, с одной стороны, Венеция – с другой. И чем сложнее была интрига, тем обильнее лилась тосканская кровь. Наконец, в декабре 1508 года папе Юлию удалось добиться окончательного оформления союза (Камбрейская лига) Франции, империи, Испании, папства, Савойи, Мантуи и Феррары против Венеции. 14 мая 1509 года венецианцы были наголову разбиты французами при Аньяделло и «в один день потеряли то, что с таким трудом приобретали в течение восьмисот лет». Папские войска, не встретив сопротивления, заняли Фаэнцу, Червию, Римини и Равенну. Добившись своего, Юлий II уже в феврале 1510 года заключил мир с Венецией, стал теснее сближаться с Испанией, чтобы обратить оружие против французов и добиться изгнания их из Италии. Это выражалось в его формуле: «Вон варваров!»
Но французы и не думали уходить. Наоборот, они перешли в наступление, отняли у папы Болонью (20 мая 1511 года) и поставили под угрозу другие города в Романье. Юлий окончательно бросается в объятия Испании. В сентябре разражается интердикт (отлучение от церкви) над Флоренцией за ее верность Франции. В октябре создана Священная лига Испании, папы и Венеции против французов. Но Лиге первоначально не везет. Поход ее против Болоньи проваливается, Брешия в Ломбардии, отложившаяся от Франции, берется французами штурмом и кровавым погромом искупает свой опрометчивый пыл (19 февраля 1512 года), под Равенною (11 апреля) армия Лиги терпит сокрушающее поражение. Но французы теряют там своего гениального полководца Гастона де Фуа, убитого в сражении, а с севера с гор спускается на помощь Лиге армия швейцарцев, очень быстро очищающая от французов Италию. Летом собирается сейм в Мантуе, решающий восстановить Сфорца в Милане и Медичи во Флоренции. Папские войска без труда овладевают Пармой, Моденой, Болоньей. В Милане швейцарцы сажают герцогом Массимилиано Сфорца, сына Лодовико, испанцы берут приступом Прато и, очевидно, соревнуясь в свирепости с французами в Брешии, подвергают жителей Прато беспощадному погрому, после которого республике во Флоренции приходит конец, и город открывает ворота перед Медичи.
Резня повсюду, потоки крови, истребление людей; разгул свирепости, жадности, предательства, всего темного и дикого, что может быть выплеснуто со дна человеческой души; варварство, воскресшее в более уродливой форме, чем всегда; голод, массовые изгнания, нищета, мор, гибель огромных материальных ценностей. И самое главное,– всему этому не виделось конца. Наоборот, все обещало только дальнейшее ухудшение. Итальянский народ изнемогал. Надежды угасали у самых больших оптимистов.
Вот что доносилось непрерывно до Микельанджело, пока он сидел на своих подмостках в Систине, испачканный известкой и красками, не раздеваясь для сна, не моясь, плохо питаясь и думая, думая без конца. Двоекратное путешествие в папскую ставку в 1510 году, вероятно, придало его думам яркость и красочность личных впечатлений. Он успел пережить и перечувствовать все перечисленные события вплоть до Равеннского сражения, разгрома Прато и падения республики во Флоренции, и смысл совершающегося в Италии не мог не быть ему ясен.
Как должно было отражаться все это в душе, вскормленной трагическими пророчествами Савонаролы, которые оправдывались каждый день, и грандиозными фантасмагориями дантова ада, перенесенными в трепетную живую действительность родной земли, распятой тысячами врагов?
Гражданские и гуманистические мотивы плафонаМы не можем опираться во всем на подлинные политические высказывания Микельанджело по этим вопросам. Их очень мало. Вернее, их нет. Он усердно переписывается с отцом и братьями, особенно с Буонаррото, который был культурнее двух других. И мы жадно вчитываемся в каждую строчку этих писем. В них очень много говорится о всяких денежных делах. Художник щедро помогает семье, которая совсем не заслуживает такого доброго отношения. Он хочет вложить свои сбережения в землю, купить именьице-другое. Он упорно молчит о своей работе и столь же упорно не желает говорить о политике. Лишь тогда, когда политика сама навалилась на его семью и на него, он заговорил. И каким жалостным, каким недостойным языком!
Вот что пишет он 5 сентября 1512 года Буонаррото: «Узнав здесь, как идут у вас там дела, я решил написать вам свое мнение. Оно вот какое: так как город под угрозою, как говорят здесь, вам всем нужно удалиться куда-нибудь, где вы будете в безопасности, бросить имущество и все вообще. Ибо жизнь дороже имущества. Если у вас нет денег, сходите к казначею госпиталя Санта Мариа Нова и возьмите у него. На вашем месте я взял бы у казначея все деньги, которые я отдал ему на хранение, уехал бы в Сиену, нанял бы домик и жил бы там, пока все успокоится. В дела государственные не мешайтесь ни словом, ни делом, а действуйте, как во время чумы: будьте первыми в бегстве». Это писалось после разгрома Прато, до возвращения Медичи во Флоренцию. Через две недели, 18 сентября, Микельанджело пишет тому же Буонаррото: «Из последнего твоего письма я узнал, что город был в большой опасности. И я очень волновался. Теперь уже говорят, что члены семьи Медичи вступили во Флоренцию и что все уладилось. Я думаю поэтому, что опасность от испанцев миновала и что уезжать уже нет необходимости. Оставайтесь же с миром и не заводите ни дружбы, ни знакомства ни с кем, кроме бога, И не говорите ни о ком ни худо, ни хорошо, ибо никто не знает, чем все кончится. Сидите себе дома – и все».
Однако успокоиться окончательно не пришлось. Во Флоренции кто-то пустил слух, что Микельанджело в Риме говорил лишнее о Медичи. Узнав об этом, он пишет отцу (вероятно, в конце сентября): «Что касается Медичи, то я ничего не говорил против них, кроме того, что говорилось всеми вообще, как, например, относительно Прато; и если бы камни обрели речь, заговорили бы и они. Кроме того многое еще болтали тут, и, слыша эти разговоры, я говорил: «Если верно, что они так поступали, то они поступали дурно». И вовсе не потому, что я верил всему, и дай бог, чтобы все было выдумкой!». По-видимому, все-таки эти слухи и сплетни доходили до ушей медичейских агентов, и семейство Буонарроти во Флоренции стали за это прижимать. Старик опять жаловался Микельанджело, и тот в письме прислал «две строчки» на имя Джулиано Медичи, правившего городом, с тем чтобы старик передал их ему: «Старайтесь жить, и, если на вашу долю не достанется почестей в городе, как другим гражданам, достаточно будет, что у вас есть хлеб. И живите с богом в бедности, как я живу здесь. А живу я плохо (meschinamente), не думаю ни о мирских делах, ни о почестях, в тяжком труде и в тысячах беспокойств (sospetti). Так я существую около пятнадцати лет, в течение которых у меня не было хотя бы одного часа радости. И все это для того, чтобы помогать вам, а вы этого никогда не признавали и не верили этому. Бог да простит нас всех. Я готов делать то же и впредь, пока я жив, лишь бы хватило сил».
«Две строчки», адресованные Джулиано, тем не менее, помогли. Следующее письмо Микельанджело начинается уже совсем в другом тоне: «Из вашего последнего письма я узнал, что вы вновь в чести, чему я несказанно рад»…
Читать все эти письма сейчас не очень приятно, зная, что они принадлежат перу великого художника.
Невозможно было растеряться больше. Невозможно было поддаться в большей мере обывательской панике и совсем забыть, что нужно ведь и в таких случаях сохранять «оттенок благородства». Да, но эти строки вышли из-под пера великого художника, рука которого на эти моменты отложила в сторону кисть. Когда он снова взялся за кисть и «божественный глагол до слуха чуткого коснулся», – все переменилось. И сразу стало видно, что никакие приступы обывательских страхов – они будут еще много раз повторяться в его жизни – не сделают гениального артиста маленьким человеком.
Среди биографов Микельанджело есть много таких, которые с особенной охотой стараются подчеркнуть его человеческие слабости и изобразить их как самую: основу его душевных свойств. По этому поводу вспоминается Пушкин, который, говоря о Байроне, такими сердитыми, но справедливыми словами отчитал любителей вылавливать слабости у великих людей: «Толпа жадно читает исповеди, записки и т. п., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. Он мал, как мы; он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок не так, как вы. Иначе». Так и Микельанджело. Он умеет очень скоро заставить забыть все свои слабости.
Письма, о которых шла речь, писались как раз в те дни, когда делались люнеты. И погром в Прато, и возвращение Медичи, и разгул репрессий во Флоренции – все, что рождало столько диких страхов и шкурнических чувств в письмах к родным, – здесь, когда художник мог говорить языком своего искусства, вызывали резонанс, в котором полным звуком звучит то, чего так нехватало в письмах, – благородство, достоинство, вера в конечное торжество справедливости, то есть все, что придает высшую красоту отчаянию и глубокую идейность пессимизму.
Стоит внимательно вглядеться в люнеты, и это станет ясно. Прежде всего мы должны будем твердо признать, что даже та слабая связь, которая существует между сюжетами распалубок и основным содержанием росписи, здесь исчезла. Это просто жанровые картинки, которым приданы библейские имена, но для которых до сих пор тщетно ищут в библии соответствующих текстов. Какой у них смысл?
Люнетов – четырнадцать. Было шестнадцать. Два над алтарем были сбиты позднее, чтобы очистить место ангелам «Страшного суда». Каждый люнет разделен на два поля рамкой с именами. В каждом поле – фигура, чаще всего одна. Связаны парные поля сюжетом? Очень авторитетные исследователи отвечают на этот вопрос утвердительно, но истолкования этой связи получаются натянутые. Скорее всего, ее вовсе не существует. Что же изображают, вернее, что выражают фигуры в люнетах?
Вот красивая молодая женщина расчесывает свои длинные светлые волосы, а думает в это время о чем-то таком, что нагоняет на ее лицо облако тихой грусти. Рядом мужчина, у которого тело, лицо, все застыло в оцепенении, словно он не может отделаться от кошмарного видения (Аминадаб). На соседнем люнете женщина, одетая для дороги, с ребенком на руках, усталая, нашла где-то местечко и заснула, прислонившись головой к стене. И тут же старик, с посохом в руках, сгорбленный, с тяжелым мешком за плечами, с котелком у пояса, в полном изнеможении присел на камень. Ветер треплет его бороду. Куда ему итти? Итти некуда, но нужно. Не итти – гибель. Он безнадежно смотрит вперед (Боас и Обэд). На этих двух люнетах две пары фигур. Первые, очевидно, у себя дома, но их уже хватает за горло тревога. Вторые – в пути. Это изгнанники, такие, каких много ходило в те времена по жарким и пыльным итальянским дорогам, каких много ушло из Флоренции после возвращения Медичи. Как Данте в свое время, они постигли, как горек чужой хлеб, как круты чужие лестницы.
В следующем люнете сидит беременная женщина; на лице ее написана тяжелая забота, быть может, о том, что станет с ее ребенком. Тут же мужчина в позе величайшего отчаяния. Рука легла на колено, голова упала на руку; другая рука бессильно свесилась. Он не спит, потому что нельзя спать в таком положении (Ровоам, Абий). Немного дальше старик, который сидел погруженный в невеселые думы, и вдруг обернулся. Маленький мальчик, быть может внук, осторожно тронул его за колено и показывает испуганными глазами во тьму: надвигается что-то страшное (Ахим и Элиуд). В люнете рядом – другой старик, закутанный с руками в плащ, глядит тревожным, недобрым взглядом исподлобья вбок на женщину, которая выглядывает из-за его левого плеча и судьба которой, очевидно, его волнует (Яков, Иосиф). Это все – на одной стороне капеллы. На другой – несколько женщин с детьми, и ни у одной не заметно ни беззаботной радости материнства, ни уверенности в завтрашнем дне. А мужчины подряд подобраны как бы для того, чтобы изобразить целую гамму тяжелых дум, душевных мук, растерянности, страха. Один, пожилой, черноволосый, чернобородый, скрестил руки и сжал подбородок пальцами; глаза опущены с тоскою (Азор, Задок); другой, в капюшоне, сидит, согнувшись на каком-то придорожном камне, нога закинута на другую, поверх свесилась ладонь, бессильно, с растопыренными пальцами: еще один изгнанник; тема, очевидно, особенно мучила художника (Езекия, Амон); третий, в берете, – у него находят сходство с Макиавелли, – с озабоченным видом пишет, с трудом выводя буквы, какую-то бумагу: просьбу о помиловании или о возвращении милости, вроде той, которую Микельанджело через родных посылал Джулиано Медичи (Аза, Иосафат); еще один, в тюрбане, сидит с лицом затравленного зверя, с бегающими глазами. Ему нужно что-то предпринять, но не хватает сил, воля парализована (Давид, Соломон). И все так.
Это уже не плаксивые строки в письмах к близким, торопящиеся робко формулировать оправдания. Это мужественный протест против того, что делается в Италии, протест человека, преисполненного гражданских чувств, сознающего свой гражданский долг, апеллирующего ко всем, кто будет смотреть его произведение, приглашающего всех протестовать с ним вместе против царящего в стране беззакония и насилия, против разнуздавшихся агрессоров, попирающих прекрасную родную почву, против палачей Брешии и Прато, против белого террора во Флоренции. Это обвинительный акт против зла, в котором виноваты и Медичи, и папа, и французы, и испанцы. Это показ Италии, распятой во имя эгоистических интересов своими и чужими. Вот во что вылились впечатления Микельанджело от событий 1511 и 1512 годов.
Сюжеты распалубок тоже представляют собой жанровые группы, но в них нет тех выражений трагической неуверенности, муки, тоски, отчаяния, ужаса, как на люнетах. Это и естественно: распалубки писались раньше, когда не разразились еще настоящие бедствия войны, резня в Брешии, резня в Прато, когда события не коснулись еще близко Флоренции и родных художника. Но и на распалубках мы напрасно стали бы искать жизнерадостных сценок, или веселых лиц, или вообще какого бы то ни было проявления оптимизма: там все подернуто тихой грустью, выражает усталость и покорность судьбе.
С тех пор, как умер Лоренцо Медичи, с тех пор, как в 1494 году в первый раз пришли французы, Микельанджело, вдумываясь в смысл событий, развертывавшихся все более и более трагично для Италии не видел впереди ничего светлого и радостного. Он вообще мало был доступен оптимистическим настроениям. Иначе как было бы возможно, что в многочисленных письмах его, до нас дошедших, мы не можем уловить ни одной бодрой ноты? Все там печаль, недовольство, тоска, хотя в них почти ничего не говорится о больших политических событиях, бывших источником таких настроений. Люди, умевшие глубоко чувствовать, люди, любившие родную страну, – все разделяли переживания Микельанджело. Боярдо бросил писать своего «Влюбленного Роланда», узнав о бесчинствах французов Карла VIII; Савонарола стал окрашивать свои «пророчества» в тона все более безнадежные; Макиавелли, который все время выбивался из сил, чтобы выковать оружие против бед Италии – народную армию, после реставрации Медичи стал писать вдохновенные политические трактаты, в которых учил, как спасти Италию.
Поэтому роспись Сикстинского плафона с самого начала проникнута безрадостным настроением. Ни папа Юлий, ни Браманте с Рафаэлем, ни Вазари, ни Кондиви, ни вообще современники, толпами приходившие в капеллу папы Сикста после праздника всех святых 1512 года, когда папа открыл в нее доступ, не замечали этого. Как истые итальянцы Ренессанса, воспитанные на культе красоты, они не видели в росписи ничего, кроме ее ошеломляющих художественных достоинств. А между тем, достаточно было только внимательнее вглядеться в фигуры некоторых пророков и сивилл, чтобы понять, что роспись исполнялась не только великим артистом, но и чутким гражданином. Старый Захария, который, нетерпеливо перелистывая книгу чудес, ищет и не находит в ней ничего утешительного. Седой красавец Иоиль, задумчиво рассматривающий свиток, на котором могли быть только слова о близости судного дня, ибо других его пророчеств известно не было. Иезекииль, тоже со свитком в руках, жестикулирует с азартом в жестоком споре с кем-то, очевидно, равнодушным к бедствиям родины, и старается побудить его к борьбе. Молодой и прекрасный Даниил читает огромную книгу – тоже книгу судеб – и делает из нее выписки, чтобы воспользоваться ими для своевременного предупреждения своих сограждан. Наконец, Иеремия, самая гениальная из фигур, взятая крупным планом. Он сидит на низкой скамье, скрестив ноги, в позе, повторенной в другом повороте на люнете Азора и Задока. Правой рукой он стиснул подбородок; голова упала на эту руку, упирающуюся локтем в колено; глаза опущены, они ничего не видят и не хотят видеть; левая рука лежит на другом колене, и кисть свесилась так бессильно, что мягкие складки одежды разъединяют пальцы. Он в думе, глубокой, поглощающей, неспособной прийти ни к какому радостному выводу. Рядом c ним девушка с перекошенным от страдания лицом смотрит на свесившийся свиток с еврейскими буквами «алеф» и «вов», обозначающими параграфы пророчеств Иеремии, а параграфы эти гласят: «Стала вдовою владычица народов; государыня областей подпала под иго. И от дочери Сиона ушло все благолепие ее». Но Иеремия Микельанджело думает cвою трагическую думу не о Сионе, а об Италии. Оттого он так удался художнику: художник вылил в его образе собственные трагические думы.
А сивиллы? Языческие пророчицы не могут внести ничего утешительного в перспективы пророков Израиля. Две старухи – Кумекая, дальнозоркая, и Персидская, близорукая, одинаково безуспешно роются в своих книгах, чтобы найти что-нибудь радостное. Но в них нет ничего радостного, и мы видим это по выражению морщинистых лиц. Эритрейская, молодая и красивая, еще не потеряла надежду найти в своей книге что-нибудь хорошее, но на лице ее уже написано: «Когда же? И будет ли?» Еще более красивая – Ливийская – в нетерпеливом жесте, полном темперамента, одновременно захлопывает свою книгу и вскакивает со стула, судорожно напрягая мышцы обеих ног, почти вывернув пальцы на левой. И одна только Дельфийская, одетая по-античному и по-античному прекрасная, вещает. Ей уже не нужно читать ничего. Все занесено на свиток, но содержание этого свитка, которое она передает человечеству, ужасно. Недаром полны страдания широко раскрытые ее глаза. Люди услышат, наконец, свою судьбу, и пророчество Дельфийской девы на этот раз будет совершенно лишено былой двусмысленности. В нем один смысл: нужно готовиться к худшим бедствиям. Это именно то, что почувствовали люди на люнетах.
Глубокие думы великого художника о судьбах поруганной родины вылились здесь в трагическую симфонию гениальной силы и звучания. В этом политический смысл Сикстинского плафона.
Но в Сикстинском плафоне есть нечто, что сейчас, быть может, представляется не менее важным, чем великие художественные достоинства фресок и пафос гражданского протеста, пропитывающий их. Это гуманистические идеи, которые Микельанджело вложил в свое создание, это гимн творчеству мысли, это неповторимое грандиозное воплощение идеалов Ренессанса.
Гуманизм, который проповедовали Петрарка и Боккаччо, гуманизм, который стал предметом пропаганды у их последователей XV века, содержал в себе огромные идейные ценности, но получал малое распространение и не оказывал поэтому всего того влияния, какое способен был оказать, ибо сочинения гуманистов были написаны по-латыни: для немногих. Идейный мир гуманизма лишь частично стал раскрываться для неученых кругов в итальянских сочинениях Петрарки и Боккаччо, а затем полнее в итальянских трактатах: Леона Баттисты Альберти. Только Альберти стал постепенно разрушать аристократическую предубежденность гуманистов против широкой массы,, и только после него гуманистические идеи стали медленно вливаться в идейный мир Ренессанса. Но настоящим образом они стали содержанием ренессансной идеологии, когда их пропаганду взяли на себя итальянская литература, главным образом художественная, и итальянское искусство. Макиавелли, Кастильоне, Бембо, с одной стороны, Пульчи, Боярдо, Ариосто, Берни, Тассо – с другой, пропагандировали гуманистические идеи кто трактатами, кто поэмами, капитолами и сонетами. А рядом с ними работали художники. Фрески Гирландайо и Рафаэля, особенно Парнас и Афинская школа, восстанавливали родословную гуманистической идеологии и давали изображения главных ее представителей. Многочисленные картины на мифологические и исторические сюжеты напоминали о том, что мирская точка зрения и человеческие чувства, которым древние искали воплощения в образах своей лучезарной легенды, представляют ценности самые большие, какие только существуют на свете.
Микельанджело не мог удовлетвориться рабским подражанием своим предшественникам. Его идейный размах был шире, чем у других, и уступал разве только Леонардо да Винчи. Расписывая плафон, он сразу нашел те мотивы, которые считал достойными своей кисти: история мироздания, сотворение человека и грехопадение – в этом центр тяжести сюжетных фресок для Микельанджело. В них у него два мотива. Оба принадлежат к основному содержанию гуманистической доктрины. Первый из них – гимн великой творческой силе, Демиургу-созидателю, ибо в сотворении мира Микельанджело видит и изображает только великий творческий размах. Его Демиург воплощает напряженную энергию. Из него источается буйная, титаническая сила, и зритель этому верит, ибо художник сумел ее передать. Бог-отец Микельанджело не спокойный, кропотливо выполняющий свою работу, творец христианской мифологии, а – весь порыв, весь полет, весь бурное стремление. Лицо, жесты, тело – все у него в кипучем движении и в борьбе с миром мертвой материи, в которую нужно вдохнуть жизнь. Из хаоса он создает порядок, ибо человеку, который грядет, нужен порядок.
И человек пришел. Второй мотив этих фресок вызывает в памяти зрителя вдохновенную картину создания Адама, вышедшую из-под пера Пико делла Мирандола. «В конце дней творенья создал бог человека, чтобы он познал законы вселенной, научился любить ее красоту, дивиться ее величию… Посреди мира, – сказал Создатель Адаму, – поставил я тебя, чтобы тебе легче было проникнуть взором в окружающее и увидеть, что оно заключает в себе. Я создал тебя существом не небесным, но и не земным, не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты сам себе сделался творцом и сам выковал окончательно свой образ…»
С Пико Микельанджело встречался постоянно в кружке Лоренцо Медичи и едва ли мог не знать его рассуждения «О достоинстве человека», откуда взяты эти строки. Ими он и вдохновлялся. Адам – не просто первый человек, созданный богом. Адам – человек, которому Демиург, – ибо бог Пико больше похож на платоновский образ, чем на ветхозаветный, – открыл пути и возможности бесконечного совершенствования. Таков должен быть и его образ в искусстве. Таков он стал на плафоне Систины.
Адам Микельанджело – это совершеннейший образ человека. Художник напряг все силы своего воображения, чтобы создать эту фигуру, и в его искусстве нет другой, более прекрасной, кроме разве мраморного «Умирающего пленника», замысел которого облекался каменной плотью в те же годы. Адам, и вокруг него венец из нагих юношей, воплощающих собою ту или иную идею физического совершенства, – это такое восхваление человека, которое достойно стать рядом с великолепным творением Пико. Но между ними та разница, что Пико, писавшего по-латыни читали десятки, самое большее сотни, в годы, непосредственно следовавшие за появлением книги «О достоинстве человека», а плафон Микельанджело смотрели с момента открытия фресок миллионы. И продолжают смотреть. И каждая единица в этих миллионах ощущала воплощенную в образах великую гуманистическую идею о способности человека к бесконечному совершенствованию и испытывала тот благотворный трепет, который выпрямляет внутренне даже самого бесчувственного. Ибо таково действие гениального искусства, отданного на службу великой идее. Эти два мотива не исчерпывают всего гуманистического звучания плафона. Но остальное уже не так характерно.
В гуманистических идеях, которые нашли выражение на Сикстинском плафоне, как бы собрано воедино все то, что вдохновляло Микельанджело до сих пор. Все самое благородное, что кристаллизовалось в его великой душе, перешло на потолок этой ватиканской капеллы: идеалы человеческого совершенства, зовы страдающей родины, горе от сознания, что счастье не стало уделом его народа, ощущение безвозвратной гибели великих культурных завоеваний последних двух веков, которые могли бы преобразовать мир. Все это требовало, чтобы об этом заговорили во весь голос. Никакой крик не мог тут быть слишком громким – дело шло об идеалах гуманизма, взращенных эпохой Возрождения. И Микельанджело воплотил свои гуманистические думы в титанические образы, чтобы они стали всем понятны, чтобы вооружить их великой агитационной силой, чтобы сделать их демократичнее.
Сикстинский плафон показывает, какой огромный оптимистический пафос мог источаться из всего микельанджелова искусства, если бы время и обстоятельства не надломили его крыльев. На время между написанием фигур Демиурга и Адама в сюжетных фресках и фигур люнетов, где явственно слышатся уже скорбные ноты пессимизма, как раз и приходятся те события, о которых говорилось выше: Аньяделло, Брешия, Прато – удары, нанесенные свободе, республике, демократии.
Оптимизм угасал. Но гуманизм продолжал звучать полным голосом.