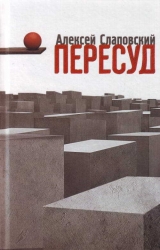
Текст книги "Пересуд"
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Вика и Тихон, сидя довольно далеко от преступников, шептались, по очереди приникая губами к ушам друг друга.
– Тут у меня написано: при аварии вытянуть шнур, выдавить стекло, – сообщила Вика, кивая на окно.
Украдкой глянув на эту надпись, Тихон ответил:
– На ходу выскакивать? Не сможем. И пока разобьем… Не получится.
– А что делать?
– Подождем, посмотрим.
– Боишься?
– Более-менее.
– А не надо было из дома убегать.
– Я не жалею.
– Ты не храбрись, ты думай, как отсюда выбраться!
Но Тихон не мог об этом думать. Ухо Вики рядом, он шепчет в него – и это, оказывается, интимней и даже, возможно, приятней, чем целоваться. Потому что целоваться – это, как бы сказать, страсть, охота, а так вот шептаться – доверительность. И еще Тихон думал, что у него есть редкий шанс защитить Вику. Это гады могут пристать к ней. А он будет драться. Конечно, его изобьют, но убить не посмеют. Зачем им новые преступления? Они вон даже милиционера не убили, а только связали. Это обнадеживает.
Нина была вне себя: ей не позволили поговорить с отцом. Но одновременно что-то мешало ей воспринимать происходящее как безусловное. Казалось, сейчас эти люди рассмеются и скажут, что они пошутили, разыграли всех. Потому что такие сюжеты разворачиваются только в книгах, в действительности Нина с ними не сталкивалась и сомневалась, что они возможны. А в книгах всегда находится какой-то выход, хотя там действуют негодяи почище этих. И говорят грубее, злее. Обязательно кто-то что-то «процедит», другой «осклабится», третий «рявкнет»… Эти же не цедят, не склабятся и не рявкают. Ударили, правда, человека, но как-то просто ударили, скучно и глупо. Надо переждать, подумала Нина. Все должно решиться само собой. Надо ждать, перелистывая минуты так, как перелистываешь страницы книги. Вспомнив о книге, она решила читать дальше и этим успокоить себя.
Иногда Дафне казалось, что Стив зрячий, а она нет. Например, они шли по улице и Стив говорил:
– Какие замечательные цветы!
– Где?
Дафна оглядывалась и только сейчас замечала уличного торговца цветами, мимо которого прошла, не обратив на него внимания. А Стив сориентировался по запаху, остальное же вообразил. Или он восторгался:
– Какое сегодня голубое небо!
Дафна поднимала голову и, действительно, видело небо ослепительной голубизны.
– Как ты узнал? – спрашивала она.
– Я чувствую это по состоянию воздуха.
Дафне хотелось понять, что ощущает Стив, поэтому она в ближайший уик-энд устроила себе эксперимент: закрыла все шторы в квартире, завязала себе глаза и ходила, осязая вещи на ощупь. За полчаса она набила себе множество шишек и синяков, но вскоре с удивлением поняла, что ориентируется все уверенней, даже может иногда оторвать руку от стены, зная, что тут – дверь, тут – диван, а тут – ваза с цветами.
Она поймала себя на мысли, что, пожалуй, не отказалась бы стать слепой, лишь бы Стив любил ее. И, может быть, любовь их даже станет сильнее оттого, что они будут находиться в одном пространстве, на равных. Она засияет в темноте!
Дура, подумала Нина о героине и закрыла книгу. Но тут же опять открыла. Делать все равно нечего, если не читать, придется жить происходящим, а этого ей не хотелось. К тому же, глупость героини да и самой книги – еще не повод, чтобы не получать от текста удовольствия. Читая дурацкий текст, человек чувствует себя умным, сложные же книги, чересчур художественные, чрезмерно психологичные и излишне стилистические дают тебе понять, как ты не развит и не умен, а это мало кому нравится. Вот в чем причина того, что популярны именно дурацкие, а не умные книги. Хорошие книги вообще редко имеют успех, знала прилежная читательница Нина, а если имеют, значит, в них какая-то хитрость, которую читатель не видит и считает себя умным несмотря на то, что книга умнее его.
Желдаков был слегка смущен. Он, мужчина крупный, сильный, наглый в разумных пределах, чувствовал себя в этом автобусе чем-то вроде царя горы, пока работяги не превратились в захватчиков, в тюремных рецидивистов. И теперь он вместе с остальными пассажирами – жертва. В этом есть какая-то несправедливость. Желдаков, хоть и не ощущал себя потенциальным преступником – уже потому, что с преступлениями связано слишком много неудобств и хлопот, – все-таки тайно уважал грабителей, воров и аферистов: считал их людьми смелыми; они плюют на общество и его законы, и это Желдакову близко, он сам ни в грош не ставит общество, а законы таковы, что дунь – и отлетают, как пух. Нет у них ни защитников, ни ревнителей, держатся они только на слабости и трусости людей, которым лень или боязно эти законы нарушать.
И Желдаков не столько боялся, хотя боялся, конечно, понимая опасность положения, сколько досадовал, что оказался в роли жертвы, не являясь жертвой.
А Ваня Елшин – боялся. Презирал себя, негодовал на себя, но чувствовал страх даже физически – спазмами в животе, перехватами дыхания, биением сердца. Неужели я такой тепличный? – с укоризной думал он о себе. Неужели мое сознание так легко переключается?
Ваня ведь несколько минут назад был влюблен или почти влюблен. Это с ним не первый раз – он мог, мельком увидев красавицу в пролетающем автомобиле, симпатичную продавщицу, просто девушку на улице, думать о ней неделями, вспоминать, жарко мечтать, представлять и проигрывать варианты. Вот и сейчас – только увидел входившую в автобус Вику, тут же затосковал, заметался глазами и душой, замечтал, зафантазировал. Потом появился ее парень. Ваня и не сомневался, что так будет: он влюбляется как раз в чужих и недоступных. Есть же в автобусе еще красавица, причем красавица несомненная, зрелая и при этом свободная, но Ваня ее появление воспринял равнодушно, оценив ее красоту спокойным посторонним взглядом. И та девушка, что с матерью, тоже, в принципе, ничего. Нет, обязательно влюбиться в ту, к кому нельзя даже подойти. Обидно.
И тут Ваня вдруг понял, что боится не напавших преступников, а себя. Боится, что, когда они станут бесчинствовать дальше, в чем Ваня почти не сомневался, он не выдержит, не сможет остаться в стороне, ввяжется – и ввяжется робко, трусливо, и все это увидят… Вот от этого предчувствия и дрожит все в теле, от этого заранее тошно. У него ведь впереди учеба, творчество, слава. Неужели он будет этим рисковать неизвестно ради чего? Из-за девушки – да, стоит, она его оценит, но зачем Ване ее оценка, если он будет к тому времени мертвым, что не исключено?
Странно, очень странно было Ване. Словно где-то на войне он лежит перед наступающими вражескими танками и боится, причем уверен, что боится больше всех, но все или почти все могут убежать, а он почему-то – не может.
И тут Ваня обратил внимание, что милиционер, лежавший в скрюченной позе внизу, на ступеньках, кивает ему, на что-то показывает, скосив глаза.
Ваня посмотрел и увидел рядом с дверью красную кнопку, помещенную в застекленную коробочку, и надпись: «EMERGENCY DOOR OPENER».
Что предлагает этот милиционер? Разбить стекло, нажать на кнопку? Дверь откроется – возможно, а возможно и нет, потому что не факт, что в отечественных автобусах такая кнопка работает. То есть автобус не отечественный, но ходит-то он по нашим маршрутам, а у нас всякие мудреные штучки выводят из строя заранее, чтобы не вывели из строя пассажиры или не воспользовались, когда не надо.
Милиционер закивал активнее, зашевелил плечами.
Он хотел этим сказать: не хочешь сам нажимать кнопку, приподними меня, я изловчусь, разобью стекло лбом или носом, нажму на кнопку, дверь откроется, я выкачусь и…
Милиционер Сергей Коротеев не знал, что будет потом. Может, расшибется о землю. Но, может, и уцелеет. Убежит в лес, оторвется от преследователей, потом наткнется на какой-нибудь населенный пункт. Главное – оказаться на свободе любой ценой, исчезнуть из автобуса, из того места, где он был опозорен, где попался, как первогодок, – скорее всего потому, что никак не ожидал попасться. Сергей служит уже восьмой год, но ничего подобного с ним не случалось. Были служебные приключения, были задержания, стычки, два раза приходилось стрелять – один раз по колесам угоняемой машины, другой раз в темном переулке, в человека с ножом. Попал удачно, в руку, человека не убил, но обезвредил. Но вот так беспощадно, лицом к лицу с преступниками, да еще сразу же оказавшись беспомощным – не доводилось.
А мальчишка трусит, не хочет помочь. Должен же сообразить, что если он, Сергей, убежит, то у пассажиров есть шанс, а если останется в таком положении, может произойти что угодно. И Сергей продолжал сигнализировать глазами.
Ваня посмотрел на него, потом на бандитов.
И встретился глазами с Притуловым, который, как оказалось, в этот момент наблюдал за ним. Ваня тут же неосторожно метнул взгляд на милиционера, что Притулов тоже заметил.
Встал, подошел. Осмотрелся, увидел кнопку, все понял.
– Командир, у тебя аварийная кнопка работает?
– Нет, – ответил Козырев.
– Я проверю!
– Проверяй.
Притулов, встав на сиденье, каблуком разбил стекло коробочки, потом ткнул в кнопку.
Не сработало.
– Что, родимый? – спросил он Сергея. – Мечтаем? Не надо мечтать. И тебе тоже, – обратился он к Ване.
И пошел обратно, по пути задев плечо Арины, отчего та заметно вздрогнула.
Притулов усмехнулся.
20.10
Драницы – Мокша
Ему было заранее хорошо. Знакомое предчувствие радости. И, конечно, праведного гнева. Он не знал, как это сосуществует в его душе, да и не очень над этим задумывался – радость, доходящая до восторга, и одновременно гнев, доходящий до ярости. Ради этого он жил, этого его лишили, но сегодня он обязательно наверстает. Семь женщин в автобусе, целых семь, и все они – женщины! Притулов не делил, как некоторые, особей женского пола на молодых и старых, красивых и некрасивых. Само существование женщины на земле – провокация. Читая какую-то книгу, Притулов наткнулся на слова, подтверждающие его давнишние мысли. Он запомнил их накрепко, так как имел фотографическую память – поэтому, кстати, четко помнил всех, от кого избавил этот мир. Слова такие: «Что есть жена? Сеть прельщения человеком. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа. Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола!»
Радость Притулова все разгоралась и разгоралась, поэтому он даже не очень рассердился, когда раскрыл беспомощную попытку милиционера бежать.
– Молодец, Евгений! – похвалил его Маховец. – Опытный ты человек, я смотрю. За что пострадал?
– За характер, – уклончиво ответил Притулов.
Маховцу ответ понравился, он рассмеялся.
– Наш человек! А ты куксишься, кипиталист! – он хлопнул по плечу Федорова, зная, что ему это не понравится. И слово «капиталист», без того поганое, он нарочно испортил – дразнил.
Федоров скривился.
– А ты за что, Сережа? – спросил Маховец Личкина.
– За убийство, – солидно ответил Личкин.
– Неужто? Кто бы подумал! Тоже на пересуд везли?
– Да.
– Всех, я смотрю, на пересуд, – вывел Маховец. – А чего ждать? Мы и тут пересуд устроим.
– Это как? – с любопытством спросил Притулов.
Маховец, не объясняя, встал и обратился к пассажирам.
– Граждане присяжные! – и умолк, ожидая вопроса. Вопроса не поступило. – Что, никому не интересно, почему вы присяжные? Ладно. У нас тут такое дело, мы сейчас устроим пересуд. А вы будете, как в суде, присяжные. Мы грустим, граждане, мы тоскуем! Вот вы нас или приговорите, или освободите. Как решите, так и будет. А мы вам – всю правду. Годится?
Пассажиры молчали, не понимая, какую забаву им предлагают.
– Кто начнет? – спросил Маховец.
– Ты уже начал, – откликнулся Притулов.
– Да? Ну, ладно. Значит, так, граждане заседатели и судьи, – приступил Маховец к рассказу, подпуская для смеха в голос некоторую как бы жалобность, интонацию неправедно обиженного человека. – Что указывает нам наш жестокий, но справедливый уголовный кодекс? Он указывает, что надо учитывать смягчающие обстоятельства и личность подсудимого. А вы не учли, когда в прошлый раз разбирались!
– Это не мы разбирались, – не выдержала Елена.
– Не мешайте, девушка, – попросил Маховец, прижав руки к груди. И продолжил: – Мое смягчающее обстоятельство – это вся моя жизнь! Папа мой был алкоголик и воспитывал меня кулаками. Хотелось мне ответить или нет? Хотелось. Но я не мог. Потому что – папа. И я отвечал другим. Но кто виноват, я или папа? Я виноват, согласен. Но папа тоже виноват, граждане присяжные! Почему ему от моих двенадцати не отломить годика хотя бы два? Он умер? Так мы ему посмертно! Награждать посмертно, можно, а осуждать нельзя? Несправедливо! Пойдем дальше. Мама моя была хорошая женщина. Но она была без образования, даже среднего. А могла бы получить. И могла бы меня тоже приучить к образованию, а не могла, потому что ничего в этом не понимала. И я в результате ее примера тоже бросил школу. Надо ей хотя бы полгодика дать за это? А? Я спрашиваю…
– Надо! – отозвался Желдаков – не подличая, а поддерживая юмор, который вполне разделял. Но перестарался – Маховец это принял как издевку.
– А тебя спрашивали?
Он медленно пошел к Желдакову. Все замерли, Желдаков напрягся.
– Ну, я просто… Нет, но ты же спросил!
– Если я спросил, это ничего для тебя не значит! Другие есть умные ответить! Ловкий ты – моей маме полгода давать, сволочь! А своей сколько дашь? А? Дашь своей маме года два тюрьмы? Она живая у тебя?
– Нет…
– Неважно! Дашь или нет?
– Ладно, я же пошутил…
– Сказал бы я тебе, если б не женщины! Даю твоей маме два года – согласен? Согласен?
Маховец стоял совсем близко. Желдаков понимал, что если он не согласится, тот ударит. Но и трогать память матери не хотелось.
– Ты лучше дальше расскажи, – ответил он примирительно.
– Согласен или нет?
И тут Желдаков придумал ответ:
– Да ладно, не жалко, ей все равно не сидеть, она лежит уже!
Маховец глядел на Желдакова в упор.
Вот-вот – и…
Но он вдруг улыбнулся.
– Хитрый, зараза! Ну, живи пока!
Он вернулся на прежнее место.
– На чем мы остановились? На маме. Маме полгодика, папе два, вот уже девять с половиной осталось. Едем дальше. Три эпизода мне вменяют, а теперь еще навесить хотят. За что? За три убийства при ограблении. Разберемся. Насчет первого сначала. Не хотел я этого человека убивать. И грабить не хотел. Я шел по улице, граждане заседатели. Вечером. А он шел из ресторана пьяный. Если вы скажете, что напиваться – это нормально, я соглашусь. Скажете?
Никто не сказал.
– Вот! Все знают, что напиваться ненормально. Теперь вопрос: что сделать с человеком, который позволил совершить убийство на его глазах? Который не остановил преступную руку?
– Ты кого-то при нем, что ли, шпокнул? – поинтересовался Притулов.
– А как же! Его самого и шпокнул! Идет, понимаете, в дорогом костюме, пьяный. Я ему: товарищ! Это в советское время еще было, все были товарищи. Товарищ, дайте закурить. Я вежливо обратился. А он меня обозвал матом. Статья первая административного кодекса, между прочим. Считаем! – Маховец начал загибать пальцы. – Напился – раз! Матом обозвал – два! Не оказал противодействия преступлению – три! Сколько ему за это?
– Год! – выкрикнул Личкин.
– Мало, – не согласился Маховец, но тут же передумал: – Ладно, год. Итого, минус еще год из моего срока, получается восемь с половиной. Пошли дальше. Затянули меня плохие дружки в историю. Пойдем, говорят, к одному барыге, к спекулянту, к фарцовщику, тоже в советское время было, пойдем, говорят, в гости. Ну, пришли. А он не радуется. Несправедливо? У нас что на лозунгах было написано? Человек человеку! Ну ладно, мы стерпели. Он не радуется, но выпивку поставил. Мы выпивку выпили и говорим: еще хочется. А он говорит: идите куда подальше и там пейте. Мы не против, но просим взаймы денег. А он говорит – нету! Пришлось посмотреть. И что оказалось? Какое там нету, еще как есть! Не только на выпивку, а на все, что хочешь! Три тысячи рублей у него нашли! А он начал на нас бросаться. Вазу хрустальную схватил. Ну, я его в порядке самообороны этой вазой… Виноват? Не отрицаю, но смотрите сами. – Маховец опять начал загибать пальцы. – Если бы он не спекулировал, мы бы к нему не пришли, это раз. Если бы он нам сам денег дал, мы бы ушли, это два. И если бы он сам не напал, я бы его не тронул. Что получается? Ему за спекуляцию, за жадность, за нападение надо срок навесить или нет?
– Надо! – приговорил Притулов.
– Еще как! Три с половиной года ему для ровного счета! И остается у меня восемь с половиной минус три с половиной – пять!
В этот момент Козырев посмотрел на свое лицо в зеркало и увидел заинтересованность и любопытство. То есть, он невольно заслушался историей, забыв, кто рассказывает. Такое своеволие собственного ума Козырева обидело, даже оскорбило, он сделался мрачным и стал смотреть прямо на дорогу, стараясь не слушать разглагольствования Маховца. Но получалось не вполне.
– Третий эпизод – это вообще смешно, граждане заседатели. – Там даже ограбления не было. То есть оно было, но по факту убийства. Никого я не собирался грабить, а сидел и нормально выпивал. А в ресторан пришел прапорщик с женщиной. С такой, сами понимаете. Я ее пригласил танцевать, она пошла. Прапорщик обиделся, повел меня на улицу. С хулиганскими намерениями. Что мне было делать? Я его обезвредил. Он упал. А вокруг же люди ходят. А люди – это кто? Это те же преступники, но которые не совершили преступления! То есть он честный человек – ну, там, слесарь или кандидат наук. Он идет и не хочет никакого преступления. Но вдруг перед ним лежит мертвый прапор. И он может захотеть снять с него форму с ущербом для советской армии и забрать у него все деньги. Чтобы этого не допустить, я сам раздел прапорщика, а потом обнаружил в нем, то есть в его форме, сумасшедшие деньги. И мне зачислили грабеж. За что? Если бы я его выслеживал в гостинице, увидел, что он с наличными деньгами приехал на покупку, кстати, нелегальную, автомобиля для своего командира, он деньги в номере побоялся оставить, пошел с ними, но я же этого не делал, в номер не лез, не следил за ним. А проститутка эта, извините? Короче, что я его убил, он сам виноват, а что я его ограбил, он тоже виноват, потому что не было бы денег и грабить было бы нечего. Поэтому проститутке – полгода, прапорщику за нелегальную покупку, провокацию убийства и ограбления – как минимум, два.
– Все равно у тебя два с половиной остается, – посчитал Притулов.
– А ты не спеши! Теперь мне еще один эпизод присваивают! Нашли, видите ли, тело моей бывшей сожительницы. Мертвая закопана оказалась в своем собственном саду на даче. Но доказательств нет, граждане присяжные! Следов преступления нет, кроме пролома на голове, а кто пролом сделал, неизвестно! У нее там не один я был, так что – предъявите экспертизу! Нет экспертизы – нет доказательств. Но вам, граждане присяжные, я признаюсь. Между нами. Да, убил. Но почему? Вот смотрите сами. Она же со мной жила, и она же мне вдруг вечером один раз говорит: ты животное!
– И вы обиделись? – догадался Личкин, которого несколько месяцев тюрьмы еще не отучили называть старших на вы.
– Я? Да ни за что! Животное не хуже человека, а даже лучше!
– Согласен! – поддержал Притулов.
– Животные разные бывают! Лев – животное, тигр – животное! Орел!
– Орел не животное, а птица, – заметил Личкин.
– Иди учись опять в школе! – возразил Маховец. – Все, что живое, называется – животные! Короче, ничего обидного. Но животные – они же не знают жалости! Поэтому я ее спрашиваю: я точно животное? Она говорит: точно. Я говорю: тогда я тебя могу убить, потому что животное ничего не понимает, для него убить не грех, а просто жрать охота. Жрать я тебя не буду, хотя ты жирненькая, а убью запросто. Потому что, раз ты меня животным считаешь, ты мне сама разрешила фактически тебя убить. Тут она начинает брать свои слова обратно.
– Бабы – они такие, – кивнул Притулов.
– А я говорю – нет, поздно, раз я животное, то и буду вести себя, как животное. Ну и повел. Теперь вопрос, граждане присяжные: если животное, лев или тигр, убивает, его разве судят? Это абсурд! – воскликнул Маховец, хвастаясь редким словом.
Вдруг послышалось:
– Их стреляют!
– Чего такое? – не поверил Маховец.
– Их стреляют! – твердо повторила Наталья, выпрямившись спиной.
Она, подкрепившись пивом, почувствовала себя гораздо лучше – у нее всегда это бывало с первыми глотками любого спиртного напитка, даже самого слабого. Первый хмель, длящийся минут десять-пятнадцать, был вообще самым приятным, на нем бы и остановиться, однако Наталья, как правило, продолжала и, по мере продолжения, сначала даже словно трезвела, становилась активной, бурной, энергичной, а потом резко пьянела, но прекратить уже не могла – пока не упадет.
Маховец подошел к ним – к Наталье с Курковым – и сказал Леониду:
– Ну-ка отсядь.
– Слушай, женщина нервничает, естественно, она… – начал было объяснять Курков, но Маховец схватил его за шиворот и потащил в проход, там повалил на пол, а сам уселся рядом с Натальей, поставив на Куркова ногу и направив на него автомат.
– Значит, расстрелять меня надо? – улыбнулся он Наталье.
– Вы спросили про животных. Я про них и сказала. – Наталья не хотела показать, что боится, ответила довольно твердо, хотя голос все-таки дрогнул.
– Нет, женщина, вы не надо! Вы меня имели в виду!
– А хоть бы и так! Потому что я… Потому что так нельзя! Вы сбежали откуда-то, вам надо уехать, ну, и езжайте, а люди при чем? Что вы над нами-то издеваетесь? Если не хотите или не можете нас отпустить, то хотя бы относитесь по-человечески! А вы тут цирк устроили! – выкрикивала Наталья не в глаза близко сидящему Маховцу, это было слишком неудобно, почти смешно – на таком расстоянии не кричат, она кричала наискосок, обращаясь не только к Маховцу, а к его товарищам. И к пассажирам.
– Вот именно! – послышался голос сзади.
Это крикнул Ваня.
– В самом деле! – присоединилась и Любовь Яковлевна, всегда готовая поддержать справедливость, если получала сигнал извне.
– А взрослые мужики! – укорил Мельчук, постаравшись, чтобы в его укоризне не было ничего обидного.
– Действительно! – добавила Вика.
– Как будто их трогают! – тонко крикнула Нина.
Тут все или почти все, но преимущественно женщины, которые в таких ситуациях смелее, потому что считают, что их не тронут, загомонили, заговорили, возмущаясь и обвиняя.
Но тут же смолкли – как только Маховец встал.
– Молчать! – снисходительно приказал он.
И вернулся к друзьям, а Курков сел на место, отряхиваясь и мысленно оправдывая себя тем, что под дулом автомата не очень-то попрыгаешь.
– Продолжим конференцию! – повернулся Маховец к пассажирам. – То есть, наше заседание суда. Никто над вами не издевается, у вас помощи просят! Вот я вам все рассказал по чистой совести. А теперь решайте, оправдать меня или нет? Все в ваших руках!
И Маховец понурил голову. Но тут же поднял ее и посмотрел с такой откровенной злобой, с такой ненавистью, будто перед ним сидели те, кто испортил ему жизнь и посадил его в тюрьму.
– Но только так, – сказал он. – Если кто проголосует против меня, пусть он объяснит, в чем я виноват. И если он мне это не докажет, тогда я сам буду его судить. Устраивает? А хоть бы и не устраивает, я сказал – так будет. Голосуем – кто за то, чтобы меня оправдать?
Димон первый поднял руку, весело озираясь.
– Жалко вам, что ли? – сказал он, намекая, что это игра, что это понарошку.
И до многих его намек дошел.
Начали подниматься руки.
Но не у всех. Решили вытерпеть и не поддаться Наталья, Курков, Нина, Ваня и Вика с Тихоном. Елена собиралась тоже воздержаться, но решила, что нет смысла и, отвернувшись, чуть приподняла руку – ровно настолько, чтобы видел Маховец и не обратили внимания другие.
– Сколько вас! – удивился Маховец количеству недоброжелателей.
– Все равно большинство за! – крикнул неглупый Димон, подсказывая Маховцу примирительный выход.
Но тот не захотел им воспользоваться. Он начал с конца: подошел к Ване и ударил его кулаком по голове, сверху. Ваня упал, оглушенный. После этого Маховец ударил Нину по щеке. Она заплакала, уткнув лицо в колени, в книгу.
Маховец подошел к Тихону и Вике.
– Ну, ты, хватит! – приподнялся Тихон и тут же получил тычка в живот, отчего согнулся, а отшатнувшуюся Вику Маховец достал рукой издали, мазнув ей ладонью по лицу.
Наталью и Куркова не тронул, решив, что им хорошо досталось в прошлый раз.
– Сволочь! – крикнула Вика. – Мы проголосуем, но это силой, понял?
– Мне не надо силой, – ответил Маховец. – Сейчас поднимем ручки еще раз. Без всякой силы, ясно? Каждый голосует по совести, от души. Кто за мое полное и безоговорочное оправдание, господа присяжные?
На этот раз руки поднялись у всех. Насилие было очевидным и дало поэтому возможность подчиниться без ущерба для совести.
Только Ваня не поднял руки, потому что после удара Маховца остался лежать на полу.
– Э, парень, ты чего? – спросил Желдаков. – Ты не загнулся там?
Он обеспокоился по-настоящему, понимал – если паренек умер, события могут развернуться быстрее и страшнее, и он не успеет придумать, как спастись, не присоединиться к другим жертвам.
– От одного удара не умирают! – успокоил Маховец. Но все же пошел посмотреть, что с пацаном: незапланированных трупов ему не надо, он и в мирной жизни убивал только тех, кого хотел убить.
Маховец приподнял голову Вани, приоткрыл пальцами веко, потом пощупал пульс на шее, на руке.
– Живой, только без сознания.
– Ментовской удар! – запоздало оценил Притулов. – В самое темечко!
– У них и научился! – сказал Маховец. – Ничего, оклемается. Спасибо, граждане присяжные! Не дали погубить мою жизнь!
– И не надоест… – прошептала Наталья.
– Чего?
– Да нет, я так.
– Если так, то ладно, – разрешил Маховец.
Он устал.
20.30
Драницы – Мокша
Эти бараны даже не понимают, как важно ему было сказать то, что обычно не дают сказать на казенном суде, как важно было увидеть их поднятые руки. Пусть он сам это все организовал, не в этом суть. Суть в том, что Маховец действительно считал себя невиновным.
Конечно, все было немного не так, если по форме, но дело не в форме, а в корне. Отец Маховца не был алкоголиком, это он придумал для смеха. Многие придумывают про своих отцов и матерей, но хорошее – Маховец этого никогда не понимал. Какая разница вообще? Родители сами по себе, человек сам по себе. Отца Маховец не помнит, был отчим, который его не бил, но постоянно угнетал, читал нотации, пока Игорь (ему было уже лет пятнадцать), не сказал: «Отвяжись!» – а когда отчим, оскорбленный, потянулся к нему, чтобы схватить за ворот, ударил его по скуле, да так, что вывихнул палец. А мать была… Ну, мать, как мать. Как все матери. Работала, вечером варила суп, в выходные ходила с мужем в гости или принимала гостей, выпивали, пели песни, иногда плясали (тогда еще плясали на праздниках, дробно долбя пятками пол городских квартир и головы нижних соседей). Игорь пропадал после школы и вместо школы на улице. Там была его стихия, там было ему хорошо.
Но еще интереснее Маховцу было бы поведать не о том, за что его осудили, а о другом, более важном.
Вот поздний летний вечер, пацаны сидят на пустыре за домами, в бурьяне, развели костер, пекут в золе картошку, курят, разговаривают. Из темноты вдруг появляется Ляпа, которого все знали, а кто не знал, тот обязательно о нем слышал. Ляпа садится, вынимает изо рта одного из пацанов сигаретку, курит, чмокая губами. Он пьян. Бросает окурок в костер, поднимает голову, оглядывает всех.
– Вот ты! – показывает на Симона (Симонова).
– Чего?
– Того! – передразнивает Ляпа. – Уха моего! Иди сюда, я тебя дрёбну!
– За что? – канючит Симон.
– Дрёбну, потом скажу, – обещает Ляпа.
Симону не хочется, но за Ляпой такая слава, такой авторитет, что сердить его он боится. Подходит.
– Ближе.
Симон делает шаг.
– Ближе.
Симон делает еще шаг.
– Нагнись.
Симон нагибается.
Ляпа резко выбрасывает руку, но Симон отшатывается, рука не достает.
– Сучок! – орет Ляпа. – Убью! Ниже нагнись!
Симон нагибается ниже, получает свою плюху и идет на место.
Спросить, за что, он забывает, а Ляпа тем более забыл, что он собирался ему объяснить.
– Закурить, – говорит Ляпа.
Подают сигаретку.
Ляпа курит и вдруг начинает бессвязно повествовать о том, как он стал главным на «Техстекле» – это район был вокруг одноименного завода. Эту историю все знают, но впервые слышат ее от главного героя.
– Стоим. Зика. Друзья, хоё-моё. Ну, ла-ла, туда-сюда. Он наглеет. Зика, ты че? Ну, базар. Все стоят. Он одного, другого. Все молчат. Я говорю: Зика, кончай. Понял? Я говорю: кончай. Все молчат. А я говорю: кончай. Он идет на меня. Ты чё? Я говорю: ничё, мы нормально тут с пацанами. А ты кончай. А то в дребало. Кто, ты? Ну, я. А все молчат, ты понял? – спрашивал Ляпа всех, как одного. – Все молчат. Я понял: или я, или он. Он говорит: ты чё? Ничё, все нормально. Ты тянешь? Нормально всё. Нет, ты тянешь? Ну, тяну. Тянешь? Тут я его дрёбс. Еще. Он упал. По яйцам дрёбс. По роже. Ты понял? Почему? Не надо ждать. Понял? Бей сразу, потом будет поздно. Понял? И все. Где Зика? Я об него окурки вытираю. Понял? Почему? Я сказал: бей сразу, потом будет поздно. Иди сюда, – указал Ляпа теперь на маленького Масю (Масина Лешу).
– У меня голова болит, – неожиданно ответил Мася, чем рассмешил всю компанию. Но Ляпа не смеялся. Он не понял юмора.
И дал Масе по больной голове.
Потом стал подзывать к себе всех – по очереди.
Наверное, это было смешно: подростки один за другим встают и идут к раздаче зуботычин, ударов по скулам, носам, лбам, под дых – куда захочет попасть пьяная рука Ляпы.
Настал черед Маховца. Игорь подошел.
– Стой спокойно! – приказал Ляпа. – Нагнись.
А у Игоря в животе жгло. Он сначала думал, что страх, а потом понял – нет, не страх. Другое. И, нагнувшись, ударил Ляпу кулаком в зубы. Потом выяснилось, что содрал кожу на мослах, но тогда этого не ощутил. Он бил и бил Ляпу, пока не оттащили. Он не помнил себя, чувствовал только азарт, наслаждение.
Через день Ляпа пришел с друзьями его бить.
Игорь вызвал его один на один. Ляпа согласился – он был выше и сильнее.
Дрались страшно, хоть и без камней, без палок, без ножей. Игорь применял и голову, и зубы, и коленки – все, что мог.
Так обнаружился его талант – драться.
Он в итоге уложил Ляпу, возил его лицом по земле. И, встав, сказал:
– Еще сунешься – убью.
Но Ляпа не мог стерпеть – сунулся, пришел с ножом. Ударил Игоря в бок, но Игорь схватил его руку, выхватил из себя и из его руки нож и тоже ударил Ляпу в бок, два раза. Оба выжили, хотя оба лежали в больнице. А потом Ляпа пропал. Он не мог быть вторым, а первым Игорь уже не позволил бы.








