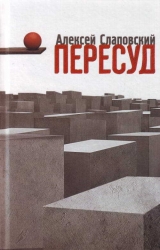
Текст книги "Пересуд"
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
– Чего не дорубил? – спрашивает Ваня, чувствуя, как предательский подрагивает что-то в скуле, какой-то желвачок, какой-то нервик.
– Окно в Европу не дорубил, а главное – становой хребет русской косности не дорубил! Думаешь, я не знаю, что, если гайки ослабить, все разбегутся по своим хлевам, к своим курам и поросятам? Знаю! А не дам! Ради их детей и внуков – не дам! Ради их светлого будущего – не дам! Чем еще удивишь? Что миллионы людей загнал в концлагеря, что на войне опять же миллионы положил, лишнюю кровь пролил? Знаю! Не удивишь! Но почему? Потому что я людоед такой? Нет! Только потому, что нам за двадцать-тридцать лет надо два-три века пройти! Это война! И кто-то должен взять на себя ответственность! А никто не хочет! Все хотят добрыми быть! А я – беру! За кровь, за грехи, даже за преступления во имя великой цели – все беру на себя! И если кто нашей советской державности будет мешать – мочить в сортирах! Безоговорочно! Однозначно! Сопляк, пришел тут вопросы задавать, учить меня! Маршалы и генералы вот тут пытались мне советы давать! Теоретики! Иностранные представители! Писатели вякали! А почему им не вякать – у них никакой ответственности! Им – советовать, а мне – решать! И брать на себя все! Весь ужас, всю эту ночь перед рассветом! Рассвет будет ваш, пользуйтесь, можете даже не благодарить, а ночь – моя. Нужен мне культ личности, прямо я тебе шейх персидский! Да я бы его в один день свернул, тут ты прав. Но он стране нужен, государству нужен, потому что любящий меня работает лучше, он оптимистичен и весел! Поэтому все, что государству хорошо, то и хорошо, что ему плохо – то и плохо! Хорошо было бы государству, если бы я сына сменял на фашистского генерала? – В глазах Сталина влажно блеснуло что-то и голос чуть дрогнул. – Нет, было бы плохо. Авторитету вождя было бы плохо. И я отдал родного сына на гибель! Надежда, жена, хотела, чтобы я ей внимания уделял больше, чем стране, обижалась, оскорбляла меня – никто не слышал, потому что в спальне, а как я ее обидел – все видели, потому что я живу открыто! Застрелилась! Жаль? Да! Но – баба! Я, как глава государства, как вождь народов, кого я должен выбрать, страну или бабу? Отвечай!
Ваня молчит.
– Христос! – с горечью говорит Сталин, немного успокаиваясь. – Христос на муки шел, но знал, что воскреснет! Не на смерть шел, на подвиг! Да и то взмолился: «Злой! Злой! ламма Савахфани?» – Сталин воздел руки, передразнивая. – А я – не жалуюсь, не молю никого! Я знаю, что впереди только смерть и только муки! Да еще и наплюют на могилу, а то и вытащат из нее, надругаются! Это пострашнее!
– Вы тоже будете жить! – выкрикивает вдруг Ваня. – В сердцах людей! За ваши великие дела и великие муки, за… Простите меня! Расстреляйте меня!
И Ваня протягивает Отцу винтовку.
– Я рук не мараю. – Сталин нажимает кнопку звонка.
Являются два майора.
– Расстреляйте его, – приказывает Сталин. – А потом – друг друга за то, что позволили ему сюда проникнуть.
Ваню ведут каменными извилистыми коридорами.
Он помнит, как расстреливали в таких случаях. Неожиданно, в затылок.
И говорит конвоирам:
– Я лицом встану.
– Чудак, охота тебе в глаза смерти смотреть?
– Так надо!
Они слушаются, ставят его спиной к стене, отходят, вскидывают свои командирские пистолеты.
– Да здравствует товарищ Сталин! – вскрикивает Ваня.
– Это уж само собой, – отвечают майоры, целясь – один в левый глаз, другой в правый. Они любят так упражняться, а кто не попадет – выставляет бутылку. Если же оба не промахнутся, ставят каждый по бутылке, чтобы никому не обидно. А когда оба промажут (то есть попадут, но не в глаза), опять же ставят друг другу по бутылке, ради справедливости.
Грянули выстрелы, в глазах Вани сверкнула боль и настала темень, затылок ударило о стену, но он каким-то сверхъестественным образом успел увидеть, как офицеры, повернувшись друг к другу, сказали:
– Три, четыре! – и два выстрела слились в один, и они стройно и четко упали, ногами друг к другу, подошва к подошве, даже в смерти своей соблюдая привычку к порядку и дисциплине.
Ваня против Сталина
Вариант второй
Шло время, Ваня читал, думал, у него появлялись новые аргументы.
И вот ему видится: он опять входит к Сталину. Он хорошо подготовился, в руках у него папки с документами.
Впрочем, еще больше папок у обвинителя и адвоката, которые идут вслед за Ваней. А за ними – вереница свидетелей.
– Встать, суд идет! – говорит Ваня.
– Ничего, пусть посидят, – машет рукой Сталин.
– Я вам говорю!
– Мне? Почему?
– Потому что судить мы будем вас!
– За что?
– Вас, и ваш режим, и ваших последователей – чтобы дать однозначную оценку…
– Однозначных оценок в истории не бывает, дорогой.
– Бывает! Гитлер – негодяй, однозначно? Фашизм – плохо, однозначно? Сегодня вам не удастся заморочить мне мозги!
– Ты еще скажи, что и коммунизм плохо.
– Плохо – потому что несбыточно! Повторяю, не отвлекайте меня!
– Как говорил Михоэлс, мудрый человек: «Не сбивайте меня, я сам собьюсь!» – усмехнулся Сталин.
Процесс начинается.
Обвинитель говорит, что так называемая Сталинская конституция была ширмой, никто ею не руководствовался, возникло тотальное двоедушие и презрение к законам, продолжающееся по сей день.
Защитник возражает, что это была самая демократичная конституция в мире, гарантировавшая свободу слова, собраний, печати, шествий, демонстраций, неприкосновенность жилища, тайну переписки.
Обвинитель высказывает предположение, что защитник сошел с ума, если считает, будто это действительно гарантировалось: в том-то и дело, что государство, как банк-банкрот, готово было выдать любые гарантии, зная, что обеспечения все равно нет и не будет, пообещать миллион или рубль при пустой кассе – одинаково, и это практикуется по сей день.
Защитник спокойно отвечает, что это неправда; характерно при этом, что обвинитель замалчивает гениальные достижения, закрепленные в конституции, как то – уничтожение классов.
Обвинитель гневно протестует: это на самом деле была замена классов единой массой государственных рабов – пролетариат получил трудовые книжки и прописку, крестьянство прикрепили к земле и лишили паспортов, интеллигенцию лишили права свободного выбора работы и места жительства, всех сделали данниками государства, постоянно чувствующими себя виноватыми перед ним и обязанным ему, что продолжается и по сей день.
Тут Ваня вмешивается и замечает, что защита перешла в нападение, а обвинитель защищается. Прошу конкретнее, говорит он обвинителю.
Обвинитель обвиняет в развязывании так называемой Финской войны.
Защитник объясняет это необходимостью укрепить границы.
Обвинитель обвиняет в плохой подготовке к Отечественной войне.
Защитник объясняет это малым временем для подготовки.
Обвинитель обвиняет в том, что миллионы советских солдат погибли и попали в плен в первые же дни войны.
Защитник объясняет, что, следуя доктрине войны на чужой территории, наши полководцы стремились не защищаться, а перехватить инициативу, они бросились вперед и чересчур увлеклись наступлением.
Обвинитель обвиняет, что миллионы наших военнопленных после победы попали из немецких в наши лагеря.
Защитник объясняет, что они были деморализованы и требовалось время для восстановления в них советского духа.
Обвинитель обвиняет, что из-за многочисленных ошибок, промашек, волюнтаристских решений Сталина, война велась числом, а не умением, отчего советских солдат полегло намного больше, чем всех остальных.
Защитник объясняет, что, если бы не гениальные решения Сталина, фашисты вообще могли бы дойти до Урала и дальше.
Обвинитель обвиняет.
Защитник защищает.
Ваня прерывает эти прения и вызывает свидетелей.
Один за другим проходят люди, пострадавшие от репрессий, лжи, лицемерия, унижения из-за того, что не чувствовали свою жизнь своей.
Защитник говорит, что это все люди обиженные и, к тому же, эгоисты, ставящие личные интересы выше общественных. И просит вызвать своих свидетелей.
Ваня разрешает.
Свидетели защиты показывают боевые и трудовые ордена, грамоты, называют Сталина отцом родным и признаются, что, не будь его, все они имели бы один-единственный шанс – остаться темными недоумками, не понимающими цели в жизни.
Защитник подхватывает: у всех великих людей бывают ошибки – мы за это будем судить?
– Вот! – кричит Ваня. – Вот что главное! Не великий – и не ошибки! Я вообще бы запретил слово «великий», – добавляет он. – По отношению ко всему – к государству, спортсменам, ученым, художникам, писателям. Хватит уже! Замечательный – в лучшем случае.
– Надо направить ультиматум королеве Великобритании, пусть переименует страну, – комментирует Сталин.
В зале слышен тихий смех.
– Я вам слова не давал! – одергивает Ваня. – Ладно, великих людей еще можно оставить. Но страны – нет! Это несправедливо! Или уж тогда государство Науру, где десять тысяч человек, пусть тоже называет себя великой!
– Нам нужна великая Россия, – напоминает Сталин.
– А! И Столыпин вам пригодился! Не только его вагоны, хотя это не его вагоны. А я вам скажу: нам не нужна великая Россия!
Зал недоброжелательно ахает.
– Да! – выкрикивает Ваня. – И великая Америка не нужна! И великий Иран, Китай и все прочие великие – не нужны! Нам нужна нормальная Россия, нормальные страны, нормальный мир!
Это получается эффектно. Ваня ждет аплодисментов.
Их нет.
Он продолжает:
– Но дело не в этом. Странная штука история, какую страну отдельно ни возьми: славные победы и свершения. А посмотреть в целом на историю мира: преступления, кровь и предательства. А если и проявляется что-то человеческое, то не благодаря, а вопреки войнам! Потому что человек в любом окопе умудряется соорудить себе временный дом! И не надо говорить, что цивилизации развивается из-за войн – то есть всякие технические усовершенствования и тому подобное. Неужели они для труда не развились бы?
Сталин зевает.
Да и в зале заскучали все, включая свидетелей с обеих сторон.
– К делу! – спешит Ваня. – К конкретному делу. Подсудимый в прошлый раз обхитрил меня. Будто бы он старался для государства. Вопрос – какой ценой? И для государства ли? Да, он построил империю! Громадную, хоть и гнилую во многих местах. Зачем? Да все просто! – смеется Ваня. – Этот человек всегда видел себя императором, а как им быть без империи? Вот он ее и строил! Как постамент себе! Чем выше постамент – тем выше памятник! Нам говорят: он великий государственный деятель, который был, увы, злодеем! Нет! В этом и подмена! Он великий злодей, который стал государственным деятелем! Ох уж эта объективность! Неоднозначная фигура! Да однозначно все! Гитлер – преступник? Преступник! И его повесили бы, если б жив остался! Вот я и требую – признать Сталина-Джугашвили Иосифа Виссарионовича преступником в первую очередь! Преступником, повинным в геноциде собственного народа – ведь неслыханное дело, господа присяжные! – обращается Ваня к неизвестно откуда взявшимся присяжным за барьерчиком. – А Пол Пот и другие красавцы, что пошли за ним, они только пример брали – и обязательно, заметьте, во имя коммунистического будущего! Во имя равенства! Лучший и самый дешевый уравнитель тот же Пол Пот придумал: мотыгу! А у нас уравнивали пулей, ссылкой, тюрьмой, пропиской, всеобщим тайным голосованием, которое ни для кого не было тайной!
– Вы кончили? – скучным голосом перебивает защитник.
– Молчать! Я тут судья!
– А, ну да. Просто вы общеизвестные и банальные вещи говорите, а люди обедать хотят.
– Успеют! Главное, в чем я обвиняю Сталина, самое страшное его преступление: он отменил мораль человеческую и ввел мораль партийную! То есть групповую, бандитскую, инквизиторскую, если хотите, где членам ордена можно все, а остальным – ничего!
– Опять меня в масонстве обвиняют, – кривится Сталин.
– Я обвиняю! – голос Вани зазвенел. – Я обвиняю в том, что Сталин развратил народ! Ты запутал всех– и все перестали понимать, что хорошо, а что плохо! Ты приучил всех врать, жульничать, скрывать, хитрить, обманывать, целая нация при тебе прошла естественный отбор и выжили те, кто лучше умел врать, лицемерить и жульничать! Ты разрешил своему ордену скотство, разрешил безнаказанно убивать – как разрешали Гитлер, Чингисхан, Тамерлан, Александр Македонский, Иван Грозный, Петр Первый, Наполеон и прочие развратители человечества, которым благодарное развращенное человечество ставит памятники на крови убиенных братьев по разуму! И пока не будет первым словом каждого такого памятника слово «тиран» или «убийца», не поумнеет человечество! – Ваня уже не стесняется пафоса и громких слов, потому что – от сердца. – Ты лишил общество шанса стать обществом – и оно не скоро еще им станет, ты лишил людей потребности задавать вопросы, а за государством оставил право либо не отвечать, либо, в лучшем случае, констатировать факты! Вот я спрошу тебя, что стало с той баржей, где были заключенные, – с той баржей возле Курил, которую отнесло на юг, она получила пробоину, японские рыбаки хотели помочь ей, полторы тысячи заключенных там было, полторы тысячи душ в этой барже, что стало с ней?
– Она утонула, – пожал плечами Сталин.
– Прошу слова! – поднимается обвинитель. – Господин… э…
– Елшин. Ваня. Иван.
– Господин Ваня, во-первых, перестаньте называть пожилого человека на ты, во-вторых, не затягивайте процесс, в-третьих, прекратите все валить на одного.
– Минутку! Но вы же за меня! Вы обвинитель!
– Я – за соблюдение процедуры и закона! – металлически отвечает обвинитель и садится.
Присяжные дружно хлопают.
– Хорошо. Итак: я формулирую вину обвиняемого. Мания величия, садизм, конспирологические наклонности…
– Это личные качества! – в один голос кричат обвинитель и защитник.
– Они привели к преступлениям! – возражает Ваня. – Он, как вирус беззакония, произвола, жестокости, презрения к интересам людей, вирус поощрения лицемерия, коррупции, разделения на чистых и нечистых, заразил все общество, и оно болеет до сих пор! Он – может быть это самое опасное – заразил людей неверием в себя, недоверием к себе, до сих пор многие согласны гнуться под любой сильной рукой, лишь бы им позволяли тихо урвать свой кусок! Дайте барина, не надо выборов! И дают! И хорошо, если барин окажется добрый, – а если нет? Я требую особым постановлением суда запретить в официальных изданиях, энциклопедиях и справочниках упоминание Сталина как великого деятеля, совершавшего отдельные ошибки, я требую каждую словарную статью начинать так: «Преступник, оказавшийся главой государства»! Только так.
– Теперь все? – спрашивает обвинитель.
– Все.
– А требуемая мера наказания?
– Да не надо ничего. Лишь бы все поняли: каждый, кто защищает Сталина, защищает мерзавца, защищает бесчеловечность и, следовательно, – сам мерзавец!
– Попрошу не оскорблять присяжных! – раздается голос.
Ваня вглядывается и узнает писателя Храпонова. И других не менее известных персон.
После этого выступает обвинитель. Речь его на этот раз длится недолго.
– Да я все, в общем-то, уже изложил, – вяло говорит он и садится.
Слово берет защитник.
Он перечисляет славные деяния и подвиги Сталина, описывает его скромность и самоотверженность, перечисляет (это занимает часа три) людей, которые совершали гораздо большие злодейства в тех или иных аналогичных случаях, и в завершение объявляет, что, несмотря на определенные недоработки, Сталин создал мощное государство, благодаря которому, возможного сих пор сохраняется мир во всем мире, ибо, если противостояние двух политических систем привело к холодной войне, вражда систем, политически сходных, могла кончиться войной горячей – ядерной и последней в истории человечества.
Бурные аплодисменты зала и присяжных раздаются в ответ. Обвинитель тоже хлопает.
– Слово предоставляется подсудимому! – объявляет Ваня, напоминая, кто ведет процесс, кто здесь главный.
Но Сталин, оказывается, спит, положив руки на голову. Процесс ведется в дневное время, для него это непривычно.
Его нежно будит секретарь суда и нашептывает на ухо, пересказывая, что было.
– Я и сам знаю, – говорит вождь, не спеша закуривая.
Потом он выжидает паузу.
Всем становится не по себе, будто они виноваты перед этим человеком, будто у каждого есть в этом деле что-то личное, а у Сталина ничего личного нет, он в чистом виде – воля и разум.
– Мне тут разные преступления насчитали, – говорит Сталин. – А я скажу – мало. Мало насчитали. Засчитайте еще, что я Троцкого уничтожил, который бредил идиотской своей мировой революцией, не понимая, что в новых исторических условиях только одна страна могла стать крепостью социализма – Советский Союз. (Аплодисменты.)
Засчитайте, что я дал вам заповеди в конституции, которую под мою диктовку написал Бухарин. А что заповеди были одни, а люди вели себя по-другому, – это не конституция виновата, это люди виноваты. Христос тоже дал людям заповеди. Не убий, не укради и тому подобное. А они убивают и крадут. Кто виноват? Христос? Нет. Враги людей, подбивающие на убийства и воровство! (Аплодисменты.)
Засчитайте мне, что я отучал людей от собственности, этого проклятия человечества, которое сведет его в могилу, потому что ради собственности человечество готово на любые преступления. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)
Засчитайте, что я построил империю добра и любви, но при этом империю сильную, мощную. Мне тут про Финскую войну говорили, что не надо было. А интересы страны и социалистической демократии? Но финны хоть рядом. А американцы вон то во Вьетнам вошли, то в Ирак, то Белград бомбили, а вся Европа была в восторге, – я что, хуже американцев? Было две империи, одна считалась империей зла. Хорошо. Осталась одна. Империя добра. И насаждает она это добро самолетами и танками. Мне говорят: нельзя насильно внедрять демократию. А они внедряют – им можно? Про мораль мне говорят. Нет морали в глобальной политике, есть интересы! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.)
Масоном меня тут назвали. А в других странах – не масоны? Все знают: каждой большой страной управляет примерно двести семей. А я все на себя взял. Виноват. Надо было тоже вырастить двести семей, чтобы на них страну оставить. Хотя, вроде бы, сейчас дело исправляется. Развалили, идиоты, страну, теперь опомнились, заново собирают, – презрительно говорит Сталин, проявляя удивительную осведомленность. – Пролить воду на землю легко, а как ее с земли обратно взять? (Смех в зале.) А еще в том я виноват, – глуховатый голос Сталина крепнет и наливается силой, – что не всех уничтожил троцкистов, идеалистов, пацифистов, предателей, врагов народа, террористов, децентралистов и этих пидарасов модернистов! Что оставил дурное семя, которое выросло и погубило в результате великую державу, погубило великий русский народ! Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои! Каюсь! Виноват! (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Слышны выкрики: «Да здравствует товарищ Сталин! Народ и партия едины! Построим новое здание российской демократии на историческом фундаменте национальной государственности! Да здравствует преобладание образности над логикой, интуиции над рассудком, общего над частным, понятия над законом!»)
Сталин поднимает руку, призывая к тишине.
– Ну? И какой будет приговор?
Присяжные, посовещавшись, поручают высказаться самому уважаемому из себя – благородно седовласому и седоусому.
– Эх, милые вы мои! – поет он мягким голосом, как бы заранее сожалея о тупоумии окружающих, включая, быть может, и Сталина. – Никто не прав, только Бог. Но решать надо. Расстрелять. А потом взять на поруки. Посмертно.
– Кого? – уточняет секретарь суда.
– Его, конечно, – указывает присяжный на Ваню.
Вбегают люди в черных наголовниках с прорезями для глаз, кричат:
– Всем лежать! Лицом вниз!
Уложив всех (включая Сталина) во избежание помех мирному и спокойному аресту Вани, они берут его, надевают наручники и уводят.
– Кто у тебя родители? – спрашивает один измененным голосом (Ваня догадывается об этом, хотя не знает, какой голосу него настоящий).
– У отца небольшое хлебопекарное производство, мама в институте преподает.
– Ага. Тогда сто тысяч. Евро.
– За что?
– За то, что жив останешься.
– Ноу вас же приказ!
– Ты жить хочешь?
– Хочу.
– Сто тысяч.
– Постойте! Но есть же закон! Я хочу, чтобы по закону!
– По закону – расстрел. А по понятиям – сто тысяч. Что выбираешь?
Ване очень стыдно. Он краснеет. Но он очень хочет жить – хотя бы для того, чтобы бороться во славу закона. И шепчет:
– По понятиям…
И опять Ваня думает, читает, и натыкается на интересную особенность: при всем том, что Сталин – одна из самых изученных фигур, в его биографии много пробелов, туманностей и неясностей. При описании его личных качеств недоброжелатели склонны делать вывод чуть ли не о паранойе, апологеты же либо переводят эти качества в гражданские, либо предпочитают о них не распространяться.
И тут-то Ваня видит именно то, что его больше всего тревожит – больше, чем роль Сталина в истории, его явные ошибки, злодейства или сомнительные победы, – тут-то и видится ему главная тайна, поэтому в своих мыслях он является к нему в третий раз.
Ваня против Сталина
Вариант третий
На этот раз Ваня приходит с человеком в белом халате.
– Это еще кто? – недовольно спрашивает Сталин, который не доверяет врачам и не любит их – возможно, потому, что в их присутствии он становится не великим человеком, каковым себя ощущает ежесекундно, а – телом, организмом. Сталин вообще не понимает, как он может болеть, такой весь цельный, монолитный. Схожесть с другими людьми его оскорбляет.
– Вам нужно пройти освидетельствование, – твердо говорит Ваня.
– Погоди, – поднимает руку Сталин и, расхаживая в мягких сапожках, продолжает диктовать Поскребышеву: – О незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас ее нет. Записал?
Поскребышев кивает.
– Далее.
– Далее писать?
– Что?
– Слово «далее» писать?
– Не обязательно. Далее. Полагаю, что мы стоим на пути к еще большей свободе и демократии, с которого невозможно свернуть. Но все может измениться.
Ване это надоедает и он делает так, чтобы Поскребышев исчез.
Врач начинает задавать Сталину вопросы.
– А, ты психиатр! – догадывается Сталин. – Да я умней всех психиатров вместе взятых!
– Ум – не признак психического здоровья, – с достоинством отвечает психиатр. И продолжает свою работу. Просит Сталина ответить на вопросы теста, кладет перед ним листы с пятнами Роршаха, выспрашивает Сталина о детстве, о его снах, фобиях и, наконец, докладывает Ване: – Обследуемый психически нормален. Наблюдается завышенная самооценка и не вполне адекватное восприятие действительности, но у кого не завышенная, кто полностью адекватен?
Ваня удовлетворен этим результатом.
– Значит, ты ведал, что творил, – говорит он Сталину.
– Ты мне надоел, – морщится Сталин. – Опять обвинять будешь?
– Буду. Но не надейся – не в индустриализации или коллективизации. Ты никого не любил – вот мое обвинение. Вот твое самое страшное преступление – потому что, взяв на себя право вершить судьбы людей, ты не любил людей! Наполеон, Гитлер, Петр Первый – на что сволочи, а и то кого-то любили, своих женщин хотя бы. Собак. По-своему. А ты и женщин своих не любил, потому что не способен любить никого, кроме себя.
– Неплохая компания, – усмехается Сталин.
– Конечно! Заметь, кстати, – Иван Грозный убил своего сына, Петр Первый убил своего сына, ты дал погубить своего сына, да и второго довел до гибели своей нелюбовью. Вот что почувствовала твоя жена, вот чему она ужаснулась: человек, ненавидящий людей, стоит над людьми!
– То не люблю, то ненавижу, разберись сначала, – добродушно ворчит Сталин. – И это неправда. Я маму любил.
– Да? Двенадцать писем за двенадцать лет – каждое по три строки! А сколько раз ты видел ее в своей жизни?
– Видеть не обязательно, когда мама в сердце твоем! – возглашает Сталин, поднимая бокал с вином. – Поскребышев, запиши. Ты где?
– Его нет, ты его убил – в награду за много лет преданной службы! Никого ты не любил, а поэтому подозревал, что и тебя никто не любит! Поэтому и мытарил всех, издевался над каждой душой, что попадала тебе в руки, – а у тебя в руках были все!
– Я добрый был, – обиженно сопит Сталин. – Я маме этого… как его, не помню – переводы денег посылал. Сам. Лично.
– Ага. А потом показал их ему и сказал, что он перед тобой в долгу! Веселился! Рассказать тебе, как ты веселился? Довел Зиновьева до того, что он на коленях ползал, умолял дать позвонить тебе!
– Я этого не видел.
– Видел! Перед тобой целое представление устроили, показывали, как он ползал на коленях, а ты заставлял повторять и смеялся так, что тебе чуть плохо не стало! Ты хоть понимаешь, что нельзя ставить людей на колени?
– Почему? Если плохого человека, предателя – можно. И нужно.
– Никого нельзя ставить на колени! Никогда!
– Почему?
Врач, наблюдающий за Сталиным, говорит:
– Он вас не понимает.
– Да чего ж тут не понимать? А то, что убивать плохо, он понимает?
– Кого? – спрашивает Сталин.
– Да никого.
– Как это никого, когда надо? А война?
– Я не спрашиваю, надо или не надо! Да, бывает, надо – война, бандиты нападут, угроза жизни, приходится убивать. Но это все равно плохо!
– Он вас не понимает, – говорит врач.
– Пытать, издеваться, унижать – а это как? Хорошо? Я тебя спрашиваю, именно тебя – ты душу народа надорвал, оплевал, изнасиловал, испоганил! Хорошо это?
– Что?
– Унижать?
– Кого?
– Да при чем тут кого? Никого! Вообще унижать – хорошо или плохо?
– Он вас не понимает, – говорит врач.
Сталин тянется за виноградом, кладет в рот, чмокает, сосет сок, а косточки с кожурой сплевывает в блюдечко.
– Я тебя не понимаю, – подтверждает он слова врача. – Но вижу насквозь. Ты безродный космополит и аполитичный тип. Неужели ты не испытываешь гордости за свою великую страну?
– Опять мне про это! Не испытываю! И не хочу испытывать гордость за то, что принадлежу к великой нации, к болельщикам команды «Спартак», к какой-нибудь конфессии, к мужскому полу…
– А я испытываю. И народ испытывает! – Сталин тянется за второй виноградиной.
Не выдержав, Ваня бьет его по руке.
– Больно! – говорит Сталин. – И я виноград кушать хочу.
– Другим было больнее! А некоторые винограда всю жизнь не кушали ни разу! Ты дослушай! Я даже, представь себе, не хочу гордиться своей принадлежностью к роду человеческому, я горжусь только принадлежностью к тому свету, что есть в каждом человеке – кроме тебя. Я не знаю, как это назвать. Бог? Но он у всех разный. Душа? Не знаю. Свет, так и назову. Он для всех один. Единственное, ради чего стоит жить. То, что объединяет всех людей! И вот этот свет ты в людях и гасил – всегда, постоянно, потому что ненавидел его! И ты даже не понимал, над чем измываешься! Вот в чем твоя главная вина! – вдруг озаряет Ваню.
– Опять главная вина? У тебя что ни вина, то главная.
– Постой, постой! – Ваня торопится проверить свою догадку.
Усилием фантазии он наполняет пространство, окружающее Сталина, людьми, которых ставят на колени, расстреливают, пытают: страшные крики, вопли и стоны раздаются со всех сторон. Ваня и врач наблюдают за реакцией Сталина. А тот спокоен, он лишь поглядывает на кисть винограда, потому что хочет взять виноградину, а ему не разрешили.
– Вот в чем дело! – кричит Ваня, удалив мучеников. – Ты просто не способен понять, что чувствует другой человек! В этом твоя главная вина! Ты не можешь это вообразить, не можешь это представить! И вот за это, за нечувствование чужой боли, за презрение к человеку, за бесовское высокомерие я тебя обвиняю!
– Он вас не понимает, – говорит врач.
– А что он понимает? Свою-то боль он понимает? Убрать все!
Исчезает стол с яствами и винами, исчезает кабинет, Сталин оказывается в зэковской одежке. Проходит день.
– Кушать хочу, – жалуется Сталин.
– Понял теперь?
– Понял.
– Что?
– Что кушать хочу.
– А что других пытать голодом нельзя, понял?
– Если преступники, можно.
Проходит еще день.
– Курить хочу, – говорит Сталин.
Ваня игнорирует.
Проходит еще день.
– Кушать. Пить хочу. Сердце болит. Голова болит, – говорит Сталин.
Входит охранник, вносит селедку и хвойный настой.
– Это кушать, это пить. От головы и сердца тоже помогает, – говорит охранник.
– Теперь ты понял? – спрашивает Ваня.
– Расстреляйте его, – жалобно просит Сталин неведомо кого.
– Какой быстрый! Расстрелять! А тебя самого расстрелять? Или хотя бы по морде твоей проклятой, дьявольской, по морде тебя – дойдет, наконец, будет больно?
И Ваня, устав сдерживаться, подскакивает к Сталину, сшибает его с ног, лупит ногами старика и кричит:
– Больно? Больно? Больно?
Вдруг останавливается и растерянно спрашивает врача и охранника:
– Что вы стоите? Почему вы меня не удерживаете? Ведь бить нельзя!
– За дело можно, – говорит врач.
– Ни за что нельзя!
– Я вас не понимаю, – говорит врач.
И вроде все уже решено со Сталиным, только Ваня не успокаивается. Что-то продолжает его мучить. Ну хорошо, Сталин злодей, а другие-то кто, а Ваня – кто? И сами собой лезут в голову новые и новые варианты воображаемой пьесы.
Сталин против Вани
Вариант неизвестно какой
Ваня видит себя в огромном зале Дворца съездов. На трибуне Сталин, он произносит речь. В президиуме застыли в почтительном внимании его помощники и прислужники, одинаковые, как крысы в сумерках. В зале, внимая, боясь шелохнуться, сидят тысячи человек. Руки наготове – аплодировать.
Вот Сталин заканчивает фразу – и тут же бешеные рукоплескания. Все хлопают, хлопают, хлопают, это переходит в овацию. Зал встает.
И Ваня встает.
И вдруг замечает: люди в президиуме стали похожи на Сталина. Просто один в один, как близнецы. И те, кто в зале, тоже стали двойниками вождя, даже женщины, у которых мгновенно огрубели черты лица и выросли усы.
Тысяча с лишним Сталиных аплодирует, выкрикивает здравицы, а Ване становится жутко, и он садится.
Тут же, будто кто-то отрубил командой, все смолкает.
Жуткая тишина, только тихие передвижения людей, расступающихся, не желающих быть рядом с ним. Ваня один в этом круге среди опустевших кресел.
Людям вернулись их лица, эти лица опущены, ибо не знают, куда смотреть. На Сталина – страшно, на Ваню – опасно, друг на друга – сочтут заговорщиками.
И Ваня встает, и идет к трибуне.
Все расступаются.
– Можно? – спрашивает Ваня Сталина.
Тот пожимает плечами. Он не хочет скандала в присутствии иностранных делегаций.
Ваня встает, опирается руками, некоторое время молчит.
Потом говорит – негромко, будто в комнате, но при этом понимает, что его слышно на последних рядах:
– Ладно вам чумиться-то. Вы же нормальные люди. Вам же завтра стыдно будет. Ну, не всем, может. Но многим. А ему стыдно не будет никогда. Даже мертвому. Понимаете?








