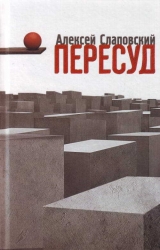
Текст книги "Пересуд"
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
– И?
– И он в меня кинул стаканом. Я не смог его вытерпеть и… Главное, он был уверен, что меня уложит одним ударом. Все-таки выше, здоровее, если объективно. Но я был в такой ярости… Короче, ребро ему сломал, руку вывихнул. Он потом написал заявление в милицию. Чуть до суда дело не дошло.
На самом деле все было иначе. Леонид все это собирался сделать, но просто не успел – Меркитин уже кончил свой спич. Пришлось ему сказать правду в гардеробе, Меркитин озлился, бросился, они косолапо схватились, Курков оторвал его от себя, оттолкнул, Меркитин неловко упал на стойку гардероба и, как потом выяснилось, действительно сломал себе ребро и действительно говорил всем, что подаст в суд на Куркова, но не подал. История обросла фантастическими подробностями и, если Наталья по приезде в Сарайск захочет кого-то расспросить, все равно не доищется правды.
– Нам еще помолчать или уже можно? – осведомился Маховец.
А Притулов сказал:
– Административный кодекс. Штраф в самом худшем случае. Не то. Да и врет он.
– Почему это я вру? – Курков прямо посмотрел в глаза Притулову.
А Притулов смотрел странно, наученный в тюрьме особому взгляду: не в глаза, а в переносицу. Вроде, в лицо смотришь, но как-то загадочно. Будто насквозь. Несведущего собеседника обескураживает.
Никаких сверхъестественных способностей у Притулова не было – он обвинил Куркова наугад. И понял, что попал.
– Подсудимый, вы знаете, что бывает за сокрытие данных от следствия? – спросил Маховец.
– Ничего я не скрывал. Больше рассказывать нечего.
– Хитрый какой, драку за преступление выдает! – возмутился Маховец. – Ты художник, как я понял?
– Ну да.
– Картины продаешь?
– Продаю.
– Вот! Это совсем другой состав преступления! – сообщил всем Маховец. – Видел я эти картины! Где у людей совесть, интересно? Рама – ну тысячу, две стоит. Краска – ну тоже тысяча, не знаю.
– Больше, – сказал Леонид.
– Ну, две, три. А картина – пятнадцать тысяч! Это не грабеж? Скажешь – за работу? Ну, рисовал ты ее день, два. Пятнадцать тысяч за два дня – это где же столько платят?
Наталья решила вмешаться:
– Творческая работа оплачивается не так, как… Не так, как работа землекопа.
– Землекопы хуже? Они не люди? Он горбится, копает землю, а потом приходит и покупает твою картину – ты ему в трудовой карман залез! – втолковывал Маховец Леониду.
– Залез, залез, – сказал Леонид, чтобы отвязаться.
– Три года строгого режима! – объявил Маховец.
– И еще год за вранье, – добавил Притулов. – Никого он не бил. Его самого били.
– Мне лучше знать, – огрызнулся Курков.
– Нет, а если ты такой храбрый, почему ты не встанешь и не дашь мне по морде? – с интересом спросил Притулов.
– Потому что у тебя ружье.
– Да? А вот нет ружья! – Притулов отдал карабин Маховцу и раскинул руки, приглашая.
Курков смотрел перед собой.
– Не надо! – прошептала Наталья.
Леонид и сам понимал, что не надо. Вот недавно же, после прямого нападения, стерпел. Но сейчас что-то изменилось.
И он вдруг вскочил, рванулся – и натолкнулся ну руку Маховца, которая опустила его на место.
– Доказал, доказал, смелый, – похвалил Маховец.
И вернул ружье Притулову.
00.30
Зарень – Авдотьинка
Наталья решила не придумывать, а сознаться в настоящем преступлении, которое у нее, к счастью, было. Единственное плохо – такого рода поступки часто совершают дамочки из женских романов и американских киношных мелодрам, есть в этом что-то обыденно-психопатическое. Это клептомания, воровство из магазинов самообслуживания.
Началось все легко и естественно, при том, что состояние в тот вечер было очень тяжелым. Она сидела одна, выпив остатки, желая продолжения и не видя для этого никакой возможности. Сожитель-режиссер в отъезде, на съемках, будет через месяц. Некому позвонить, не у кого попросить взаймы.
Она оделась и пошла к магазину – сама не зная, зачем.
Постояла у входа, делая вид, что кого-то ждет.
В сторонке, на каменных ступенях, сидели два мужика и женщина – все с азиатским заплывом пропитых навсегда глаз (у женщины еще и синяки добавляли припухлости), все в одинаковых, грязно-серого цвета куртках, перед ними стояла бутылка водки и большая емкость с каким-то газированным напитком. Даже они умудряются где-то разжиться деньгами, подумала Наталья. И ей очень захотелось подойти к ним. Растоптать свою фальшивую гордость, сказать, как жаждущая жаждущим: «Налейте пятьдесят грамм, если не жалко!»
И ведь налили бы, наверное, но она не решилась. Даже не потому, что побрезговала, а – что потом делать? Ну, выпьет она эти пятьдесят граммов, на пять минут полегчает… Нужна бутылка водки, как минимум. Наталья нашарила в кармане две купюры, вынула их и посмотрела, скосив глаза, не опуская головы. Две десятки. Она и так это знала: все карманы давно проверены и перепроверены. Что можно на две десятки? Бутылка наидешевейшего пива? Ну – хотя бы.
Она вошла.
Люди ходили вокруг будничные, счастливые, здоровые, она одна была несчастна и больна. Попалось какое-то зеркальце на стене, глянула на себя – да нет, ничего, вид вполне спокойный. Актриса она или нет? Умеет!
Отдел со спиртными напитками, как и во всех магазинах, на самом видном месте. Наталья прошла мимо этого великолепия, потом сделала круг, еще раз прошла, посматривая – не наблюдает ли кто. Камер слежения в не видно. Вообще дешевый магазин, простой.
Наталья взяла бутылку водки, посмотрела. Как бы не понравилось, взяла другую. Отошла, держа ее в руках. Оказалась между ящиками с овощами и фруктами. И тут быстрым движением подняла куртку, втянула живот, всунула бутылку за пояс тугих джинсов. Вот когда выручает худоба, то есть – стройность.
После этого она прошлась по магазину, взяла пачку дешевых сигарет и встала в кассу, постукивая по ленте транспортера этой пачкой с таким видом, словно только ради сигарет сюда и пришла. Было очень страшно. Казалось, что и продавщица, и охранник – все смотрят на нее. Еще – Наталья запомнила – в этот раз обычный ассортимент обычного магазина представился ей чудовищно изобильным.
Она помнила еще своим детством и ранней юностью советскую магазинную убогость и пустоту, и ей вдруг пришло в голову, что если бы тогдашнего покупателя взять да и переместить в любой нынешний супермаркет, он бы немедленно рехнулся, считая, что попал в счастливое будущее. От этих мыслей Наталья даже улыбнулась. И с этой улыбкой подала продавщице сигареты. Та схватила сигареты, сунула под считыватель штрих-кода, назвала сумму, получила деньги.
Миновав кассу, Наталья сразу же наткнулась на охранника. То есть не наткнулась, он просто стоял. Но ей пришлось его обходить. И она обошла – очень медленно, прогулочно. А на выходе даже поиграла с опасностью: остановилась и посмотрела вниз, будто что-то случилось с сапогом.
– Выхóдите или нет? – послышался голос какой-то тетки.
– Граждане, не будем тянуть! – воззвал Маховец. – А то мы до утра так с вами будем возиться! Сережа, дай нам чего-нибудь для бодрости!
Личкин понял, налил водки в два стакана по половинке, принес Маховцу и Притулову. Маховец выпил, а Притулов отказался.
– Я чего подумал, – негромко сказал им Личкин. – Темно кругом. Машин мало. А вокруг лес. Надо остановиться и разбежаться. А так нас накроют.
– В лесу еще быстрее накроют, – сказал Притулов. – Иди, отдыхай.
– Как хотите.
Личкин вернулся к Петру и передал ему суть разговора.
Это ведь Петр поручил ему выдвинуть предложение об остановке. Петру разонравилось ехать в автобусе. Глупая вообще затея – и продолжается глупо.
Ладно, не хотят – их дело. Сейчас отойдут подальше, в конец автобуса, он скажет водителю, чтобы притормозил и открыл двери. И Петр спрыгнет, и сначала в лес, а потом выйдет к дороге в другом месте. Скромно и вежливо поднимет руку. Кто-нибудь остановится. И он не будет ничего с ним делать, просто попросит подвезти. Тем более, что деньги у него остались.
– Если хотите сойти, я с вами, – сказал Федоров.
– На здоровье, только дальше каждый сам по себе.
– Естественно.
У Федорова тоже возник план – как можно скорее явиться в милицию. Он не хочет отвечать за убийство. При этом, вполне возможно, не последнее.
И Наталья вышла.
Этот вечер был для нее праздником, очень хотелось кому-нибудь рассказать про свою удачу.
Подобный трюк она проделала и на следующий день, уже в другом магазине. Денег не было совсем. Пришлось спрятать бутылку и выйти так, будто не нашла, что искала.
Потом она получила кое-какие деньги за озвучивание роли, отправилась в магазин радостно, законно, как все, набрала там продуктов, взяла бутылку вина и бутылку водки, но в карман все же сунула упаковку жвачки. Просто так – для баловства.
Поймали ее через месяц. Охранник в черном, пожилой таджик, загородил ей выход. Он был строг, но явно получал удовольствие от того, что выполняет настоящую работу, а не слоняется туда-сюда. Рядом с ним был тонкий молодой человек в костюмчике.
– Извините, пожалуйста, пройдемте, – сказал он.
– В чем дело? – высокомерно удивилась Наталья.
И провалила реплику, сказала робко, полушепотом – так не говорят люди, которым нечего бояться.
В служебном помещении охранник и молодой человек предложили вызвать сотрудницу для обыска.
– Не надо!
Наталья сама достала две бутылки. Литровые плоские бутылки, которых со стороны было абсолютно незаметно. Видимо, охранник каким-то образом углядел.
Но нет, все оказалось еще проще: молодой человек продемонстрировал ей видеозапись. Вот она подходит, озирается, хватает, идет, в конце зала торопливо сует – боже мой, как все заметно, какая дешевая игра, какая самодеятельность! Наталье было очень стыдно. Впрочем, ей и раньше приходилось просматривать видеозаписи некоторых спектаклей с ее участием, они ей тоже не нравились. Но там не было все-таки такой обнаженной неумелости, такой жалкости…
Молодой человек обрисовал перспективы: сейчас вызовут милицию, оформят протокол, ее посадят в камеру к алкоголичкам.
Наталья достала деньги и положила на стол.
– Вот, возьмите. И я больше никогда. Это я на спор.
– То есть?
– Ну, с подругой поспорила, что смогу.
Ее придумка вряд ли показалась убедительной работникам магазина, но достоверными выглядели настоящие живые деньги. Непонятно: зачем красть, если они есть?
Наталью отпустили, конфисковав, естественно, и водку, и деньги.
После этого – как отрезало. Были моменты, когда мучительно хотелось выпить, но, как только вспомнит себя на той записи камеры слежения – нет, ни за что. Видеть себя воровкой она еще согласна, но видеть себя такой плохой актрисой… Лучше уж прибиться к бомжам.
И она прибилась к бомжам на целую неделю, пила с ними, обходила мусорные баки, спала в каком-то подвале. Однажды очнулась ночью – вонючий мужик с дырявым ртом лезет на нее, мычит.
– Что? – не поняла она.
– Ну давай! Давай! – гнусил он. – Чего ты? Давай. Займемся любовью!
И эта нелепая фраза в грязных (в буквальном смысле) устах алкоголика Наталью и ужаснула, и насмешила.
Она убежала, вернулась домой, позвонила своему режиссеру и рассказала все (вернее, почти все), что с нею произошло. Он примчался на следующий день. Тогда он еще любил ее…
Вот об этом Наталья и сказала – понимая, что это и для Куркова будет новостью.
– Воровала.
Маховец посмотрел на Притулова, который стал для него чем-то вроде психологического эксперта. Тот, заглянув в глаза Наталье, кивнул:
– Похоже, не врет.
– Ты серьезно? – спросил Курков.
– Да.
– И что, если не секрет?
– Водку, продукты в магазинах.
– Зачем, почему?
– Денег не было. А выпить хотелось.
Наталья говорила спокойно, четко. Понимала, что это слышат другие. Ну и плевать. Ей сейчас было хорошо и почти весело.
– А что ты удивляешься? – спросила она Леонида. – Сам же всегда называл меня алкоголичкой.
– Я не называл.
– Но считал. Да ладно, я не против, я алкоголичка и есть. Есть еще вопросы? – Наталья с улыбкой посмотрела на Маховца и Притулова.
– Нет, – сказал Маховец. – Год условно.
– Есть, – возразил Маховец. – А изнасилование?
– Что такое?
– Изнасилование забыли, – мягко объяснил Притулов.
– Кто кого насиловал, извините?
– Вы – его, – указал Притулов на Куркова. – Он же ваш муж. А всякая женщина, чтобы сделать мужчину мужем, его насилует.
– Интересная теория!
– Это не теория, это жизнь! – вздохнул Притулов.
Он действительно был убежден, что задача любой женщины, как только она себя таковой почувствует, – выбрать жертву и совершить над ней насилие. Он помнил разных мужчин, приходивших к ним в дом, лишенный отца и мужа, свободный, и вели они себя тоже по-разному – кто смело, кто робко, кто наглел сразу, кто – учуяв позволение. Но по лицу мамы, по ее глазам, по усмешке Евгений понимал: как бы ни хорохорились, сделают в результате то, что она захочет. Захочет, чтобы ушли, – уйдут. Захочет, чтобы остались, – останутся.
Первый и последний семейный опыт Притулова утвердил его в мысли о насильнической природе женщин. Главный их метод – поставить мужчину в положение виноватого. Вот первое знакомство с Ритой, его будущей (а теперь бывшей и мертвой) женой. Пустяковая история: стоят у студенческой раздевалки, Рита рядом болтает с подругой, отдав номерок гардеробщице, гардеробщица протягивает пальто (отвратительно розовое и шуршащее, из какой-то синтетики), Рита будто не видит, рассчитывая на то, что Евгений подхватит пальто и передаст ей. Но он не дурак, он разгадал хитрость и не подхватил, не передал. Пришлось Рите самой взять пальто. Она взяла, глянув на Евгения чуть ли не презрительно.
И он попался. Он не хотел об этом думать, но думал и думал. И ведь подруга Риты нравилась ему гораздо больше. Но она все видела, она тоже подумает, что он неуклюжий увалень – и как объяснишь, что он не увалень, что он сделал это (то есть, не сделал этого) принципиально?
Через неделю был вечер танцев. Евгений решил не идти, но подумал: Рита посмеется, решит, что он струсил. Ладно, надо пойти – и не обращать на нее внимания. Потанцевать с какой-нибудь другой сокурсницей.
Он пошел, не обращал на Риту внимания. Стоял у стены, глядя в сторону, никого не приглашая. Рита была с подругой. Надо подойти и пригласить подругу. Но, пока Евгений собирался, подругу уже пригласили. Рита осталась одна. Она вовсе не глядела укоризненно, она, быть может, вообще на него не глядела, но Евгений чувствовал себя виноватым. Позже он понял, в чем засада: если женщина может оказаться виноватой только за то, что она сделала, мужчина виноват и в том, чего не сделал. Не подал пальто – виноват. Не подошел – виноват.
И Евгений направился к Рите на невольных ногах.
Так оно и завязалось. Не проводишь до дома – виноват, значит, надо проводить. Не поцелуешь – опять виноват. Не напросишься в гости – виноват. Не воспользуешься отсутствием родителей – виноват.
Кончилось свадьбой.
Притулов было словно заточен и связан – вот когда он был больным и ненормальным, а не после, когда его таким признало общество.
Через три года они отдыхали дикарями на берегу Черного моря – сама же Рита и предложила. До ближайшего жилья километров десять. Купались, плескались, Рита была счастлива, а он ее ненавидел за то, что она считает, будто и он счастлив, за ее уверенность, что он никуда от нее не денется, а вечером в палатке будет платить дань – как раб, невольник, а откажется – виноват! И все произошло просто: он удерживал ее под водой несколько минут. Даже не душил, просто обнял сзади, обхватил, прижал ко дну, и все. Потом заявил в милицию. Никаких подозрений не возникло: мало ли тонут за сезон в этих местах? К тому же, Евгений беспрестанно плакал. Это была истерика – он плакал от счастья.
И стал, наконец, нормальным и здоровым, ясно увидел, что происходит вокруг. Мужчины благороднее – они просто живут, работают, делают какие-то дела, ходят по улицам. А женщины насквозь фальшивы и подлы, ничего не совершают просто так. Даже когда она всего лишь идет по улице, глядя перед собой, Притулов физически ощущает, как вместе с нею движется облако ожидания. Она ждет, она ждет постоянно и всегда, что подойдут, улыбнутся, скажут льстивые или ласковые слова, она – каждая – психически больна этим ожиданием. И все окружающие мужчины автоматически виноваты – тем, что не подходят, не улыбаются, не говорят льстивых слов. Не смотрят – уже виноваты. Нет их в том месте, где она идет и красуется, – и этим виноваты.
Чувство вины надоедает, но Притулову повезло, он нашел способ от этого избавиться. Ты ждешь – ты дождалась. Не в таком виде, как тебе хотелось? А кто сказал, что все будет только так, как ты хочешь?
Наталья засмеялась. Это Курков, скорее, ее изнасиловал – своим вниманием, своими ухаживаниями. А потом был тот странный день, который полностью хранится в памяти Натальи, как, впрочем, и другие дни, но – это объяснил ей однажды друг режиссера, компьютерщик – в архивированном виде; в мозгах человека, рассказал он, как и на жестком диске компьютера, хранится все, что он испытывал, переживал, видел, однако хранится на девяносто девять процентов в виде сжатых файлов (winzip, winrar – Наталья цепкой актерской привычкой запомнила странные слова), а при необходимости иногда разархивируются и предстают в полном виде, хотя и не во всех, конечно, деталях.
Это было утро, когда она проснулась ни с того ни с сего счастливой. Лежала и думала, что недалеко то время, когда она, проснувшись, будет видеть перед собой лицо красивого, любимого человека. Она подняла руку и поправила воображаемые волосы на воображаемом лбу. Тут позвонил Курков и предложил поехать на пляж. Она поехала – как бы не с Курковым, а с воображаемым красивым и любимым человеком. Там она играла со случайной компанией в волейбол, бегала вдоль берега, стройная, загорелая – как бы не перед Курковым, а перед воображаемым красивым и любимым человеком, который сейчас любовался бы ею. Потом они ходили по городу, забрели в городской парк, где все аттракционы уже закрывались, в том числе – колесо обозрения. Курков, обычно не слишком решительный, договорился со служителем, чтобы тот согласился запустить колесо еще раз. Служитель долго хмурился, отнекивался, но Курков что-то ему пошептал и сунул в руку деньги. Тот пошел к своим рычагам, а Леонид и Наталья забрались в кабинку, стали подниматься.
И наверху колесо остановилось.
– Это ты ему сказал? – догадалась Наталья (что-то в этом роде она еще на земле предвидела).
– Да.
– Зачем?
– Сейчас узнаешь.
И Курков объяснился ей в любви и предложил выйти за него замуж. Он сделал это замечательно – как сделал бы красивый и любимый человек. Наталья Леонида не любила и в других обстоятельствах отказала бы, но очень уж жаль было, что пропадет такой момент. Объяснение в любви красивого любимого человека на колесе обозрения, когда оно остановилось, а пустые сиденья покачиваются, а на небе появилась первая звезда, а ветер одновременно и теплый, и прохладный, а в душе одновременно и печально, и радостно – любимый и красивый человек, возможно, еще появится, а вот такого момента может уже и не быть. И она согласилась.
Позже, когда с нею приключился первый роман, она различными ухищрениями затащила своего кавалера (красивого и любимого) в парк. Кавалер, как выяснилось, боялся высоты. Наталья с трудом уговорила его – все надежно и абсолютно безопасно! А сама, пока он стоял за билетами, подошла к служителю и, сунув ему деньги, попросила хотя бы на несколько секунд остановить колесо. Тот согласился. И вот зависли наверху. Кавалер вспотел.
– Ничего не хочешь сказать? – спросила Наталья.
– Почему мы застряли? – спросил кавалер. – Крикни сторожу, или кто там у них.
– Сам крикни.
– Я вниз не хочу смотреть. Говорил тебе…
На этом первый роман и кончился.
Смешно сказать, но был и еще один роман, и еще раз Наталья попыталась повторить чудо. И все сошлось: вечер, пустое колесо обозрения, только они вдвоем, остановка, молодой и красивый любовник признается в любви, обнимает, целует, но – увы. Приятно было, да, а той радости, почти даже восторга, какой она испытала с нелюбимым и не очень красивым Курковым, – не было.
«Жизнь загадка, вот что гадко», – сказал какой-то юмористический поэт.
Наталья не стала оправдываться перед посторонним мужчиной, да еще и маньяком, спорить с ним она тоже не собиралась, поэтому ответила:
– Да, конечно, изнасилование. Связала и надругалась. С особым цинизмом. Правда, Леня?
Это не понравилось Притулову.
Наклоняясь к Наталье с неизвестным намерением, он сказал:
– Шучу здесь только я!
Но Маховец взял его за плечо, удерживая:
– Вообще-то мы все тут шутим, Женя.
– Они с ума сошли, – шептала Нина. – Там женщина убитая, а они… Я не выдержу, я им все скажу.
– Что ты им хочешь сказать, они и так знают, – сказал Ваня, видя, как милиционер почти уже перетер веревку.
00.40
Авдотьинка
Тепчилин, презиравший, как уже было сказано, безнравственность, подразумевал преимущественно половые отношения, а также личное поведение, связанное с бытом. Когда женщина с кем попало, когда человек врет своим близким или не держит слова, когда ленится, – это безнравственно, потому что проявление слабости. Сила хотя бы право имеет, а безнравственность основана на пустом месте, что Тепчилина всегда и возмущало. Может человек не развратничать, не врать и не лениться? Может. А вот если его, Тепчилина, урезают в зарплате, обсчитывают, норовят зажать каждый рубль – это безнравственно? Нет, хотя и обидно. Потому что тут понятно, какая у людей основа так поступать. Они делают себе на пользу. Кто ж виноват, если мир так устроен, что все, делаемое себе на пользу, идет другим в некоторый вред? Стоя в очереди, ты уже вредишь тому, кто стоит за тобой, потому что ему мешаешь. А если он впереди, вред тебе. Если бы сам Тепчилин стал бригадиром или нарядчиком, он точно так же ужимал бы у рабочих каждый рубль.
Слушая, как работяги обсуждают существующие порядки, начальство, правительство, президента и т. п., Анатолий только усмехался: переменяйся вы местами, все будет точно так же. Не надо врать никому и самому себе: кроме выгоды, ничего на свете не существует, и если человек перестанет думать о своей выгоде, он перестанет быть человеком.
Нетрудно заметить, что этими мыслями Тепчилин вполне сходен с Желдаковым. Да и многим другим тоже. Это в литературе неправильно. Если один толстый, то другой тонкий, если один брюнет, другой блондин, если один флегматичный добряк, то второй желчный злобяга. Но, увы, в жизни сплошь и рядом не так. В жизни может в одном месте сойтись удивительное количество похожих и даже одинаковых людей, братьев по духу или по отсутствию его, это уж у кого как.
Тепчилин удивлялся, почему пассажиры не понимают, что надо сидеть, молчать и не раздражать. Люди сбежали из тюрьмы. Как они попали туда, дело прошлое и не наше. Но они на все готовы, и это надо учитывать. Вел бы себя Тепчилин на их месте так же? Конечно. И все бы так вели.
И, когда Маховец и Притулов после разговора с Натальей шагнули к нему, у него был готов спокойный и взвешенный отчет:
– Работаю на стройках, материал потаскиваю. Все потаскивают. У кого ремонт, у кого дача.
– Святое дело! – одобрил Маховец. – Это еще с советского времени у нас повелось. На сколько наворовал? В смысле срока?
– Года на два.
– Ну и получи, – сказал ему Маховец почти по-дружески.
Притулов, продолжавший игру в проницательность, заглянул в глаза Тепчилина, но ничего там, кроме правды, не увидел.
Меж тем Тепчилин был самым настоящим убийцей, но настолько этого не осознавал, что даже не вспомнил.
У него имеется очень хорошая и разумная черта: он считает, что обо всем можно договориться. Но если уж договоришься, будь добр, держи слово. С Варей, например, когда приедет, Анатолий первые дни насыщается половыми отношениями как попало, но через несколько дней просит пойти ему навстречу и, как он выражается, ибо не знает других выражений, «дать ему раком». Варя очень почему-то не любит этой позиции. Но все же соглашается, заставив его несколько раз сходить в магазин и на рынок, сделать что-то по дому. Ну, а после этого, дескать, ладно. В пятницу.
И настала такая пятница. С утра было очень жарко, солнце пекло в окна, выходившие на восточную сторону, Тепчилин налил трехлитровую банку воды, поставил в холодильник и время от времени доставал и пил прямо из банки, обливаясь и радуясь прохладе. Смотрел по телевизору разные передачи, удивляясь, как всегда, обилию выступающих там идиотов. К вечеру стало прохладнее. Жена пришла с работы. Тепчилин поглядывал на нее ласково. Она отводила глаза. Тепчилин распалялся. Но он знал, что до темноты Варю не упросишь. Она дождется хотя бы густых сумерек и задернет плотные шторы, которые, быть может, специально купила на такой случай. Тепчилин не в претензии, общие контуры он все равно видит, а больше и не надо, потому что при ярком свете вечно на глаза попадется не то, что хочется рассматривать. И вот настали сумерки. Тепчилин встал с кресла. Варя, лицом серее этих сумерек, сказала:
– Толя, ты прости. Мне старуха одна сказала: сегодня нельзя.
– Какая старуха? – улыбался, не веря такой подлости, Анатолий.
– Ну, одна, у нас там. Она верующая и понимающая. И мне все объясняет. Нельзя.
– Ты, что ли, в церковь ходить начала?
– Хожу. А давай завтра вместе пойдем?
– Может, и пойдем, – не стал отпираться Тепчилин, помня, что церковь – это нравственно. – Но ты же обещала.
– Завтра, Толя.
– Нет, постой. Ты обещала или нет?
– Я тогда не знала.
– Меня не колышет, знала ты или нет! Ты по-человечески мне скажи, а не гавкай, как собака, одно и то же: обещала или нет?
– Ну, обещала.
– Тогда в чем дело?
– Нельзя, Толя.
– Да почему нельзя? – злился все больше Тепчилин. – Вот я, почти готов, вот ты – только раздеться, вот постель – почему нельзя? Кто мешает?
– Бог, – ответила Варя.
– Кто?!
Тепчилин очень удивился. Бог никогда еще не возникал в его жизни с такой ошеломительной реальностью. Он вообще Бога не понимал и, пожалуй, в него не верил. Церковь уважал и считал ее полезной – она помогает людям заняться чем-то спокойным, ни для кого не обидным. Все лучше, чем водку пить. Тут у него было, как это часто случается у безликих и серых людей, абсолютно оригинальное мнение. Большинство-то как раз считают, что где-то какой-то Бог есть, а вот всякие религии – только морока и раздор, путают людей, путаются друг у друга под ногами и никак внятно не могут объяснить, почему люди, верящие в Бога так-то, попадут в рай, а верящие в Него же по-другому, в рай не попадут, как бы ни старались. А Тепчилин, считая Бога выдумкой, выгодной людям, ценил и уважал эту выдумку: заставляет если не всех, то хотя бы некоторых иметь совесть.
И если бы у Вари хватило догадки сказать, что запрещает церковь, а не Бог, Тепчилин, возможно, еще смирился бы, хотя тоже не факт, а вмешательство того, кого и на свете-то нет, его возмутило.
Он разозлился, выпил водки и полез на Варю.
Та яростно сопротивлялась – будто первохристианка, сравнил бы Тепчилин, если бы когда-нибудь слышал о первохристианах.
Пришлось ее ударить. Она потеряла сознание и уже не мешала. Зато никак не держалась в требуемой позиции.
Но как только завозилась, замычала, застонала, приходя в себя, Тепчилин тут же поставил ее нужным образом и исполнил задуманное.
А убийство случилось на стройке. Тепчилин работал на одиннадцатом этаже, увидел, как молодой напарник Ильдар собирается вниз, и попросил его купить бутылку воды. Денег дал. Ильдар ушел и исчез на целый час. Трепался, наверное, с уличными девушками. А потом вернулся с сигаретами – за ними и спускался. А воду забыл. Анатолий очень обиделся.
– Не хотел принести, не обещал бы, – сказал он.
– Да забыл просто!
– Не хотел бы, не брал бы денег, – гнул свое Анатолий. – А ты денег взял. Смеешься надо мной.
– Да возьми ты свои деньги! – Ильдар швырнул ему пару мелких бумажек.
– Я тебе сейчас кину, – сказал Тепчилин. – Я сейчас тебе так кину!
И бросил в Ильдара куском засохшей штукатурки. Потом металлическим прутом.
Не попал – да не очень и хотел.
Но Ильдар напугался, бегал у края и кричал: – Хорош, хватит, схожу я тебе за твоей водой! И оступился по неопытности, не чувствуя расстояния до края (Анатолий его всегда чует – даже спиной). И упал.
Было, как положено, следствие. Все подтвердили, что отношения Анатолия и Ильдара складывались спокойно, приятельски. Молодой следователь, жаждавший эффектного расследования, даже проверил Тепчилина на детекторе лжи, задавая дурацкие вопросы: «Сейчас лето?», «Вы любите мороженое?», «Лед холодный?», «Вы любите собак?», «Сегодня двадцать шестое?», «Вы убили Ильдара?»
Тепчилин ответил: «Нет!» – и аппарат «Полиграф» не зафиксировал вранья, потому что он ведь и в самом деле не убивал Ильдара. И никогда не чувствовал, что убил, хотя жалел веселого и добродушного паренька. Конечно, юридически, если бы докопались, происшествие могло сойти за преступление, но Анатолия это не смущало и не волновало. Юридически все можно доказать.
00.45
Авдотьинка – Шашня
Самозванные судьи хотел пройти мимо Татьяны Борисовны Лыткаревой, но она их сама остановила:
– Куда это вы? А меня судить?
– Неужто и вы, бабушка, нагрешили?
– Да, – твердо ответила Лыткарева. – Родила такого же сволоча, как вы.
Ей не так просто это было выговорить вслух, но она хотела это выговорить. Глядя на то, что происходит в автобусе, ужасаясь, боясь, переживая, она все сравнивала с сыном – и первые часы ей казалось, что вот именно от таких подлецов он и пострадал, они его и сманили.
При этом она не могла отвести от них глаз – о чем-то догадывалась и никак не могла догадаться.
И вдруг поняла: она видит сына в словах Маховца, в повадках Притулова, в веселости Петра, в невинной жестокости Личкина и даже в хмурости замкнувшегося Федорова, отделившего себя от всех. Она видит сына – и всегда видела его таким, только не хотела себе в этом сознаться. Не его сманили, он сам сманит кого угодно (Лыткарева вспомнила, как не могла ему отказать, если он начинал убедительно просить выпивки или денег), он там хозяйствует и чувствует себя свободно, в этой воровской и поножовочной жизни, он сам кого-нибудь вот так же, как эти, мучает.
У них была игра, когда сын был маленьким: мать называла его в третьем лице. Неизвестно почему. Просто нравилось.
– И чего он хочет? – спрашивала мать сына.
– Пить хочет.
И так привык, что сам подходил и говорил:
– Он пить хочет.
Или:
– Он гулять хочет.
И долго это сохранялось, в добрые свои минуты сын, уходя, улыбался и говорил матери:
– Он гулять пошел! – напоминая ей о том, что было. И на сердце у нее теплело на весь вечер – до его прихода.
У Лыткаревой было хорошее, доброе детство, и сыну она постаралась устроить такое же. Поэтому ей казалось, что в детстве вообще все хорошие и нормальные, а взрослая жизнь – это болезнь, которой заболевают после детства и не могут уже вылечиться до самой смерти.








