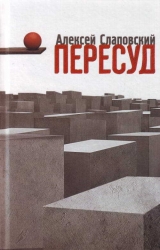
Текст книги "Пересуд"
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Нет.
– Тогда иди к нам. В автобусе у тебя будет шанс, я обещаю. Я кое-что придумал.
– Что?
– Не могу по телефону!
– А это реально?
– Перестань такие вопросы задавать, они же слушают!
– Понял. Вообще-то мне к ним неохота, – с тоской сказал Петр. – И я бы выпил сейчас еще.
– Дадим, – пообещал слышавший это полковник.
– Нет, – мотнул головой Петр. – С ментами пить совесть не позволяет, – сказал он не как сам по себе, а как некий придуманный герой, с которого он в данный момент брал пример, хотя и не помнил, в каком кино он этого героя видел или в какой книжке про него читал.
Полковник, естественно, не мог отдать Петра безвозмездно. Его не поймут. И он выдвинул встречное условие:
– Хорошо, берите своего, а двух выпустите! Желательно женщин! Или если болен кто.
– У нас все здоровые! – заверил Маховец.
– Человек ранен! – сказала Нина, показывая на Ваню.
– Да ладно тебе, царапина! – отнекался Ваня. Он не мог уйти. Ему было стыдно за свои выкрики, он собирался все переделать. Ему даже хотелось, чтобы автобус поскорее отпустили, чтобы они поехали дальше и Маховец с Притуловым закончили свой обход. Тогда-то и наступит его, Вани, очередь.
– Нельзя выпускать, – тихо сказал Притулов Маховцу. – Они скажут, что труп тут у нас.
– Не выпустим – Петр обидится и все равно скажет.
– А чего ему обижаться? Сам сюда не хотел.
– Сперва не хотел, а теперь захотел. Людей не знаешь? Они хотят того, чего хотят последнего.
– Верно, – кивнул Притулов Маховцу солидно – как умный человек соглашается с умным человеком. – А что у тебя за план?
Плана у Маховца не было, но ему не хотелось выглядеть болтуном, и он его тут же, с ходу, выдумал:
– Приезжаем в город. Там светофоры, машины. Встаем с тобой у двери. Потому что остальным, я вижу, свобода не очень нужна.
– Точно.
– Встаем у двери, – продолжал Маховец. – Заставим шофера ехать быстро. С поворотами. И где-нибудь выпрыгнем. Все-таки город, дома, закоулки всякие, лес за городом, а у нас оружие. Шанс есть.
– Облава будет.
– Пусть. Но шанс все-таки есть.
– Есть, – согласился Притулов. – А Петру что скажем?
– Скажем, что будем торговаться. Да неважно, он плохо соображает вообще, пьяный. А про труп – пусть узнают. Может, и не так плохо. Пусть думают, что у нас тут все серьезно и если что, мы еще кого-нибудь грохнем.
– Легко.
– Ну? – обратился Маховец к пассажирам. – Кого отпустим?
– А давайте всех! – сказал Сережа Личкин, который опять выпил и опять изрядно захмелел. – И поедем одни! В Сочи!
– Ага. Пять метров отъедем, и они всех нас постреляют.
– Да? А мы тогда сдадимся!
– Хочешь сдаться?
– Нет. Но что делать-то?
– Спать! – сказал Маховец.
– Спать я не хочу, – улыбнулся Сережа. – Я уже поспал. Я лучше еще выпью.
– Ну? – напомнил Маховец. – Кого?
– Нас с дочерью выпустите! – потребовала Любовь Яковлевна. – Она как раз и женщина, и больная, ей операцию делали, она кровью истекает! – сообщила она и бандитам, и пассажирам, чтобы не вздумали ее осуждать. Если бы она за себя просила, а то ведь за дочь!
Но Арина все испортила.
– Ничего я не истекаю, – сказала она. – Хочешь – иди одна.
– Вот, посмотрите на нее! – возмутилась Любовь Яковлевна. – Тебе что ли тут лучше?
– Да уж лучше, чем с тобой! – Арина наслаждалась возможностью говорить матери правду.
– Надо девушку эту отпустить, – сказал Мельчук, не уточняя.
Все поняли, какую девушку.
Но и Вика, как ни странно, отказалась, покачав головой.
– Иди, – повернулся к ней Тихон.
– Сам иди.
– Она добавки хочет! – захохотал Личкин.
– Что же это такое? – удивился Маховец. – Всем тут нравится? Мне это приятно, честное слово! И вам? И вам?
Он задал эти вопросы Наталье и Нине.
– Пошел вон! – презрительно ответила Наталья. Ее клонило ко сну, она откинула сиденье и уже впадала в пьяную дрему.
– Иди, Наташа, – попросил Курков. – Ты сама не понимаешь, что делаешь.
– Все я понимаю, отстань!
А Нина Маховцу не ответила. Она очень боялась того, что может случиться, но не хотела оставлять Ваню. То, что меж ними началось, может продолжаться только здесь, а там будет уже не так или вообще не будет.
– У меня мать болеет! – сказал Димон. – Отпустите меня. Она там умереть без меня может. Имейте совесть!
– Ну, иди, – разрешил Маховец. – Подойди к двери и жди. Кто еще?
– Иди, дура! – сказала Любовь Яковлевна дочери. – Христом Богом тебя прошу, иди!
– А почему женщины обязательно? – подал голос Тепчилин. – У нас равенство. И ты же говорил, – напомнил он Притулову, – что бабы вообще не люди.
– Я не так говорил, а если и говорил, то это я говорил, а ты помолчи! Давайте лучше господина Федорова отпустим!
– Федоров не заложник, – напомнил Маховец.
– Неважно. Зато как они ему рады будут!
Маховец понял ход мыслей Притулова. Федоров – личность известная. Случай попадет в газеты, он и без Федорова попал бы, а с Федоровым будет международная огласка. И ментам вряд ли нужно, чтобы он погибал в перестрелке, и они действительно будут ему рады.
В трубке завозился голос, как зажатый в кулаке кузнечик. Маховец поднес трубку к уху.
– В чем дело? – спросил полковник.
– Никто идти не хочет.
– Ты мне голову не морочь!
– Я серьезно, можешь сам спросить. Хочет только один мужчина, а еще мы Федорова предлагаем.
Полковник ответил почти без паузы:
– Ладно.
– Я согласия не давал, – сказал Федоров.
Полковник попросил Маховца дать трубку Федорову, тот повторил:
– Я останусь здесь.
– С народом? – догадался о его настроениях полковник.
– Да, с народом.
– Дело ваше. Быстро ответьте, без интонации, у вас все живые?
– Нет.
– Сколько? Черт, догадаются. Я буду сам говорить. Один?
– Да.
– Женщина?
– Да.
– Сволочи!
– О чем это вы? – подозрительно спросил Притулов. И быстрым движением выхватил трубку из руки Федорова.
– Слушайте, Андрей Алексеевич, – торопился голос полковника. – Если вы нам поможете, обещаю всяческое содействие. Лично буду хлопотать – вплоть до президента. Попробуйте поговорить с ними. Вы изнутри ситуации, у вас может получиться. Объясните: если сдадутся, то сядут обратно в тюрьму, если нет – убьем. Всех, даже если захватим живыми, убьем. Поняли меня?
– Понял, – ответил Притулов и подошел к окну, где была отодвинута занавеска, показывая себя полковнику.
– Черт! – сказал тот.
– Не ругайтесь при исполнении! – укорил Притулов. – Все равно убьете, говорите? Ну-ну. Посмотрим.
А Маховец чего-то не понимал – он ожидал, что сейчас начнется свара и драка из-за того, кто выйдет. Странно – ни свары, ни драки, никто не хочет выходить. Неужели до сих пор еще не верят, что им будет худо? Впрочем, не так уж удивительно – Маховец знал, с каким трудом человек верит в плохое. Уже у него нож в сердце торчит, а он все не верит, что умирает. Чаще всего именно это видел Маховец в угасающих глазах: изумление. Если бы глаза могли говорить, они бы крикнули: «Не верим!»
– Так, – сказал он. – Раз сами не можете решить, я решу. Пошел на место, – велел он Димону. – А ты слушайся мать, девушка. Иди быстро! И вы, мамаша!
Он схватил Арину за руку сильно, но без лишней грубости – так рассерженный отец мог бы схватить дочь. Она испугалась и выскочила в проход. Любовь Яковлевна тоже сноровисто, хоть и грузно, выбиралась из кресла.
Они подошли к двери.
– Мы держим женщин на прицеле, – сказал Маховец в телефон. – Подведите Петра.
Петра подвели.
Дверь открылась.
– Простите нас! – повернулась Любовь Яковлевна.
Они сошли, в автобус вбежал Петр, дверь закрылась.
Выйдя, Арина вдруг заплакала в голос и пошла к зданию бензоколонки, пошатываясь. К ней подбежали, взяли под руки, а она отмахивалась.
Любовь Яковлевна села на лавочку, взялась за сердце. Какой-то чин в форме подошел к ней, начал спрашивать. Она глядела и не понимала.
Послышался стук о корпус автобуса: заправляли.
Меж тем Артем едва справлялся с бурей сумбурных мыслей. Сначала он хотел выпрыгнуть и посмотрел на Козырева с этой мыслью, еле заметно кивнув в сторону двери: прыгнем оба? Козырев понял и покачал головой.
В самом деле, нельзя. Тут же начнется перестрелка, многих положат. А то и вообще все здесь взорвут, стрелять на бензоколонке – дело гиблое.
Артем начал прикидывать. Ну, хорошо, сейчас зальются бензином, двинутся. Милиция будет сопровождать и вести переговоры. Скорее всего, толку не выйдет – захватчики понимают, что им гроб по-любому. Они просто оттянутся напоследок, помотают всем нервы, а потом все равно начнется стрельба.
Размышляя, он вопросительно посмотрел на Козырева. И тот опять его понял. И шепнул, вернее, просто выговорил без звука: «В кювет».
Точно. Артем и сам повидал уже немало аварий, и Козырев ему рассказывал. Автобусы съезжают в кюветы в гололед и грязь, даже переворачиваются, но смертельные случаи при этом бывают не так уж часто, особенно если не на высокой скорости. Сделать надо так: съехать на ухабистую обочину, выкручивая руль. Когда автобус начнет трясти, бандиты не очень постреляют – при тряске это все равно что чай пить. А потом положить автобус на бок. Но об этом должны знать, к этому должны подготовиться.
И Артем, пока шли разговоры, вырвал листок из блокнота, что был засунут возле кресла, положил его на сиденье между ног, догадавшийся Козырев незаметно вынул ручку из кармана, передал. Артем, скашивая глаза сверху, вытянутой рукой нацарапал: «У Шашни переверну автобус, будте готовы». Подумал, правильно ли написал «будте», удивляясь, что в такой момент его это заботит, и все-таки пририсовал мягкий знак. Они поймут. Почему у Шашни, а не в чистом поле? Потому что там и силы дополнительные незаметно могут спрятаться, и машины «скорой помощи» подъедут – они наверняка понадобятся.
Написав, он свернул листок и некоторое время держал его в руке. Окно открывать нельзя – подозрительно. Тогда Артем закурил и, докурив, быстро приоткрыл дверь и выбросил бумажку вместе с окурком.
– Э, э, ты чего? – крикнул Притулов.
– Окурок выбросил.
– Взорвать нас хочешь?
Черт, подумал Артем, будь на месте Притулова кто-то поумней, мог бы догадаться. Действительно, какой водитель бросит окурок на бензоколонке?
Он видел, как один человек из окружения неспешно подошел к полковнику, будто что-то спросить, а потом двинулся обратно, достал платок – вытереть лоб, – уронил…
И, наверное, поднял вместе с ним бумажку.
Все в порядке.
– Ну что, продолжим прогулку? – бодро сказал Маховец.
Автобус тяжело, но плавно вывернул с заправки на трассу и поехал, сопровождаемый сзади и спереди машинами, которым теперь уже, естественно, не было смысла скрываться.
Из передней машины Артему помахали рукой.
Он понял: с его планом согласились.
01.30
Авдотьинка – Шашня
Осталось четверо, не сознавшихся еще в своих преступлениях – милиционер, Нина, Ваня и Вика.
Вика ждала, нож был готов.
Но Притулов обратился к милиционеру:
– Скучаем?
Коротеев, державший руки по-прежнему за спиной, прикидывал, что он может сделать. И понимал – пока ничего.
Да и поведение захватчиков сбивало с толку. Пересуд какой-то устроили. Ну, докажут, что каждый в чем-то виноват – удивили! Это и без опроса понятно. Но есть вина, ошибка, а есть преступление, есть сознательное нарушение закона, а есть – вынужденное нарушение, объяснимое обстоятельствами. Пример? Ну, хотя бы: брали они убийцу несовершеннолетней девочки, дожидались его всю ночь до утра, сидя у подъезда дома, куда он должен был прийти. Дождались, напали, схватили, тот ударил Коротеева в глаз и чуть не вышиб, за что Коротеев ответно вышиб из него душу вместе с жизнью. Виноват? В какой-то степени. Но кто осудит за смерть насильника? Выговор Коротееву, конечно, объявили, но этим дело кончились: все всё поняли. А некоторые открыто похвалили. Или другой случай: взяли подвал, в котором некий предприниматель, используя рабский труд приезжих таджиков, разливал в немытые бутыли воду из водопроводного крана, наклеивая этикетки известных фирм. Обыскивая закоулки и норы, сгоняя всех в центр подвала, к единственной лампе, наткнулись с напарником на тайник, где лежали пачки денег. Переглянулись – и взяли по пачке себе. Из такой кучи и не заметно было, могли бы взять больше, но имели совесть. Преступление? Скорее – случай. Ведь не по убеждению же, ведь не ворами залезли они в подвал в надежде на эти деньги. А у напарника, между прочим, на шее мать больная и сестра без мужа, с детьми, у Коротеева тоже двое малышей. Не взяли бы они деньги – не все причем, а малую толику, – пропали бы те в безднах государственной кассы – и, пожалуй, вернулись бы к другим жуликам, вот что обидно.
А Маховец и Притулов на милиционера особого зла не держали. Хоть они и не считали себя зэками, но зэческим духом прониклись, поэтому не считали ментов людьми – в хорошем смысле слова. То есть, относились к ним, как к функции. Вот везет тебя в неволю тюремный «воронок», будешь ты на него злиться? Нет – доля у него такая. И у служилой милицейской скотинки такая доля. Не любят следователей, оперуполномоченных – особенно в СИЗО, – так называемых «кумовьев», которые душу вынимают из человека, не любят слишком ревностных, не любят садистов, а к остальным относятся нормально. Маховец, когда отсидел первый срок и вернулся в родной район, однажды набрел с компанией на пьяного участкового, валявшегося в скверике, какой-то малолетка подскочил, чтобы пнуть его ногой под ребра, Маховец осадил, дал пацану по затылку, велел поднять мента и под руки отвести домой. Подручные уважительно выполнили: чуяли за этим какой-то солидный обычай. Маховец им объяснил потом: участковый – чернорабочий милиции, трогать его без причины – западло. Не будь милиции, втолковывал он им разумение, полученное на зоне, жизнь превратилась бы в сплошной беспредел (правда, он сам в этом ничего плохого не видел). Пацаны кивали, переглядываясь, усваивая новую мудрость.
Именно поэтому Маховец и Притулов, не сговариваясь, собирались обойтись с ментом формально. И вопрос Притулова был формальным, необязательным. Коротеев необязательно и ответил:
– Развеселишься тут.
– Давай, быстро докладывай, сколько душ загубил? – скомандовал Маховец.
– Пошел ты.
– Грубость при исполнении служебных обязанностей, – зафиксировал Притулов. – Уже виноват. Да нет, мы тебя и спрашивать не будем – нет мента, который не запачкался бы.
– Точно, – сказал Маховец. И объявил преждевременно: – Ну, граждане? Как в арифметике – что и требовалось доказать! Все мы сволочи! Есть возражения?
Он ждал и видел, что возражения будут – от Вани. Он догадался, что Ваня ждет. Он и сам ждал этого момента. Когда Ваня выкрикивал свои слова, Маховец услышал в них что-то большее, чем истерику, и даже большее, чем ненависть. Мальчик этот, догадался Маховец, ненавидит не столько его, Маховца, сколько то, чем Маховец живет и в чем уверен. То есть он покушался на смысл жизни Маховца, и Маховец не собирался оставить это безнаказанным.
Он даже не предполагал, чем была занята Ванина голова, пока тот дожидался его приближения. А узнав, загордился бы.
Впрочем, мысли Вани были не сегодняшние. Он в самом деле ненавидел не Маховца, а глубже. Из людей – только одного, но горячо и лично.
Он ненавидел, странно сказать, – Сталина.
01.35
Авдотьинка – Шашня
Никто из его прадедов и дедов не был репрессирован, отец тоже не очень пострадал от советского режима, все были людьми конкретных полезных дел, позволявших избегать тесного соприкосновения с системой: врачи, инженеры, техники. Конечно, система доставала, если хотела, всех и везде, но с родичами Вани как-то обошлось. И духа диссидентского в них не наблюдалось. Были, конечно, интеллигентски ворчливы, но в целом лояльны. Может, потому, что конца этому не предполагали – и не они одни.
На рубеже девяностых все возбудились, вспомнили о сталинских делах – вороша коммунистическое прошлое, но Ваня тогда еще был мал. А потом опять все утряслось, забылось.
Ваня вырос, стал студентом-историком – тогда-то и началось, причем не с исторических трудов, а с книги «Архипелаг ГУЛАГ», которую, кстати, педагоги не советовали рассматривать как достоверный источник. Для общего развития – можно почитать. Как и Шаламова.
Ваня принялся читать и Солженицына, и Шаламова, и других, удивляя сокурсников, которых эта тема если и интересовала, то по ходу сдачи зачета или экзамена, после чего благополучно уходила в пассивную память. Да и общественный интерес к этим вопросам затухал – не без помощи государственных структур. Вернее, интерес оставался, но минус явственно менялся на плюс: в Интернете, например, на один сайт разоблачительный приходилось не менее пяти апологетических и даже восторженных (со стихами и песнями в честь вождя) и столько же объективистских, что, как подозревал Ваня, еще хуже, типа: учитывая и невзирая, но имея в виду и отдавая должное. Да и опросы общественного мнения, которые проводились как бы ненароком, показывали, что население в своем большинстве Сталина не только оправдывает, но вполне одобряет.
Ваня не мог этого понять.
У Шаламова его поразил ужас безысходности, калечащего однообразия («руки скрючивались по кайлу, по тачке») и превращения человека в производственное животное. А у Солженицына он наткнулся на горькие недоумения, исполненные высокой наивности, которые всей душой разделил: как же так, ведь карающих и преследующих были хоть и тысячи и даже десятки тысяч, а остальных-то – миллионы! И ведь многие знали, понимали, чувствовали! Почему не вставали стеной, не отбивали, не бунтовали? Казалось бы, как просто: пришли ночью за человеком, а весь подъезд просыпается, сходится и спрашивает без преступного умысла, с простодушным советским любопытством: «А что это вы тут делаете?» Почему это было невозможно?
Действительно, почему? – думал Ваня. Как это вообще бывает, что разумное большинство заражается безумием от меньшинства и потакает ему? Или не настолько оно разумно? Или оно не большинство, а большинство как раз носит в себе некий тоталитарный вирус, который в любой момент может превратиться в пандемию?
И чем больше он узнавал о тех временах, тем сильнее мучила его загадка Сталина: кто он был – властолюбивый злодей и деспот, ненавидевший свободу, как считают либералы, предатель идеалов коммунизма, заменивший его авторитарностью, как полагают левые, великий руководитель и выразитель чаяний времени с неизбежными ошибками, в чем уверены государственники, разрушитель русской духовности, как мнится некоторым национал-патриотам, или просто больной человек, о чем делают выводы иные любители ретроспективной психопатологии?
Он представлял себя в том времени, которого не испробовал, думал о том, как он повел бы себя. И часто вел долгие мысленные беседы со Сталиным, причем представлял себе это в виде какой-то ненаписанной пьесы, и было у этой пьесы несколько вариантов [1].
Ваня против Сталина
Вариант первый
Ваня видит себя охранником. Они в сталинских обиталищах стояли на каждом углу. По свидетельствам, Сталин говорил, что, проходя мимо них, гадал: вот этот может выстрелить в спину, а этот встретит пулей в лицо. Никому не верил, всех боялся.
Ваня – последний охранник, стоящий у двери его кабинета. У Вани ключ от двери.
Сталин входит, остается один.
Все удаляются.
Государственная многозначительная тишина.
И тут Ваня открывает дверь, быстро проскальзывает, запирает дверь и подходит к Сталину, задумчиво сидящему за столом, то есть, возможно, и не задумчиво, но, когда человек за письменным столом, всегда кажется, что он размышляет.
– Иосиф Виссарионович, я должен с вами поговорить!
– Я вызову охрану и тебя расстреляют, – отвечает на это Сталин.
– Не успеете. Я убью вас. Поэтому не вызывайте охрану, а лучше послушайте.
– Ну, слушаю, – с усмешкой говорит Сталин.
И Ваня горячо и долго рассказывает ему о том, как хватают безвинных, хватают за мелочь, хватают по произволу, по навету, из-за личной мести, тащат в тюрьму, не дают адвокатов, пытают! Наши советские люди пытают наших советских людей!
– Не может быть! – ахает Сталин. – Ах они звери, звери! Ах негодяи!
И Ване кажется, что на усы Сталина капает скупая мужская слеза. А может, у него просто глаз заслезился от дыма знаменитой трубки?
– И как пытают? – спрашивает Сталин с соболезнованием.
Ваня описывает подробности пыток – и как раздевают женщин, как, наоборот, следовательницы-женщины раздеваются при допрашиваемых мужчинах, деморализуя их, как морят в карцерах холодом, жарой, голодом, жаждой, как мужчинам следователи наступают начищенными до блеска сапогами на половые органы и, глядя в глаза, придавливая все крепче, задают вопросы, как командарму Блюхеру вырвали глаз, поднесли на ладони и сказали, что, если не признается, со вторым глазом будет то же самое.
Сталин вынимает трубку изо рта и интересуется:
– И что он?
– Что?
– Признался?
– Не знаю.
– А я знаю.
– Вы были там?
– Это не обязательно, – уклончиво отвечает Сталин. – Товарищ Блюхер не только признался. Он сказал: «Как я могу лишиться второго глаза? Чем я увижу тогда дорогого и любимого товарища Сталина?» Так он сказал. Почему он так сказал?
– Потому что… – хочет ответить Ваня, но умолкает.
Сталин делает вескую паузу. Смотрит на Ваню. Ваня краснеет: все-таки перед ним пожилой человек, перебивать неудобно.
– Извините, – мямлит он.
– Извиняю. Так вот, почему он так сказал? Потому что его пытали? Потому что ему было больно? Нет. Он так сказал потому, что действительно боялся лишиться возможности увидеть дорогого и любимого товарища Сталина! И я это ценю!
– Зачем же вы его уничтожили, если цените?
– Предатель, – кратко отвечает Сталин, разжигая потухшую трубку.
– Какой же он предатель, если даже перед смертью так говорил, – хотя сомневаюсь. Но я знаю – действительно многие, кого вели на расстрел, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!»
– Лицемеры, – отзывается вождь.
– Нет, они искренне думали, что вы не виноваты, а виноваты ваши прислужники, что вы ничего не знаете!
– Все я знаю. Минутку. Ты считаешь, что я виноват? Как ты можешь считать, что я виноват, если даже они так не считают?
– Это ослепление! Это культ личности называется!
– Что? – удивляется Сталин.
– А то вы не знаете! Ваши портреты на всех улицах висят, в каждом помещении вместо икон, если каждый поэт про вас – поэму, каждый композитор – песню! И вы там – и отец, и брат, и сын, и чуть ли не всем мать! Просто какой-то, извините, Христос получается!
– А что, я хуже Христа? – лукаво улыбается Сталин – Христос, между прочим, сказал: «Идите и возвестите обо мне». Тоже любил, чтобы о нем поговорили. Это я шучу. А кроме шуток – мне самому не нравится. Я им сколько раз говорил: не надо, не пишите. Не слушают!
– Не говорить надо, а просто запретить!
– Не могу, дорогой мой! – разводит руками Сталин. – Как я могу что-то запретить? У нас демократия!
– Вы серьезно? – Ваня старается выдержать тон, хотя чувствует, что голова его горит, он уже совсем запутался.
– Конечно. Причем, социалистическая демократия! Ты, я смотрю, нахватался где-то чего-то, а фундаментальных знаний у тебя нет. Как тебя зовут, кстати?
– Ваня.
Сталин встает, подходит к Ване, кладет руку ему на плечо и начинает прохаживаться по кабинету, ведя рядом молодого человека. Ваня пытается подладиться, у него это плохо получается, он то спешит, то отстает, а Сталин ходит размеренно и втолковывает:
– Чем отличается социалистическая демократия от капиталистической? Она отличается тем, что там говорят человеку: делай, что хочешь. То есть – и хорошее, и плохое. Угнетай людей, развратничай – на здоровье. У нас не так. У нас так: делай, что хочешь, но только хорошее. А за плохое, не обижайся, будем наказывать. Скажи мне теперь, чья демократия лучше?
– Вы передергиваете! Там свобода ограничена законом! А у нас никакого закона, сплошной произвол!
– Постой. Закон, который позволяет эксплуатировать человека человеком, – хороший закон?
– А у нас государство эксплуатирует человека! Какая разница?
– Ты действительно не понимаешь разницы? Эксплуататор эксплуатирует на пользу себе, а государство – на пользу людям, то есть, получается, на пользу самому эксплуатируемому человеку, хотя я предпочел бы его называть трудящимся. А еще разница в том, что работник на хозяина трудится кое-как, а наш человек на государство – с энтузиазмом и подъемом.
– В какой вы кинохронике это увидели? – упирается Ваня. – Какой подъем, какой энтузиазм? Индустриализация, коллективизация – это же все рабский труд за копейки! Сплошная принудиловка, насильственные меры!
– А ты хочешь построить светлое будущее не работая? Да, приходится иногда командовать. Потому что человек, юноша, по природе слаб и ленив. Он иногда не понимает собственной пользы, собственного счастья. Успех строится на трех китах, говоря образно. Первый кит: народ должен видеть постоянные изменения и поражаться им. А каким образом эти изменения происходят, пусть даже на уровне чуда, – это не суть важно. Наглядность рождает веру. Второй кит: народ должен всегда чувствовать над собой государство, но при этом не понимать, как оно работает. Чтобы испытывать священный трепет. Будто стоишь у огромного механизма в цельнометаллической, знаешь ли, оболочке, слышишь, как что-то внутри тикает, жужжит и стучит, но не знаешь, что. Вот тогда народ будет уважать творцов и техников этого механизма. И это третий кит, сынок: авторитет. Высокий моральный авторитет руководителей и лично товарища Сталина, то есть меня, которого никто не смеет упрекнуть в нескромности, корыстолюбии и других нехороших вещах. Я – чернорабочий революции и мирового прогресса!
Сталин останавливается, идет к столу, берет бумагу и записывает только что произнесенные слова, которые ему понравились.
Ваня смотрит на него. Такой мирный, такой простой старик. Может, он в чем-то и прав. Действительно, история знает немало примеров косности людей, их неумения самоорганизоваться, их консерватизма и тупости…
Он пытается вспомнить, с каким основным вопросом пришел, трет лоб – наконец, вспоминает:
– Так, значит, вы все знаете? И про репрессии, и что люди живут в страхе, все давится цензурой, окриком, угрозой тюрьмы и ссылки, все говорят одно, а думают другое, ГПУ-НКВД стало больше государства, в стране господствует тоталитарный режим, знаете про это?
Ваня спрашивает решительно, преодолевая смущение. Да еще досада его берет, что выражается он как-то слишком казенно и газетно.
Сталин, дописав, поднимает на Ваню усталые глаза. И говорит:
– Я, конечно, давно мог бы тебя расстрелять…
– Винтовка у меня, – напоминает Ваня.
– Я мог бы давно тебя расстрелять, – с нажимом повторяет Сталин. – Но я объясню. Во-первых, классовой борьбы без репрессий не бывает, а мы окружены враждебным лагерем и, следовательно, чем сильнее наше государство, тем сильнее злоба врагов, как внешних, так и внутренних, тем больше обостряется классовая борьба. Во-вторых, люди живут не в страхе, а в уважении к закону. Они боятся совершить плохое – разве это неправильно? В-третьих, цензура, угроза тюрьмы и ссылки абсолютно необходимы в условиях, когда враги народа ищут любую щелку, чтобы расшатать здание строящегося социализма. Представь: строитель строит дом. Он специалист, он знает, как это делать. Но вдруг прибегает какой-то человек и начинает кричать: не так кладешь кирпич, не так мажешь раствор! Что с ним делать? Он мешает работать. Если заставить его помолчать – цензура, я согласен с такой цензурой. А если он начинает подбрасывать в раствор камешки и щепки, его надо в тюрьму.
– А вдруг строитель сам не знает…
– Помолчи! В-четвертых, карающие органы – не больше государства. Да, они в какой-то мере выведены из-под контроля, но только для того, чтобы на них не влияли. Они должны быть честными, свободными и непредвзятыми – как и суды, как и прокуратура.
– Но…
– Помолчи, слушай! – Сталин впервые чуть повысил голос, но тут же опять стал ровен и уверен. – В-пятых – да, я знаю, что есть в людях лицемерие, действительно, думают одно, а говорят другое. Но – привыкнут. Люди всегда так – сначала произносят слова, потом привыкают к ним, а потом начинают думать так, как говорят. Нормальный психологический процесс. Если будешь с утра до вечера твердить, что все дерьмо, так оно и покажется дерьмом. А если будешь убеждать себя, что вокруг цветущий сад, то…
– Однажды утром проснешься в цветущем саду?
– Я не настолько глуп, как тебе хочется. Нет. Возникнет желание насадить цветущий сад. В-шестых, – пунктуально продолжает Сталин (и Ваня поражается его памяти), – то, что ты называешь тоталитарным режимом, есть власть народа, власть пролетариата, крестьянства и советской интеллигенции, поручивших нам и лично мне вести народ по светлому пути, невзирая на вой шакалов империализма.
– Когда это и кто это вам поручил? – ухватывается Ваня за эти слова. – В стране давным-давно нет свободных выборов! И это – демократия?
– А что, есть кого-то еще выбирать? Назови этого человека, хочу узнать его имя! Действительно, давно пора сдать дела, а не знаю, кому.
– Никому вы их не сдадите! Нет, недаром вы сравнили себя с Христом!
– Это ты сравнил, – кротко улыбается Сталин.
– На самом деле вы считаете себя богом! Богом-отцом, то есть даже выше Христа! Вот почему вы сначала боролись с церковью, – догадывается Ваня, – а потом ее разрешили! Сначала вы опасались конкуренции Бога, а потом, когда увидели, что народ на вас молится и другой религии, кроме культа Сталина, нет и быть не может, вы разрешили Бога. Он для вас перестал быть конкурентом. И с виду это действительно так, многие действительно вами просто очарованы. Но не обольщайтесь, это доступно шарлатанам с некоторыми способностями! Кашпировский всю страну заставил головами крутить – что, и его великим человеком считать? Тоже богом?
– Какой Кашпировский?
– Вы его не знаете. Неважно.
– При чем тут бог? – пожимает плечами Сталин. – Я – Сталин, мне этого хватает. Я просто подумал: если кто-то верит, пусть верит. Если кто-то хочет ходить в церковь, пусть ходит. К тому же, они, церковники, стали понимать правильно многие важные вопросы. Они поняли главное: все, что делается, в том числе и кое-что жестокое, – все это делается для народа, для страны, для державы! И если ты, мальчик, этого не понимаешь, тебя надо перевоспитать! Пришел он тут мне глаза открыть! – встает Сталин во весь рост – и кажется при этом намного выше, чем есть на самом деле. – Кровь, пытки, репрессии, насилие, коллективизация, какой ужас! Знаю! И то, что многие палку перегибают, знаю! Что карательные органы сами иногда себя ведут преступно – тоже знаю! Но разница в том, что они борются за государство с теми, кто против государства, и за это я им все прощаю! Империя Российская пропадала – кто ее спас? Большевики! И я в том числе! Отбились от всех врагов, удержали, стали возрождать, а тут – троцкисты, сволочи, те же большевички старые заскулили, не понимая момента, – началась чистка! Дайте каменщику строить! Не даете – десять в зубы, пять по рогам! А с кем строили страну? С народом, который ничего нового не любит, который по крепостному праву плакал, когда его освободили, с народом, которого Петр Великий гнул об колено и сек, заставлял стать людьми – эх, Петька, Петька, не успел, не дорубил!








