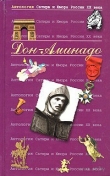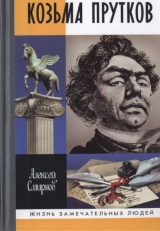
Текст книги "Козьма Прутков"
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Лирика – дело тонкое не только на Востоке, но и на Западе, но и в наших родных палестинах тоже. Один неудачный «словостык», одно неблагозвучие способны вызвать кислую мину на лице знатока, а одно неточное слово – погубить все стихотворение. Между тем доказать, какое слово точное, а какое нет, порой необычайно трудно. Здесь интуиция важнее логики. Здесь все решают психолингвистические нюансы, интонация, чувство языка. В лирике слово, звук связаны не только со смыслом, но и с эмоцией. Сложность этого вида творчества именно в том, что эмоциональный мир человека крайне богат и противоречив. К нему нельзя подходить с мерками логических построений. Его опасно анализировать, разнимать. От всякого разъятия он мертвеет. Он живет только в своей целостности, и лишь поэзия способна проникать в него, этой целостности не нарушая. Поэт – тот, кто в мире эмоционального хаоса выстраивает чувственный космос, воплощенный в слове.
Одной из формальных возможностей такого воплощения служит, между прочим, рифма. Тот факт, что текст можно организовать по формальному признаку – созвучию слов, освобождает поэта от жесткой смысловой зависимости, от тривиальных решений. Сознание, не скованное логическими связями, раскрепощается. Фантазия начинает работать не от смысла, но от звука. Музыкальность звучания, поддержанная регулярностью стихотворного размера, удаляется как от разговорных перескоков мысли, так и от логики банальных ходов. Почему столь утомляют «кухонные споры»? Не только в силу мелкости своих тем, но и потому, что суетливо скачут с предмета на предмет. А почему так раздражают речи сановников? Потому что они неопровержимо банальны; потому что их полнят расхожие клише ординарного мышления, тогда как ход лирического стихотворения и последователен, и оригинален.
Подумайте, какие ассоциации вызывает у вас слово крыльцо? Ступеньки, дверь, дом… И мысль сразу укладывается в привычное русло. А у поэта середины XIX века оно прежде всего притягивает к себе рифму: лицо.И привычная логическая связь (крыльцо – дом) разрушается. Вместо нее устанавливается звуковое соответствие (крыльцо – лицо), освобождающее от прежней смысловой зависимости. Однако со временем рифмы, будучи многократно использованы разными авторами, стираются. Тогда и смысловая раскованность снова теряется, уступая место вновь образовавшейся банальности. Вот почему так интересны свежие рифмы, рифмы-открытия. Они свежи не только в музыкальном плане, но, как правило, вызывают и содержательную новизну. Не часто встречаются такие изобретательные умы, которые способны вливать новое вино в старые мехи. В то же время искусственная погоня за необычными рифмами отталкивает, как все формальное, нарочитое.
Часто она ведет не к новому смыслу, а к выхолащиванию всякого смысла вообще.
Что связывается у нас со словом стужа? Наверное, холод, ветер, метель… Все это – логический ряд. А стихотворец начнет выстраивать музыкальный ряд, перебирая череду рифм, среди которых окажется вовсе не живописная метель, но обыкновенная лужа.И все же у поэта поиск рифм не превращается в самоцель, он идет как бы фоном, вед о мый образом, ведомый раскрывающейся сознанию картиной. Рифма помогает выбрать единственный вариант из всегда бесконечного числа возможных. Благодаря рифме выбор этот становится музыкально убедительным.
Посмотрим, как это случается у лирика.
* * *
Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,
В полуденных лучах следы недавней стужи
Дымятся. Теплый ветр повеял нам в лицо
И морщит на полях синеющие лужи.
Еще трещит камин, отливами огня
Минувший тесный мир зимы напоминая,
Но жаворонок там, над озимью звеня,
Сегодня возвестил, что жизнь пришла иная.
И в воздухе звучат слова, не знаю чьи,
Про счастье, и любовь, и юность, и доверье,
И громко вторят им бегущие ручьи.
Колебля тростника желтеющие перья.
Пускай же, как они по глине и песку
Растаявших снегов, журча, уносят воды,
Бесследно унесет души твоей тоску
Врачующая власть воскреснувшей природы! [358]358
Толстой А. К.Собрание сочинений: В 4 т. М., 1963. Т. 1. С. 201.
[Закрыть]
Музыкальное начало поэзии Толстого привлекало к себе внимание многих композиторов. На его стихи сочиняли романсы М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев, С. В. Рахманинов. В письме к Н. Ф. фон Мекк П. И. Чайковский заметил: «Толстой – неисчерпаемый источник текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов» [359]359
Чайковский П. И.Переписка с Н. Ф. фон Мекк: В 3 т. М.; Л., 1935. Т. 2. С. 360.
[Закрыть]. Надо признаться, что поэту служить «источником текстов под музыку» не самая большая честь. Поэзия – искусство музыкальное, и музыкальность ее самодостаточна. Вся музыка уже заключена в ней самой. Вокальное сопровождение для нее необязательно, а порой и излишне. Вместе с тем романсовый характер многих стихотворений Толстого очевиден.
Тонкость лирики предполагает тонкость лирика. Научиться рифмовать может любой грамотный человек. Почему же тогда поэтов куда меньше, чем рифмотворцев? Потому что, прежде умения подыскивать рифмы, требуется прочувствовать язык во всех его нюансах; ощущать мир во всех его проявлениях: и реалистически – таким, каков он есть, и романтически – таким, каким я хочу, чтобы он был; и мистически – таким, каким видит его Бог. Причем это мирочувствование и это в и дение невозможно вызвать в себе никакими ухищрениями. Его не дают ни богатство, ни университеты, ни кругосветные путешествия, ни головокружительная карьера, ни счастливый брак. Оно кладется в колыбель, а потом развивается или не развивается в человеческой душе. И встречается настолько редко, что у каждого народа его поэтические гении окружены почти священным трепетом. Правда, как правило, признание к ним приходит не при жизни. Слишком часто они непредсказуемы, неудобны, а то и опасны. Тогда власть их гонит, а плебс над ними смеется.
Однако случай Толстого оказался исключительным. Его феномен состоял в том, что власть, наоборот, всячески его привечала, а он сам ее сторонился, чтобы не сказать бежал. Неповторимость ситуации сводилась к тому, что любым должностям и званиям – военным, штатским, придворным – он предпочитал частную жизнь художника. Что касается гражданской позиции, то здесь Толстой избрал аристократическую фронду государственным бюрократам. Его тянули на почетные должности, а он отказывался. При этом, как мы знаем, он был убежденный монархист. Он терпел Николая Палкина и любил Александра II, с которым был дружен всю жизнь. Но это не мешало ему говорить царю нелицеприятную правду. Его сатиры против существующего порядка вещей расходились в списках по всей России. Однако он никогда не «зацикливался» на «проклятых вопросах». Это была необыкновенно широкая и богатая душа, очень светлая и нежная.
В пятнадцать лет, впервые доверяя свои чувства бумаге, Толстой записал восемь строк – восемь неловких отроческих строчек, наивных, с трогательным сбоем ритма в четвертой, абсолютно подражательных. Вместе с тем эти дышащие искренностью строки оказались пророческими, как оно бывает у больших поэтов, которые вовсе и не думают пророчить, – просто молитвенная сила их стремлений доходит до Высшего слуха и спустя десятилетия становится их земной судьбой.
* * *
Укорененность Толстого в мировой культуре и его литературный дар позволяли ему легко осваивать разнообразные формы европейской поэзии. Спустя четверть века после первого опыта он создал гомеровским гекзаметром стихотворение, проникнутое мыслью, которая, вероятно, служит апологией художественного творчества.
* * *
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.
Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса!
Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву,
Ласковый, царственный взор из-под мрака бровей громоносных?
Нет, то не Гете великого Фауста создал, который,
В древнегерманской одежде, но в правде глубокой, вселенской,
С образом сходен предвечным своим от слова до слова.
Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный,
Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов,
Плач неутешной души над погибшей великою мыслью,
Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса?
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.
Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный.
О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем,
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен,
Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье,
И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины,
Выйдут из мрака всё ярче цвета, осязательней формы,
Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье…
Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье,
И, созидая потом, мимолетное помни виденье! [361]361
Там же. С. 128.
[Закрыть]
Все образы – Божьи, а мы, следуя духу Творца, лишь извлекаем их из духовного пространства. Мы не творим дух, но мы творим в духе.
* * *
Особенно близка Толстому славянская составляющая мирового духа. Насколько часто и подолгу жил он в европейских столицах, настолько же часто обращался к славянским образам, к истории древних славян, начиная с хрестоматийных «колокольчиков», не утративших свою степную прелесть и не увядших вплоть до наших дней.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!
<…>
Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак,
С бритой головою,
Молча свой натянет лук,
Лежа под травою,
И меня догонит вдруг
Медною стрелою? [362]362
Там же. С. 58.
[Закрыть]
<…>
Такое ощущение своих корней крайне любопытно на фоне толстовского «западничества», на фоне того, что в сознании славянофилов он оставался убежденным европейцем. Этот европеец, западник создает баллады, притчи, былины на материале славянского фольклора – в том числе такой маленький шедевр, как «Илья Муромец», где былинный склад и лад, словно драгоценный камень, бережно вставлен в оправу короткого рифмованного стиха.
1
Под броней с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья.
2
Едет бором, только слышно,
Как бряцает бронь,
Топчет папоротник пышный
Богатырский конь.
3
И ворчит Илья сердито:
«Ну, Владимир, что ж?
Посмотрю я, без Ильи-то
Как ты проживешь?
4
Двор мне, княже, твой не диво!
Не пиров держусь!
Я мужик неприхотливый,
Был бы хлеба кус!
5
Но обнес меня ты чарой
В очередь мою —
Так шагай же, мой чубарый,
Уноси Илью!
6
Без меня других довольно:
Сядут – полон стол!
Только лакомы уж больно,
Любят женский пол!
7
Все твои богатыри-то,
Значит, молодежь;
Вот без старого Ильи-то
Как ты проживешь?
8
Тем-то я их боле ст о ю,
Что забыл уж баб,
А как тресну булавою,
Так еще не слаб!
9
Правду молвить, для княжого
Не гожусь двора;
Погулять по свету снова
Без того пора!
10
Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит;
От царьградских от курений
Голова болит!
11
Душно в Киеве, что в скрине,
Только киснет кровь!
Государыне-пустыне
Поклонюся вновь!
12
Вновь изведаю я, старый,
Волюшку мою —
Ну, же, ну, шагай, чубарый,
Уноси Илью!»
13
И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;
14
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор [363]363
Толстой А. К.Собрание сочинений: В 4 т. М., 1963. Т. 1. С. 314.
[Закрыть].
У нас есть основания считать, что «Илья Муромец» – это своего рода автопортрет Алексея Толстого – богатыря, удальца, свободолюбца, тяготившегося царским двором. Без большой натяжки былину можно было бы прочитать и так:
Под броней с простым набором
На чубаром, – эй! —
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Лексей.
«Правду молвить, для царева
Не гожусь двора [364]364
Для двора Александра II.
[Закрыть];
Погулять по свету снова
Без того пора [365]365
Рим, Берлин, Париж, Лондон…
[Закрыть].
Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит [366]366
Зимнего дворца.
[Закрыть].
В Петербурге от курений
Голова болит!
Душно, душно в нем, как в скрине [367]367
В сундуке, ларце.
[Закрыть],
Только киснет кровь!
Государыне-пустыне [368]368
Своей любимой Пустыньке.
[Закрыть]
Поклонюся вновь!
Вновь изведаю я, старый,
Волю да коня.
Ну, же, ну, шагай, чубарый,
Уноси меня!»
* * *
Между тем «Илья» (Алексей) время от времени возвращался ко двору. Например, для того, чтобы представить императрице свой роман «Князь Серебряный». Надо признать, что у знатоков он котировался не слишком высоко. Его считали русским подражанием Вальтеру Скотту – некой облегченной версией известных исторических событий. Однако при дворе и у читателей роман пользовался большим успехом. Это литература из разряда добротно популярной. Рекомендуя перевести роман во Франции, Тургенев отмечал, что «Князь Серебряный» хорошо построен и хорошо написан. Что касается отношения автора к личности одного из персонажей романа – Ивана Грозного, то для него Иван – прежде всего деспот, а деспотизм абсолютно неприемлем. Толстой пишет, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иван IV, сколько от того, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без гнева.
Однако главная заслуга Толстого как интерпретатора русской истории состоит в создании им драматической трилогии: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».
При всей своей пристрастности к событиям давних времен и критическом отношении к тому, что происходило с Россией на его глазах, при всем соблазне обрядить в боярские кафтаны своих современников и обиняком, под прикрытием древности, высказаться о днях текущих, Толстой отказался от такого эффектного, но по существу жульнического приема как аллюзия (прозрачный намек). Чутьем художника он уловил, что трагедия не есть предмет для маскарада; что аналогии между прошлым и настоящим, если они возникают, должны возникать непроизвольно – автор не имеет права умышленно их задавать; это нечестно. Писатель должен быть нацелен на художественное исследование прошлого, а не на погоню за его соответствиями злобе дня. Последнее – удел перекупщика, спекулянта, шулера.
В таком подходе у Толстого был самый авторитетный союзник. Из письма издателю «Московского вестника» следует, что Пушкин с иронией замечал по поводу французской tragedia des allusions(трагедии аллюзий): она пишется со свежей газетой перед глазами, чтобы шестистопными стихами заставить Сциллу, Тиберия, Леонида поведать мнение автора трагедии о современных ему, автору, деятелях.
Но, благополучно избежав соблазна критиковать власть нынешнюю под маской возмущения властью прежней, Толстой уклонился и от противоположного искушения: возвеличивать прежнюю власть с намеком на безупречность нынешней. К подобному приему обращались и обращаются все, кто обслуживает средствами искусства высшее начальство; кто льнет ко двору, стремясь потрафить вкусам и желаниям правящей персоны; кто, подобно Н. В. Кукольнику, готов презреть сочинительство и, как уже упоминалось, стать хоть акушером, ежели на то будет воля императора [369]369
Из письма В. А. Жемчужникова А. Н. Пыпину. См.: Сочинения Козьмы Пруткова. М., 1959. С. 354.
[Закрыть].
Позиция придворного льстеца была для Толстого столь же отвратительна, как и роль бутафорского критикана.
У него сложился собственный взгляд на русскую историю. Он чтил новгородское вече и проклинал созданное Иваном Грозным вероломное Московское царство. Едва ли не самым значительным персонажем отечественной истории Толстой считал Бориса Годунова, и по первоначальному замыслу трилогия фактически посвящалась ему. В письме своей немецкой переводчице Каролине Павловой Толстой сообщает, что первая часть трилогии «Смерть Иоанна Грозного» «только пролог к большой драматической поэме, которая будет называться „Борис Годунов“. Прошу прощения у Пушкина, но ничего не могу поделать. „Царь Федор“, которого я в настоящее время пишу, средняя часть этой поэмы…» [370]370
Толстой А. К.Собрание сочинений: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 167.
[Закрыть]. Однако именно средней части (возможно, вопреки ожиданиям автора) суждено было стать узлом всей трилогии, ее творческой вершиной и украшением репертуара русских театров по сей день, то есть на протяжении полутора столетий. По мнению А. И. Солженицына, Толстому удалось создать одну «из лучших пьес русской драматургии», а Федор Иоаннович «получился – из самых значительных образов русской литературы» [371]371
Солженицын А. И.Алексей Константинович Толстой – драматическая трилогия и другое // Новый мир. 2004. № 9. С. 139.
[Закрыть].
Интригу «Царя Федора» Толстой определил так: «Вот ситуация: две разные силы (Борис Годунов и Шуйские) находятся в состоянии антагонизма и борются друг с другом в царствование Федора. От него зависит, чтобы восторжествовала та или другая сторона, но из-за своей слабости и доброты он колеблется между ними, заставляет ту и другую действовать auf ihre eigene hand (по своему усмотрению. – А. С.),что в конечном итоге приводит к угличской катастрофе» [372]372
Толстой А. К.Собрание сочинений: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 166–167.
[Закрыть]. Здесь уловлена удивительная вещь. Федор Иоаннович – христианнейший из всех царей, воплощение кротости и доброты, полная противоположность столь ненавистной Толстому тирании на троне, не хочет никого подавлять: ни Годунова, ни Шуйских. Он жаждет мира и согласия. Но именно бесконечная доброта Федора, по мнению Толстого, становится причиной гибели царевича Дмитрия. При этом новая мамка царевича, подысканная ему Годуновым, боярыня Василиса Волохова – «прелестнейшая женщина», Федор – кротчайший царь, а «Дмитрий убит, Битяговский в клочья разорван толпой, Иван Петрович (Шуйский. – А. С.)и двое его братьев задушены, несколько дворян и трое купцов – сторонники Шуйских – казнены» [373]373
Там же. С. 170.
[Закрыть]. Вот сарказм истории, по которому наказуемой оказывается невинность, а источником зла – доброта.
Противоположным образом поступает Годунов, решающий для себя, хороша или дурна в политике открытость намерений. И когда боярин Захарьин советует ему выбрать прямоту, Борис мысленно отвечает ему так:
…Легко тебе, Никита
Романович, идти прямым путем!
Перед собой ты не поставил цели!
Спокойно ты и с грустью только смотришь
На этот мир. Как солнце в зимний день,
Земле сияя, но не грея землю,
Идешь ты чист к закату своему!
Моя ж душа борьбы и дела просит:
Я не могу мириться так легко,
Я не могу царево (Ивана Грозного. – А. С.)самовластье,
Раздор бояр, насилье, казни видеть —
И в доблести моей, как в светлой ризе,
Утешен быть, что сам я чист и бел! [374]374
Там же. С. 169.
[Закрыть]
Борису нестерпимо видеть плоды самовластия, а тем временем сам он идет именно к нему и пробивает себе дорогу теми же способами, которыми Иоанн творил свои лютые бесчинства, – потому что Борис понимает: в светлой ризе никогда не достичь ему власти. Здесь Толстой ставит вопрос личного выбора: либо поступись чистотой ризы, либо сохрани непорочность, но останься не у дел. И все же необыкновенный эффект нашего сравнительного восприятия Бориса и Федора состоит в том, что Борис – умный, осторожный, ловкий, «окольный» политик – менее интересен и близок нам, нежели прямой, безыскусный, простодушный царь – полублаженный на троне. Здесь обозначена этическая дилемма, встающая перед человечеством в самые разные моменты истории: мы хотим сильного правления, однако нам ненавистны грязные ризы. Они оскорбляют наше нравственное чувство, причиняют душевную боль, заставляют стыдиться за тех, кто, облачившись в них, делает вид, будто они сияют белизной.
Сценическая судьба трилогии складывалась непросто. В письме 1868 года Б. М. Маркевичу Толстой сообщает о том, что, будучи в Орле, он встретил вернувшегося из Петербурга директора орловского театра, и тот передал, что Комитет по делам печати безусловно запретил к постановке в провинции «Смерть Иоанна Грозного», тогда как разрешение на постановку пьесы А. Н. Островского и С. А. Гедеонова «Василиса Мелентьева» почему-то отдано на откуп губернаторам. Этот произвол вызвал у Толстого целый иронический каскад. Он пишет: «Пьесы разделены на несколько категорий: одни разрешены только в столицах, другие – в провинции, третьи – в столицах и в провинции, четвертые – в провинции с утверждения губернатора. Это весьма напоминает формы парадную, праздничную, полную праздничную, полную парадную, походную праздничную(в поход как на праздник! – А. С.)и парадную походную (в поход как на парад! – А. С.).Несколько наших лучших генералов сошло с ума от такой путаницы, несколько впало в детство – всё застегиваясь да расстегиваясь, двое застрелилось. Сильно опасаюсь, как бы не случилось то же с губернаторами, как бы они не замычали и не встали на четвереньки.
Дорогой Маркевич, давайте представим Тимашеву (министру внутренних дел. – А. С.)проект разделения нашего репертуара на пьесы, которые можно будет играть в городах губернских, но не уездных, пьесы, которые будут играться только в заштатных городах, потом такие, которые можно будет давать в губерниях хлебородных и черноземных, и еще такие, которые будут даваться в местностях песчаных, как Смоленск. Каменный уголь тоже должен быть принят в расчет. Что же касается мест, где Новосильцев добывает нефть, то – поелику он единственен в своем роде, – я предлагаю, чтобы там давали одну-единственную пьесу и чтобы написал ее господин Вельо (И. О. Велио, главный почтмейстер и перлюстратор России. – А.С.)» [375]375
Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 248–249.
[Закрыть].
Письму Толстой предпослал французский эпиграф собственного сочинения, в переводе звучащий так:
После запрещения постановки «Смерти Иоанна Грозного» на одесской сцене местное дворянство в знак солидарности с Толстым дало в его честь обед в Английском клубе. Толстому было за пятьдесят. Слава его уже стала не только всероссийской, но и шагнула за рубежи родины. По существу, акция в Одессе означала признание его творческих заслуг, благодарность за его труд и гражданскую позицию.
На обеде Толстой произнес речь-тост, оставив свой образец еще в одном жанре устного творчества:
«Милостивые государи! Честь, которую вы мне оказываете, так велика и неожиданна, что я прошу вашего снисхождения, если не умею выразить, как бы желал, всей моей признательности.
Ваше внимание, милостивые государи, тем более драгоценно для меня, что оно относится столько же к моей литературной деятельности, сколько к тем задушевным убеждениям, которые я не раз старался ею выразить. Я счастлив, что убеждения эти сходятся с вашими. Они заключаются в сознании, что все мы, сколько нас ни есть, – от высоких сановников, имеющих под своим попечительством целые области, до скромных писателей, – не можем лучше содействовать начатому нашим государем преобразованию, как стараясь, каждый по мере сил, искоренять остатки поразившего нас некогда монгольского духа, под какою бы личиною они у нас еще не скрывались.
На всех нас лежит обязанность по мере сил изглаживать следы этого чуждого элемента, привитого нам насильственно, и способствовать нашей родине вернуться в ее первобытное (то есть ей со-природное. – А. С.)европейское русло, в русло права и законности, из которого несчастные исторические события вытеснили ее на время (вот позиция Толстого-западника. – А. С.).
В жизни народов, милостивые государи, столетия равняются дням или часам отдельной человеческой жизни. Период нашего временного упадка, со всеми его последствиями, составит лишь краткий миг в нашей истории, если мы не в нем будем искать нашей народности, но в честной эпохе ему предшествовавшей (по Толстому, в новгородском вече. – А. С.),и в светлых началах настоящего времени.
Во имя нашего славного прошедшего и светлого будущего(курсив мой. Толстой не виноват, что советская власть превратит эти слова в свое идеологическое клише. – А.С.), позвольте мне, милостивые государи, выпить за благоденствие всей Русской земли, за все Русское государство, во всем его объеме, от края до края, и за всех подданных Государя императора, к какой бы национальности они ни принадлежали!» [377]377
Одесский вестник. 1869. № 60. 18 марта.
[Закрыть]
Последний пассаж вызвал раздражение националистов, но Толстой никогда и не стремился угодить всем. В то же время обратим внимание на щекотливость положения Толстого – и в этой связи поразимся выверенности его тоста. Представьте себе ситуацию: пьеса графа, церемониймейстера двора, запрещена к постановке правительственной цензурой. В знак протеста дворяне – опора правительства – устраивают публичное чествование автора запрещенной пьесы. Как ему себя вести?
Первый вопрос, возникающий перед ним: согласиться или отказаться? Выказать неблагонадежность по отношению к власти (согласившись) или, проявив осторожность (отказавшись), обидеть своих единомышленников?
Толстой соглашается.
Второй вопрос: как построить речь? О чем, собственно, говорить? Обижаться на запрет? Предавать анафеме цензуру? Оправдываться? Доказывать, какой он хороший? Сетовать на то, сколько душевных и физических сил стоило ему создание трагедии, перечеркнутой одним росчерком высокопоставленного пера? Изображать из себя непреклонного борца? Приносить извинения властям? Заигрывать с аудиторией? Расшаркиваться перед государем?
Нет.
В центре толстовского ответа – мысль об искоренении в народном сознании остатков монгольского духа и возвращении России в европейскую семью; мысль вполне объективная, высказанная без эпатажа, спокойно и веско. А ведь это призыв к отречению от остатков духовного рабства вслед за отменой рабства юридического, к отказу от привычки раболепствовать перед сильным и подавлять слабого. Это призыв к праву и законности в русле европейских свобод (в том числе и к праву свободного слова). Так Толстой защищал себя, не оскорбляя оппонентов.
По убеждению Толстого, никакой диктат и даже никакой самодиктат в творчестве неприемлем. Оно должно произрастать совершенно свободно, бесцензурно. У художника есть единственный цензор – его собственная совесть. «Если бы думать о цензуре, которая подвержена переменам, никогда нельзя было бы достигнуть истины, которая неизменна» [378]378
Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 168.
[Закрыть].
Обращаясь к Маркевичу 11 января 1870 года, Толстой излагает свое понимание цели и предназначения творчества; то понимание, которое поставило его в ряд защитников «чистого искусства»: «Просто ужасно, до какой степени в последнее время не только у нас, но даже и в Германии удалились от единственной, от истинной цели искусства, до какой степени его низвели к назначению простого средства для доказательстватой или иной вещи… <…>…все, что хочешь доказать, с успехом доказывается только тогда, когда отрешаешься от желания доказывать…произведение искусства как таковое само в себе несет лучшее доказательство всех тех истин, которых никогда не доказать тем, кто садится к своим письменным столам с намерением изложить их (истины. – А. С.)в художественном произведении… <…>…искусство не должно быть средством…в нем самом уже содержатся все результаты, к которым бесплодно стремятся приверженцы утилитарного, именующие себя поэтами, романистами, живописцами, скульпторами» [379]379
Там же. С. 342–343.
[Закрыть].
Выделенные авторским курсивом слова «отрешаешься от желания доказывать»предельно важны для понимания творчества Толстого. Все, что доказывается умом; все, что идет от головы, а не от сердца, служит искусству плохую службу, уводит его с пути эмоциональной истины на путь интеллектуальных версий. И сколь бы убедительными ни казались современникам предложенные доказательства, с течением времени они, как правило, либо опровергаются, либо тускнеют, тогда как убедительность никем не доказанной, но точно угаданной, эмоциональной истины делается все неопровержимее. Истины искусства подобны драгоценным винам, которые с годами приобретают все б о льшую крепость, все более глубокий цвет и тонкий аромат.
Отзываясь на книгу своего единомышленника Афанасия Фета, Толстой напишет: «…там есть стихотворения, где пахнет душистым горошком и клевером (снова ароматы! – А.С.), где запах переходит в цвет перламутра, в сияние светляка, а лунный свет или луч утренней зари переливаются в звук. Фет – поэт единственный в своем роде, не имеющий равного себе ни в одной литературе, и он намного выше своего времени, не умеющего его оценить» [380]380
Там же. С. 306.
[Закрыть].
* * *
Всю жизнь Толстой настойчиво отстаивал независимость художника, неприемлемость для него каких бы то ни было внешних заданий: будь то верноподданнические дифирамбы или «песни протеста». Ему был чужд откровенный панегирист Кукольник, но и великий «протестант» Некрасов не находил в нем союзника. Заметим, что в предсмертном некрасовском стихотворении «Зине» («Ты еще на жизнь имеешь право…») с афористической остротой выражено противоречие между песнетворцем и борцом, не умещающимися в одном сердце:
По Толстому, искусство – не средство для обслуживания текущих вкусов, интересов, целей личных или общественных, а само по себе цель. Точно так же, как конечной целью жизни служит сама жизнь, так и конечной целью искусства служит само искусство, его развитие, его совершенствование. В письме от 17 ноября 1869 года издателю М. М. Стасюлевичу Толстой иронически размышляет о задачах и направлениях в искусстве: «…я хотел бы знать, что значит задачав литературе? По мне сохрани Бог от всякой задачив искусстве, кроме задачи сделать хорошо. И от направленияв литературе сохрани Бог, как от старого, так и от нового! Rossini (Россини. – А. С.)сказал: „II п’у a que deux especes de musique, la bonne et la mauvaise“ („Есть только два вида музыки, хорошая и плохая“. – А. С.).То же можно сказать и о литературе. К какому направлениюпринадлежат Данте, Шекспир, Гёте, Гомер? К старому или к новому? Направление должно быть в жизни, и тогда оно само собой выразится в литературе, а задавать себе задачу —это значит делать из искусства орудие и, стало быть, от него отказаться» [382]382
Толстой А. К.Собрание сочинений: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 324.
[Закрыть].
А десятью днями раньше, в письме Маркевичу, Толстой с эпистолярной откровенностью выразил свое возмущение материалистическим направлениемв критике: «Как бы дивные стихи Пушкина:
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость, и лишний и чужой, —
ни истолковывались животными вроде Писарева, над которым да смилостивится Бог, истолкователи останутся животными, а Пушкин – поэтом навеки.Поэзия, прекрасное, любовь к красоте – это, дорогой друг, не вопрос моды, не условность» [383]383
Толстой А. К.Собрание сочинений: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 319.
[Закрыть]. И тогда, по Толстому, если отказаться от заранее заданных направлений, то окажется, что именно такое искусство, ничего не «доказывая», изображает своими средствами все, перед чем пасует «железная логика». Человек тривиальный любит то, что старается ему понравиться, угодить; то, что привычно. Человек оригинальный любит живущее своей естественной жизнью и, может быть, вовсе не подозревающее о его любви. Здесь – ключ к проблеме тривиального и оригинального. Априорное мышление никогда не обратит внимания на то естественно своеобразное, что не укладывается в рамки традиционных взглядов. Априорное сознание сковано этими рамками, зашорено ими. Если я поставил себе заранее заданную цель или получил социальный заказ, то едва ли смогу воплотить его в художественное открытие. Открытие – это нечто принципиально новое, о чем ни я, ни кто другой на свете не имеем никакого представления до тех пор, пока оно не сделано. Оно не от головы идет, но от стечения обстоятельств, от интуиции – от Бога. Его нельзя предсказать, однако, когда оно сделано, ему можно подыскать разумное объяснение.