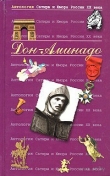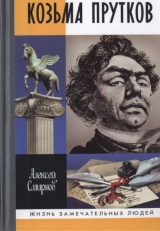
Текст книги "Козьма Прутков"
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Было время, когда «властителем дум» русских поэтов и читающей публики оставался немецкий романтик Генрих Гейне (1797–1856). Его ранняя лирика очаровала многих и вызвала массу подражаний. Не остался в стороне и Козьма Прутков, сочинивший два стихотворения с одинаковым подзаголовком «Как будто из Гейне»: «Память прошлого» и «Доблестные студиозусы». Даже и не зная прототипов, послуживших конкретным поводом для этих иронических подражаний, можно оценить изящество пластики, комичную жизнерадостность, формальное сходство с Гейне, любившим рифмовать только четные строки, и в какой-то мере проникнуться немецким духом с его пасторальной женской игривостью и мужским соперничеством бряцающих штатскими шпорами потомков тевтонских рыцарей.
Козьма Прутков
ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО
Как будто из Гейне
Помню я тебя ребенком,
Скоро будет сорок лет;
Твой передничек измятый,
Твой затянутый корсет.
Было в нем тебе неловко;
Ты сказала мне тайком:
«Распусти корсет мне сзади;
Не могу я бегать в нем».
Весь исполненный волненья,
Я корсет твой развязал…
Ты со смехом убежала,
Я ж задумчиво стоял.
ДОБЛЕСТНЫЕ СТУДИОЗУСЫ
Как будто из Гейне
Фриц Вагнер, студьозус из Йены,
Из Бонна Иеронимус Кох
Вошли в кабинет мой с азартом,
Вошли, не очистив сапог.
«Здорово, наш старый товарищ!
Реши поскорее наш спор:
Кто доблестней: Кох или Вагнер?» —
Спросили с бряцанием шпор.
«Друзья! вас и в Йене и в Бонне
Давно уже я оценил.
Кох логике славно учился,
А Вагнер искусно чертил».
Ответом моим недовольны:
«Решай поскорее наш спор!» —
Они повторили с азартом
И с тем же бряцанием шпор.
Я комнату взглядом окинул
И, будто узором прельщен,
«Мне нравятся очень… обои!» —
Сказал им и выбежал вон.
Понять моего каламбура
Из них ни единый не мог,
И долго стояли в раздумье
Студьозусы Вагнер и Кох.
Здесь потешно все: и непонятность того, как немцы попали в гости к Пруткову; и комичное, на латинский манер, переиначивание студентовв студьозусов;и яркая сюжетность сценки; и, наконец, этот русский каламбур, к тому же еще и разговорно-исковерканный (обоивместо оба).Легко ли иностранцу разобраться? В первом подражании кокетка повергла в задумчивость Козьму, но во втором он отыгрался на немцах: реванш взят!
* * *
Вспомним, как строится классическое цирковое представление. Серьезные номера (воздушные гимнасты, жонглеры, акробаты, дрессировщики) перемежаются клоунадой, причем часто клоун пародирует предыдущий номер. А вы только что посмотрели стихотворный «цирк». В качестве «серьезных» артистов у нас выступали поэты, а «клоун» был один – Козьма Прутков.
Согласимся с тем, что «цирк» Пруткова удался, что в основе его успеха – нравственная чуткость, наблюдательность, азарт пересмешника, всегда остающегося в рамках художественного вкуса, виртуозное владение техникой стиха, искусством стилевых перевоплощений. Прутков – классик стихотворной клоунады, большой артист. Потому имя его и не сходит «с афиш» вот уже третий век.
Тема избранности Поэта всегда жила в мировой литературе, и на то есть свои основания. В минуту вдохновения, подъема всех духовных, творческих, физических сил поэт и впрямь чувствует себя творящим мир полубогом. Все подвластно его воображению, все мгновенно находит точное воплощение в слове. Это восхитительное состояние, от которого захватывает дух, может оказаться и протяженным во времени: «минута» вырастает в дни, недели, а то и месяцы труда. Но «труд» сей настолько желанен, доставляет такие яркие и незабываемые переживания, что вовсе не воспринимается как некая работа.
Душе, испытавшей подобный взлет, по возвращении ее к обычному состоянию, многое вокруг начинает казаться тусклым, мелким, суетным, даже ничтожным. Так зарождается ощущение своей особости, избранности творческого Япо сравнению с неизбранными другими. Так возникает противополагание «Поэта и черни», «Поэта и толпы». Чем мощнее гений, тем больше разрыв между ним и «непосвященными». Этически это бывает оправданно далеко не всегда, но объяснимо – всегда. К тому же часто гений расплачивается за свою избранность одиночеством, если не гонимостью; гонимостью, если не жизнью.
Пушкин переживал конфликт между «посвященностью» и «профанностью» очень остро. Эта тема для него из центральных.
ПОЭТ
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы… [241]241
Пушкин А. С.Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1978. Т. III. С. 23.
[Закрыть]
В стихах, давно ставших хрестоматийными, Пушкин снова противопоставляет «профанов» и того, кому дарован «божественный глагол».
ПОЭТ И ТОЛПА
Procul este, profani [242]242
Прочь, непосвященные (лат.).
[Закрыть].
Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел – а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
И толковала чернь тупая;
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»
Поэт
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь Бог!., так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.
Чернь
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя.
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
Поэт
Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, – полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв [243]243
Пушкин А. С.Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1978.Т. III.С.85.
[Закрыть].
Наконец, в третий раз Пушкин обращается к той же теме в сонете.
ПОЭТУ
Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник [244]244
Там же. С. 165.
[Закрыть].
Этот пафос знающего себе цену мастера понятен, но уязвим. Слишком общо он выражен. С математическим контрастом. Между тем далеко не всегда полюса антиномии «поэт» и «чернь» так отчетливо разведены. И «чернь» бывает не лыком шита, и «поэт» не безупречен.
Но одно дело поэт обобщенный, а другое дело – Пушкин. Возможно ли находить смешным жреца, законно противополагающего себя непосвященным? Можно ли без цинизма и ерничанья снижать пафос оригинала, развенчивать его патетику, сохраняя при этом уважение к прототипу? Вот вопросы, которые ставит перед нами Козьма Прутков, и он же отвечает на них.
В начале XX века, в эпоху «разброда и шатания» (или поиска новых форм освобождения от того, что стало восприниматься как догма), футуристы не только отвернулись от Пушкина, а вообще, как мы помним, предлагали сбросить его «с парохода современности». Ближе к середине прошлого столетия бюрократическая власть партаппаратчиков причислила поэта к своему сословию, полностью его приватизировав. Пушкин получил статус самого большого начальства. Критиковать его, а тем более подтрунивать над ним не дозволялось никому. Ни в настоящем, ни в будущем, ни в прошлом. По советскому времени даже серьезные исследователи утверждали, что стихотворения Пушкина только «использованы, но не пародированы» Прутковым. То же относилось и к следующему вторым в духовной иерархии Лермонтову: и его пародировать запрещалось.
Попробуем убедиться сами, переходит или не переходит Козьма Прутков грань между нейтральным «использованием» и юмористическим «пародированием». Просто ли он цитирует Пушкина (прямо или косвенно) или все-таки утрирует, окарикатуривает образ лирического героя?
Внимание Пруткова сосредоточилось лишь на одной, но важной пушкинской теме – «Поэт и толпа». Козьма Петрович посвятил ей четыре стихотворения, причем первое открывает Полное собрание его сочинений.
Козьма Прутков
МОЙ ПОРТРЕТ
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг [245]245
Вариант: «На коем фрак». (Прим. К. Пруткова.)
[Закрыть];
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке;
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, —
Знай; это я!
Кого язвят со злостью, вечно новой
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, —
Знай: это я!..
В моих устах спокойная улыбка,
В груди – змея!..
Обратим внимание на готовность автора произвести клоунскую замену: «Который наг» на «На коем фрак». Пруткову все равно: одет его лирический герой перед публикой или раздет. Здесь – тождество противоположностей, момент игрового абсурда.
Далее сравним.
У Пушкина:
Не клонит гордой головы;
Бежит он дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн…
У Пруткова:
Чей лоб мрачней туманного Казбека…
Кого власы подъяты в беспорядке.
Та же голова гордеца (точнее «лоб»), те же дикость и суровость («мрачней… Казбека»), то же смятение («власы подъяты в беспорядке»).
Разве о таком можно сказать: «использовано»?

«Пантеон русской литературы. Пушкин (Тургеневу): „Иван Сергеевич, что это тут так скверно попахивает?“ Тургенев: „А это, Александр Сергеевич, несет от расходившихся современных рыцарей пера, воюющих из-за подвального помещения нашего Пантеона…“». Карикатура. 1893 г.
Услышав строй пушкинского стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», Козьма Петрович подхватывает и его. Но не тему прототипа (бренность всего земного). Тема Пруткова остается прежней.
МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
Гуляю ль один я по Летнему саду [246]246
Считаем нужным объяснить для русских провинциалов и для иностранцев, что здесь разумеется так называемый «Летний сад» в С.-Петербурге. (Прим. К. Пруткова.)
[Закрыть],
В компанье ль с друзьями по парку хожу,
В тени ли березы плакучей присяду,
На небо ли молча с улыбкой гляжу —
Все дума за думой в главе неисходно,
Одна за другою докучной чредой,
И воле в противность и с сердцем несходно,
Теснятся, как мошки над теплой водой!
И, тяжко страдая душой безутешной,
Не в силах смотреть я на свет и людей:
Мне свет представляется тьмою кромешной;
А смертный – как мрачный, лукавый злодей!
И с сердцем незлобным и с сердцем смиренным,
Покорствуя думам, я делаюсь горд;
И бью всех и раню стихом вдохновенным,
Как древний Аттила, вождь дерзостных орд…
И кажется мне, что тогда я главою
Всех выше, всех мощью духовной сильней,
И кружится мир под моею пятою,
И делаюсь я все мрачней и мрачней!..
И, злобы исполнясь, как грозная туча,
Стихами я вдруг над толпою прольюсь:
И горе подпавшим под стих мой могучий!
Над воплем страданья я дико смеюсь.
И если Пушкин устами поэта обличает толпу:
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли… —
то передразнивая, не то же ли самое делает и Прутков?
И бью всех и раню стихом вдохновенным,
Как древний Аттила, вождь дерзостных орд…
Здесь даже лексика совпадает: дерзкий – дерзостных.Правда, у Пушкина «чернь» предается еще и самобичеванию:
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыжи, злы, неблагодарны,
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы… —
тогда как у Пруткова она клеймит Поэта. Мало того. Он сам призывает ее не жалеть «питомца муз». Но он не знает страха, и его треножников она не поколеблет (снова пушкинский образ).
К ТОЛПЕ
Клейми, толпа, клейми в чаду сует всечасных
Из низкой зависти мой громоносный стих:
Тебе не устрашить питомца муз прекрасных.
Тебе не сокрушить треножников златых!..
Озлилась ты?! так зри ж, каким огнем презренья,
Какою гордостью горит мой ярый взор,
Как смело черпаю я в море вдохновенья
Свинцовый стих тебе в позор!
Да, да! клейми меня!.. Но не бесславь восторгом
Своим бессмысленным поэта вещих слов!
Я ввек не осрамлю себя презренным торгом,
Вовеки не склонюсь пред сонмищем врагов:
Я вечно буду петь и песней наслаждаться,
Я вечно буду пить чарующий нектар.
Раздайся ж прочь, толпа!., довольно насмехаться!
Тебе ль познать Пруткова дар?!
Постой!.. Скажи: за что ты злобно так смеешься?
Скажи: чего давно так ждешь ты от меня?
Не льстивых ли похвал?! Нет, их ты не дождешься!
Призванью своему по гроб не изменя,
Но с правдой на устах, улыбкою дрожащих,
С змеею желчною в изношенной груди,
Тебя я наведу в стихах, огнем палящих,
На путь с неправого пути!
Обратим внимание на то, что всем своим обаятельно-сусальным строем, всей своей певучестью строки-струны
Я вечно буду петь и песней наслаждаться,
Я вечно буду пить чарующий нектар. —
предвосхищают Игоря Северянина, а концовка стихотворения варьирует образ «Моего портрета».
Там:
В моих устах спокойная улыбка,
В груди – змея!
Здесь:
Но с правдой на устах, улыбкою дрожащих,
С змеею желчною в изношенной груди…
Прутков не «использует» романтический образ поэта, а прямо пародирует его. «Всечасные суеты», «громоносный стих», «златые треножники», «огонь презрения», «ярый взор» – весь этот переизбыток аксессуаров высокой романтики составляет основу его комедийного арсенала.
Совершенно ясно, что решиться пародировать Пушкина, самому при этом не оказавшись в роли посмешища, может лишь поэт, который хотя бы в счастливые мгновения, хотя бы вдогонку оригиналу получал власть над словом, сравнимую с пушкинской. И Козьма Прутков – абсурдист и пересмешник – порой обладал этой привилегией, «используя» ее с распорядительностью классного клоуна.
Но Прутков пошел дальше. Он обогатил свои юмористические (причем отменно-серьезным пафосом наполненные) пассажи сатирическими нотами. Внешний облик поэта-романтика – одинокого, божественного угрюмца, презирающего низкую толпу, приобретает у нашего героя отчетливо-земные психологические черты.
ОТ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА К ЧИТАТЕЛЮ
В МИНУТУ ОТКРОВЕННОСТИ И РАСКАЯНИЯ
С улыбкой тупого сомненья, профан, ты
Взираешь на лик мой и гордый мой взор;
Тебе интересней столичные франты.
Их пошлые толки, пустой разговор.
Во взгляде твоем я, как в книге, читаю,
Что суетной жизни ты верный клеврет,
Что нас ты считаешь за дерзкую стаю,
Не любишь; но слушай, что значит поэт.
Кто с детства, владея стихом по указке,
Набил себе руку и с детских же лет
Личиной страдальца, для вящей огласки,
Решился прикрыться, – тот истый поэт!
Кто, всех презирая, весь мир проклинает,
В ком нет состраданья и жалости нет,
Кто с смехом на слезы несчастных взирает, —
Тот мощный, великий и сильный поэт!
Кто любит сердечно былую Элладу,
Тунику, Афины, Ахарны, Милет,
Зевеса, Венеру, Юнону, Палладу, —
Тот чудный, изящный, пластичный поэт!
Чей стих благозвучен, гремуч, хоть без мысли,
Исполнен огня, водометов, ракет,
Без толку, но верно по пальцам расчислен, —
Тот также, поверь мне, великий поэт!..
Итак, не пугайся ж, встречался с нами,
Хоть мы и суровы и дерзки на вид
И высимся гордо над вами главами;
Но кто ж нас иначе в толпе отличит?!
В поэте ты видишь презренье и злобу;
На вид он угрюмый, больной, неуклюж;
Но ты загляни хоть любому в утробу, —
Душой он предобрый и телом предюж.
Здесь продолжает звучать, причем уже в сатирическом ключе, тема «Поэта и толпы». И что же оказывается? Оказывается, что «питомец муз», может быть, ничем не лучше «профанов». Он – всего лишь ремесленник, набивший себе руку на рифмотворстве. Он – фарисей, прикрывшийся «личиной страдальца». Чем он безжалостнее к миру людей, тем с большей готовностью мир признает его мощь и величие. Он – пиротехник, заполняющий пространство не мыслями, но шумовыми и световыми эффектами. Если бы он не был таким долговязым, то вообще ничем не выделялся бы из толпы, которая, как мы помним, тоже притворна, жестока, тупа и надменна.

«Некто, возведенный в знаменитость и авторитет за то, что беспокоился доказывать, в нескольких огромных томах, что Шекспир и Гёте великие писатели». Карикатура Н. А. Степанова. 1860 г.
Но Прутков не был бы Прутковым, если бы не закончил стихотворение алогизмом, полным нонсенсом. Нет, не все так безнадежно в этом жалком исчадии «стихоада»:
Душой он предобрый и телом предюж.
А это уже снова портрет автора. Мало ему пошутить, надо еще и слегка съязвить. Мало ему съязвить, надо еще и обличить. Мало ему обличить, надо еще и пожалеть, улыбнуться, снять напряжение хотя бы одной, последней строчкой.
Записки деда Федота КузьмичаЛучше скажи мало, но хорошо.
Особое место в наследии Козьмы Пруткова занимают опубликованные им «гисторические материалы», принадлежащие перу его деда Федота Кузьмича. Означенным «Запискам» Козьма предпослал такое введение:
«Предисловие Козьмы Пруткова.
Читатель, ты меня понял, узнал, оценил; спасибо! Докажу, что весь мой род занимался литературою. Вот тебе извлечение
из записок моего деда. Затем издам записки отца. А потом, пожалуй, и мои собственные!
Записки деда писаны скорописью прошлого столетия, in folio, без помарок. Значит: это не черновые! Спрашивается: где же сии последние? – Неизвестно!.. Предлагаю свои соображения.
Дед мой жил в деревне; отец мой прожил там же два года сряду; значит: они там! А может быть, у соседних помещиков? А может быть, у дворовых людей? – Значит: их читают! Значит: они занимательны! Отсюда: доказательство замечательной образованности моего деда, его ума, его тонкого вкуса, его наблюдательности. – Это факты; это несомненно! Факты являются из сближений. Сближения обусловливают выводы.
Почерк рукописи различный; значит: она писана не одним человеком. Почерк „Приступа“ („мемории“ Ф. К. Пруткова названы им „Приступ старика“. – А. С.)совершенно сходен с подписью деда; отсюда: тождественность лица, писавшего „Приступ“, с личностью моего деда!
Дед мой родился в 1720 году, а кончил записки в 1780 году; значит: они начаты в 1764 году. В записках его видна сила чувств, свежесть впечатлений; значит: при деревенском воздухе он мог прожить до 70 лет. Стало быть, он умер в 1790 году!
В портфеле деда много весьма замечательного, но, к сожалению, неоконченного (d’inacheve). Когда заблагорассудится, издам все.
Прощай, читатель. Вникни в издаваемое!
Твой доброжелатель Козьма Прутков
11 марта 1854 года (annus, i)».
Гисторические материалы Федота Кузьмича Пруткова по трудности пародирования и успешности исполнения служат украшением всего наследия Козьмы. Недаром в статье «Прутков» Владимир Соловьев пишет: «Один из главных перлов „Полного собрания“ – 17 старинных анекдотов (плюс 10 „не включавшихся в Собрание сочинений“. – А.С.), которые представляют мастерскую пародию на „достопримечательности“, издававшиеся в XVIII веке в различных сборниках. Конечно, сам Прутков не мог бы так художественно воспроизвести варварский язык того времени и особую смесь пошлости и нелепости в содержании таких рассказов. Для этой части прутковского творения создан особый автор – дед Федот Прутков, отставной премьер-майор, который под вечер жизни своей достохвально в воспоминаниях упражнялся, „уподобляясь оному древних римлян Цынцынатусу (Цицерону. – А. С.)в гнетомые старостью года свои“» [247]247
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. М., 1990. Т. 50. С. 634.
[Закрыть].
Итак, «отставной премьер-майор и кавалер Федот Кузьмичев сын Прутков» сочинял «мемории памяти своей». Их содержание составляли исторические анекдоты, облеченные в «варварский язык» старинных «достопримечательностей» типа тех, которые собрал в своем «Письмовнике» Курганов или пытался воскресить Афанасий Анаевский. Вот один из анаевских изысков:
«Когда в вероломной Франции возвысились моды, роскоши, вольнодумства и разные амурства, которым раболепствовали не одни преизбыточные богатством, но и средний класс людей, тогда-то, говорит автор Миллот, Карл-Квинт почал трепать французов».
«Почал трепать» кладовые своей памяти и Федот Прутков.
Перевоплощение в стилистику и лексику такой архаичной речи – сложная и с блеском решенная литературная задача.
Начнем с анекдота, построенного на путанице того, что надо было сказать тихо, а что громко.
«ТИХО И ГРОМКО
Господин виконт де Брассард, с отменною ласкою принятый в доме одного богатого ветерана, в известном сражении левой ноги лишившегося, усердно приволакивался за молодою его супругою, незаметно, по-военному, подпуская ей амура. То однажды, изготовив в мыслях две для нее речи, из коих одну: „Пойдем на антресоли“ – сказать тихо, а другую: „Я еду на свою мызу“ – громко; толико от внезапу разлиявшегося по членам его любовного пламени замешался, что, при многих тут бывших, произнес оные в обратном порядке, а именно – тихо и пригнувшись к ее уху: „Я еду на свою мызу“;а за сим громко и целуя ее в руку: „Пойдем на антресоли!“ —За что, быв выпровожден из того дому с изрядно накостылеванным затылком, никогда уже в оный назад не возвращался».
Восхищенный пародийным талантом Пруткова, Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» пишет: «Вы думаете, что это надуванье, вздор, что никогда такого деда и на свете не было. Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было десять лет от роду, читал одну книжку екатерининского времени, в которой я прочел следующий анекдот; я тогда же затвердил его наизусть – так он приманил меня – и с тех пор не забыл:
Остроумный ответ кавалера де-Рогана. Известно, что у кавалера де-Рогана весьма дурно изо рту пахло (физиология – основа низкого юмора: „медицинского“. – А. С.).Однажды, присутствуя при пробуждении принца де-Конде, сей последний сказал ему: „Отстранитесь, кавалер де-Роган, ибо от вас весьма дурно пахнет“. На что сей кавалер немедленно ответствовал: „Это не от меня, всемилостивейший принц, а от вас, ибо вы только что встаете с постели“».
Мы бы сказали: глупо и противно. Достоевский-мальчик безошибочно почувствовал дурь и пошлость этой байки. Но наивности и доверчивости рядовых читателей XVIII века не было предела. Если в заглавии стояло «Остроумный ответ…», то этот ответ следовало признать остроумным и смеяться над ним, каким бы плоским он ни был. Увлеченный точностью прутковских пародий, Достоевский дает волю собственной фантазии: «То есть вообразите только себе этого помещика (читателя анекдотов. – А.С.), старого воина, пожалуй еще без руки, со старухой помещицей, с сотней дворни, с детьми-Митрофанушками, ходящего по субботам в баню и парящегося до самозабвения; и вот он, в очках на носу, важно и восторженно читает по складам подобные анекдоты, да еще принимает все за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная тогдашняя вера в дельность и необходимость подобных европейских известий. „Известно, дескать, что у кавалера де-Рогана весьма дурно изо рту пахло…“ Кому известно, зачем известно, каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не смущают. С самой детской верой соображает он, что сие „собранье острых слов“ при дворе известно, и довольно с него».
Другая пародия – тоже путаница, но на сей раз «филологическая»: по фонетическому признаку (звучанию слов) перемешаны имена и состояние здоровья двух действующих лиц.
«К КОМУ ПРИДЕТ НЕСЧАСТИЕ
Некоторый градодержатель, имея для услуг своей персоне двух благонадежных, прозвищами: Архип и Осип, некогда определил им пойти пешою эштафетой к любимой сего чиновника госпоже, не поблизости от того места проживающей. То сии градодержателевы холопы, застигнуты будучи в пути прежестоким ненастьем, изрядную простуду получили, от коей: Архип осип, а Осип охрип».
Вред от чрезмерной гривуазности дед Федот воплотил в анекдоте, действие которого происходит якобы в Австрийских Альпах.
«НЕ ВСЕГДА СЛИШКОМ СИЛЬНО
Холостой и притом видный из себя инженер, в окрестностях Инспрука работы свои производящий, повадился навещать некоего магистера разных наук, в ближайшем оттуда местечке проживающего. Сей, быв неуклонно занят всякими вычислениями, своею бездетную, но здоровьем отличную супругу не токмо в благородные собрания; ниже на многолюдные прогулки не важивал, да и в дому своем поединком отменно редко развлекал. Инженер, все сие по скорости заприметив, положил обнаружить пред магистершею, нимало не мешкая, привлекательные свои преспективы, дабы на чужой домашней неустройке храм собственного благополучия возвести. Наиудобнейшим для сего временем признал магистеровы трапезы; ибо ученый сей, разных стран академиями одобряемый, главнейшее после фолиантов удовольствие в том полагал, что подолгу за трапезами просиживал, приветливо разделивая со случившимся посетителем тарелку доброй похлебки и всякого иного яства. Посему, за первою же трапезою супротив хозяйки присев, затеял, когда сладкого блюда вкушали, носком своей обуви таковой же хозяйкин прикрыть и оный постепенно надавливать, доколе дозволено будет. Притиснутая нога, сверх чаяния, не токмо выдернута не была, но хозяйка не без замысла лестным голосом выразила: что, де, не столько вкушаемое печение приятно, колико приправа, оное сопровождающая.С этим и магистер согласиться не замедлил, разумея предложенную к печению фруктовую примочку, многими „подливкою“ называемую. После того однажды, когда магистерша к трапезе красивее обычного обрядилась, инженер, возбуждаемый видом ее поверх стола телосложения, на сей раз едва розовою дымкою прикрываемого, почал свои ножные упражнения выделывать с возрастающим сердца воспалением и силы умножением, повышая оные постепенно даже до самого колена. И дабы притом затмить от гостеприимного хозяина правильный повод своего волнения, стал расписывать оживленными красками, как через всю Инспрукскую долину превеликую насыпь наваливает и оную для прочности искусно утрамбовывает. Под конец же с толикою нетерпеливостию хозяйкино колено на-тиснул, что она, взорами внезапно поблекши и лицом исказившись, к задку стула своего откинулась и громко, чужим голосом, воскликнула: „Увы, мне! чашка на боку!“Магистер вотще придумывал: о какой посудине супруга его заскорбела? А виновный продерзец, заботясь укрыть правду от несумнящегося супруга, почал торопливо передвигивать миску, дотоле у края стола стоявшую, к самой середине оного. И неведомо, сколь долго протянулось бы такое плачевное оставление страдалицы без супружнего пособия, ежели бы сама, дух свой на время восприявши, не указала перстом сперва на поврежденный член, а потом и на укрывающегося бесстыдника и не высказала с особым изражением: „Сей есть виновник моего злоключения! Он, с горячкою расписывая про насыпь чрез долину, не оставлял без толку напирать в мое левое колено, пока верхушку оного совсем своротил! От этого часу не токмо не за благородного кавалера его почитаю, но даже за наиувальнейшего мужика-землекопа!“ —Такими выговоренными словами всю правду мужу вскрыла. Магистер, зная в корпусе своем не довольно силы, дабы дородную супругу подобрать, а притом и виновника до нее не до-пущая, высунясь из окна, выкрикнул с площади двух крепких носильщиков, которым наказал бережно хозяйку с отвороченным коленом в опочивальню перенести и там на двуспальное ложе поместить. Так: здоровая некогда госпожа сия проявилась болящею под занавесками, за коими допрежде хотя не часто амуры резвилися, но и бледноликая печаль не ютилася! Оставив страдалицу на ложе, вошел магистер с обоими носильщиками вспять в столовую горницу, где провинившийся, не без великого страха, дожидал висящего над ним своего приговора; и так ему с глубокою горечью высказал: „Ведайте, государь мой, что хотя вы и опытный в своем деле инженер, но госпожа магистерша не есть земельная насыпь и никогда оною не бывала!“ —И, повернув от него, выплатил обоим носильщикам заслужоные ефимки и в опочивальню к болящей возвратился. А предерзкий тот сластолюбец, столь нечаянно от заслужоной и преизрядной потасовки избегший, за лучшее счел поскорее к дому убраться; и завсегда потом, о приключившемся вспоминая, так в мыслях своих выводил: „Ежели и вправду сия подстольная любовная грамота остроумную при себе удобность имеет; ибо любимому предмету изъясняет, а от нелюбимых утаивает; однако и оную, даже в самых поспешных и чувствительных случаях, отнюдь до крайнего изображения допущать не должно“».
Воспроизведем еще раз начало этого анекдота и проследим за той техникой пародирования, которую использует Козьма Прутков для того, чтобы достичь эффекта стилевого перевоплощения и связанного с ним языкового комизма.
Холостой и притом видный из себя инженер, в окрестностях Инспрука (в современном произношении: Инсбрук, Австрия. – А. С.)работы свои производящий (здесь стилизация старинной интонации достигается простой инверсией – перестановкой слов. Мы бы сказали: «…инженер, производящий свои работы в окрестностях Инсбрука…» – А.С), повадился навешать (именно повадился,как лис в курятник, поскольку речь пойдет о сластолюбце. – А.С.) некоего магистера (магистра. – А. С.)разных наук, в ближайшем оттуда местечке проживающего (снова инверсия. – А. С.).Сей (этот. – А.С.), быв (будучи. – А. С.)неуклонно (постоянно. – А.С.) занят всякими вычислениями, своею (свою. – А. С.)бездетную, но здоровьем отличную супругу не токмо (не только. – А. С.)в благородные собрания; ниже (или. – А. С.)на многолюдные прогулки не важивал (старинная форма глагола водить: важивать. – А. С.),да и в дому своем поединком отменно редко развлекал (здесь поединок– любовная схватка, отменно– очень. – А. С.).Инженер, все сие по скорости (быстро. – А.С.) заприметив, положил (решил. – А. С.)обнаружить пред (перед. – А. С.)магистершею (неологизм от магистра. – А.С.), нимало не мешкая, привлекательные свои преспективы (перспективы. – А.С.), дабы (чтобы. – А. С.)на чужой домашней неустройке (отчужденности. – А. С.)храм собственного благополучия возвести (еще одна инверсия. – А. С.).
Приемы, которые применил в этом отрывке Прутков для того, чтобы стилизовать анекдот под усредненный язык XVIII века, как мы видим, состоят в инверсиях – перестановках слов, когда действие, выраженное глаголом или причастием, относится в конец; в использовании архаичной лексики (сей, быв, токмо, ниж е);вообще в неком гривуазно-учтивом тоне повествования. Их, этих приемов, тут совсем не много, а художественный эффект (в данном случае комический) достигается вполне.