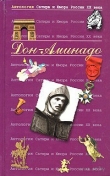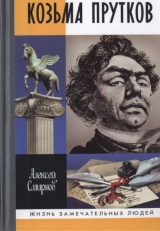
Текст книги "Козьма Прутков"
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
В России, где литература сфокусировалась на самом острие общественного сознания, в самом центре внимания читающей публики, оказалось возможным размежевание по линии искусства «чистого» и «гражданского». Именно такой оппозицией обогатилась русская поэзия к середине XIX века. По одну сторону очутились приверженцы «чистого искусства» или «искусства для искусства»; по другую – те, кто стремился к гражданскому звучанию своих лир.
Так понимал свое предназначение Фет.
Гражданские поэты опирались на потребность преобразования социальной жизни. Их знаменем была гражданская совесть.
Вот хрестоматийная формула Некрасова.
Чистые лирики славили «радость бытия», счастье и муки любви, приверженность «чистому искусству».
Есть у Фета стихи, посвященные А. К. Толстому – его идейному сподвижнику.
Гр. А. К. Т-у
В ДЕРЕВНЕ ПУСТЫНЬКЕ [196]196
Фет А. А.Вечерние огни. М., 1981. С. 86.
[Закрыть]
В твоей Пустыньке подгородной,
У хлебосольства за столом,
Поклонник музы благородный,
Камен мы русских помянем.
Почтим святое их наследство
И не забудем до конца,
Как на призыв их с малолетства
Дрожали счастьем в нас сердца.
Пускай пришла пора иная.
Пора печальная, когда
Гетера гонит площадная
Царицу мысли и труда.
Да не смутит души поэта
Гоненье на стыдливых муз,
И пусть в тени, вдали от света,
Свободней зреет их союз.
Гражданские поэты видели свою задачу в ином. Они боролись с «пошлостью жизни», будоражили совесть соотечественников.
Тот же Некрасов вкладывал острый социальный смысл даже в форму стихотворной миниатюры:
Литература, с трескучими фразами,
Полная духа античеловечного,
Администрация наша с указами
О забирании всякого встречного, —
Дайте вздохнуть!..
Я простился с столицами,
Мирно живу средь полей,
Но и крестьяне с унылыми лицами
Не услаждают очей;
Их нищета, их терпенье безмерное
Только досаду родит…
Что же ты любишь, дитя маловерное,
Где же твой идол стоит?.. [197]197
Некрасов Н. А.Стихотворения. М.; Л., 1938. С. 141.
[Закрыть]
Каждый полагал свою позицию верной, а позицию оппонентов глубоко ошибочной: они не на то тратили талант.
Соответственно определялась и внутренняя гармония, душевный настрой поэтов. Если Пушкин в моменты своих вдохновений стал для нас вестником обретенного рая, то Некрасов воплотил в себе рай потерянный, а Фет – рай чаемый. Так менялись облики русской Эвтерпы в исканиях того, что есть истина [198]198
Смирнов А. Е.Четыре облика русской Эвтерпы // Вопросы литературы. 2003. Май – июнь. С. 296–302. См. также: Смирнов А. Е.Дыхание речи. М., 2006. С. 74–83.
[Закрыть].
Власть была безусловно на стороне «чистого искусства», поскольку «радость бытия» вообще предполагает и радость бытия социального. Власть не любила «гражданской поэзии», поскольку борьба с «пошлостью жизни» предполагает ее, жизни, социальное неблагополучие, иначе с чем бороться?
Власть привечала кумира чистых лириков Фета и лишь терпела вождя гражданских поэтов Некрасова.
Какое место в этой оппозиции занимали Козьма Прутков и его опекуны?
Прямо противоположное друг другу. Все опекуны были безусловными сторонниками «чистого искусства». (Заметим в скобках, что и нам утверждение прекрасного кажется предпочтительнее борьбы с пошлым. Победа над злом есть только победа над злом. Она еще не создает положительного идеала. А утверждение добра этот идеал создает.) Что же касается Козьмы Петровича, то он числился откровенным противником «искусства для искусства» – он же его высмеивал! Напомним, что разночинцы поначалу приняли его на ура именно потому, что в его пародиях увидели критику барской литературы. Добролюбов ратовал за Пруткова – пародиста «чистого искусства», борца с «реликтами пушкинского периода», то есть со старыми романтиками. Однако, по нашему наблюдению, Прутков пародировал совсем не «чистое искусство» как таковое, не романтизм пушкинского времени, а дискредитацию романтизма творениями новых «адептов»; недостаток вкуса, вторичность, псевдоромантическую напыщенность (Бенедиктов); оторванность от реалий современной жизни, гимназическое представление об Античности (Щербина). Вот над чем смеялся Козьма Прутков, а вовсе не над «чистым искусством».
Оппозиция обострялась личным соперничеством Толстого с Некрасовым за несуществующий и поныне, но всегда подразумеваемый титул первого поэта России. Вся относительность «известностей», «рейтингов», «литературных премий» очевидна. Лучших отбирают время и знатоки. Популярнейших – случай и читатели. Иногда это совпадает, чаще – нет. Некрасов и Толстой были достойными соперниками. С годами творческая ревность и разный образ мыслей разводили их все дальше и дальше друг от друга. Но точно так же, как Некрасов был гораздо шире, чем гражданский поэт, Толстой был много больше, нежели чистый лирик. И точно так же, как Некрасов оставил образцы щемящей лирики, гражданская совесть Толстого всегда оставалась чуткой и неспокойной. Мы помним о его заступничестве за гонимых людей. А вот пример его заступничества за гонимые памятники.
Толстой обожал древние московские храмы. Церковь Рождества Богородицы в Путинках; церковь Грузинской Божьей Матери; Крутицкий монастырь… У него на глазах эти святыни стали подвергаться переделкам. «Доброхотные датели желали того за свои денежки…», а настоятели считали, что о старом и жалеть нечего. Подобное отношение к древности стало входить в моду повсюду.
Толстой пишет полемически горячее письмо Александру II с просьбой о содействии: «И все это бессмысленное и непоправимое варварство творится по всей России на глазах и с благословения губернаторов и высшего духовенства. Именно духовенство – отъявленный враг старины, и оно присвоило себе право разрушать то, что ему надлежит охранять, и насколько оно упорно в своем консерватизме и косно по части идей, настолько оно усердствует по части истребления памятников.
Что пощадили татары и огонь, оно берется уничтожать. Уже не раскольников ли признать более просвещенными, чем митрополита Филарета?
Государь, я знаю, что Вашему величеству не безразлично то уважение, которое наука и наше внутреннее чувство питают к памятникам древности, столь малочисленным у нас по сравнению с другими странами. Обращая внимание на этот беспримерный вандализм, принявший уже характер хронического неистовства, заставляющего вспомнить о византийских иконоборцах, я, как мне кажется, действую в видах Вашего величества, которое, узнав обо всем, наверно, сжалится над нашими памятниками старины и строгим указом предотвратит опасность их систематического и окончательного разрушения…» [199]199
Толстой А. К.Собрание сочинений: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 122–123.
[Закрыть]
Это и есть гражданская позиция. Нельзя допустить, чтобы деньги уничтожали историческую память, заменяя высокое древнее низким новоделом. Сторонник «чистого искусства» выступает с документом, под которым может подписаться самый совестливый гражданский поэт.
Еще раз, как и на примерах прошлых противостояний, мы видим, насколько рассмотренные нами оппозиции условны, и если мы говорим о том, что наставники Козьмы Пруткова – западники, аристократы, монархисты, сторонники «чистого искусства», то это вовсе не мешает им обнаруживать славянофильские и умеренно демократические взгляды, слыть у крайне правых чуть ли не революционерами, а защищая «чистое искусство», совершать гражданские поступки.
Козьма Прутков, разумеется, тоже западник, дворянин с претензией на аристократические манеры, верноподданный государя… Но все эти качества у него по-клоунски утрированы, доведены до гротеска. Он всегда «правее папы». Днем он – строгий директор, ночью (особенно с 10 на 11 апреля) – мыслитель и поэт. Днем он следит за клеймением слитков, вечером перед сном прогуливается до Львиного мостика и обратно, ночью же спит далеко не всегда, странствуя по волнам воображения, и при случае сам кует будущие рифмы на своих врагов.
Как персонаж комический, он украшает журнальную полемику, хотя в целом дискуссии в периодике опекуны не привечают. Князь В. П. Мещерский вспоминал, что Толстой «одинаково искренне ненавидел две вещи: службу чиновника и полемику газет и журналов». И когда Мещерский решил выпускать газету «Гражданин», с тем чтобы поддержать законную власть и авторитет Церкви, Толстой обратил на него весьма красноречивый взор:
«Помню его, с оттенком тонкой насмешливости, пристально на меня устремленный, недоумевающий взгляд, когда я ему говорил о своих журнальных мечтаниях. Взгляд его так ясно и так искренне говорил мне: вот дурак! – что я почувствовал себя перед ним сконфуженным.
Да и не поэтому одному граф А. К. Толстой относился к моему предприятию со скептицизмом и недоумением. Фанатизм, с которым он оберегал самобытность своего „я“, был так силен и глубок, что граф Толстой не причислял себя ни к какому лагерю: он дорожил правом не думать, как другие (то есть думать по-своему. – А. С.),как лучшим благом своей свободы, а так как культ духовной свободы он ставил выше всего, то мне казалось, что он при всей своей оригинальности скорей клонится к либералам, чем в нашу сторону (консерваторов. – А.С.), где он не симпатизировал слишком определенным рамкам верований» [200]200
Мещерский В. П.Воспоминания: В 3 т. СПб., 1898. Т. 2. С. 165.
[Закрыть].
Вообще отношение художника к вере, будь он чистый лирик, или гражданский поэт, или то и другое вместе, вопрос не простой. Стихийно художник – идеалист, если только он не просто принимает материальный мир как данность, но осознает греховность мира и свою греховность в нем, если несет в себе некий идеальный образ мира, того, что есть мир не греховный, что есть безгрешная душа. Стихийно художник верит в существование Высшей силы, позволившей человеку делать свободный выбор между добром и злом, отличать одно от другого и выбирать добро, но вопрос: насколько ему, художнику, уместно при этом регламентировать себя церковным уставом? Не стеснят ли «рамки верований» творческой свободы? Не внесут ли свою религиозную заданность в природную непреднамеренность творческого акта – нечто подобное социальной заданности, исходящей от земной власти? Можно ли божьей твари брать на себя функции Творца?
Мы думаем, что вера не только не теснит свободы творчества, но, дисциплинируя дух, углубляет ее до бесконечности, поскольку в основе свободы лежит самодисциплина. В противном случае свобода вырождается в анархию, в дурную вольницу бунта. Вера – противница бунта, потому что она – дочь свободы. При этом дарованная нам свобода выбора гарантирует и непроизвольность каждого творческого решения, если только мы сами не предпочтем ей уютную, но унылую гавань заранее заданного; если априорная истина (или априорное заблуждение) нам дороже неожиданности оригинального открытия.
Что же касается всегда насущного для русской души вопроса о том, не греховно ли творчество как таковое, не исполнено ли оно человеческой гордыни соперничества с Богом, то когда-то на подобные опасения Исаак Ньютон ответил определением, ставшим его эпитафией:
«The aim of Science is to lead our mind following the Creator’s reason»
(«Цель науки есть движение нашего разума вслед за мыслью Творца»).
Это значит, что я не беру на себя функции Бога, ведь я не творю мир, – мир сотворил Господь, а я только следую за мыслью Творца и стараюсь постичь план Его Творения.
У Ньютона речь шла о научном созидании, о материальной Вселенной и ее физических законах [201]201
Бучаченко А. Л.Очарование науки // Новый мир. 2007. № 8.
[Закрыть]. Между тем подобная мотивация может служить оправданием и художественного постижения. Художник не творит Вселенную духа – ее сотворил Господь, художник только следует духу Творца в своем стремлении Его постичь. В этом и состоит апология творчества, не стесненного «рамками верований», но основанного на вере в безграничность разумных дерзаний.
Наше описание жизни Козьмы Пруткова невозможно без обращения к его опекунам. Культ духовной свободы был важнейшим для Алексея Толстого и совсем немаловажным для братьев Жемчужниковых. Отношение к вере и ее служителям представляло для них интерес насущный, а не академический. Что же касается Козьмы Петровича, то он, конечно, при всей своей гениальности едва ли об этом задумывался. Скорее всего, директор Пробирной Палатки никогда не спрашивал себя: «Уместно ли мне брать на себя функции Творца?» Или: «Следую ли я Его духу, сочиняя вольные басни, насмешливые водевили?» Скорее всего, Козьма задавался совсем другим, более узким и приземленным вопросом: «Как бы мне поближе к оригиналу воспроизвести дух и стиль пародируемых мною сочинений, например, стихотворных пародий, „гисторических“ анекдотов?»
К ним мы сейчас и переходим.
Глава седьмая
ОПУСЫ СТИХОТВОРНЫЕ И «ГИСТОРИЧЕСКИЕ»
Подражания, или Стихотворные пародииЕсли бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всем земном шаре ни одного светлого места.
Существует два типа стихотворных пародий. Назовем их локальным и стилевым. Локальная пародия избирает объектом своего внимания неловкую, двусмысленную, смешную строчку или строфу и пародирует именно ее. Стилевая же обращается к творчеству поэта в целом или к каким-то заметным особенностям его манеры и пародирует не конкретную оплошность, а стиль как таковой. Именно такой стилевой тип пародии предлагает читателям Козьма Прутков. При этом он активно открещивается от звания пародиста и представляет себя подражателем.
У пародии, как и у подражания, есть форма и есть функция. Так вот: форма у них одинаковая, а функции разные. По форме и пародия, и подражание стремятся быть возможно более близкими своему прототипу, но функционально их миссии расходятся.
Пародия всегда несет в себе юмористический (безобидный) или сатирический (хлесткий) заряд. Она доказывает или, по крайней мере, намекает на несостоятельность оригинала, непременно подчеркивает смешные его стороны, утрирует его, а то и доводит до абсурда. Справедливо суждение Ю. Н. Тынянова, согласно которому «наибольшая сила пародии – в наибольшей формальной близости и одновременно – в функциональной противоположности с пародируемым» [202]202
Тынянов Ю. Н.Предисловие // Мнимая поэзия. М.; Л., 1931. С. 7.
[Закрыть].
Подражание никогда не ставит себе подобных целей. Оно похоже на копию с подлинника. Подражатель – своего рода копиист, ученик, перенимающий манеру мэтра. Он не воспринимает оригинал критически, не пересмешничает, а, напротив, любовно и почтительно воспроизводит своими словами.
Сейчас вы убедитесь, что Козьма Прутков сочинял именно пародии, а не подражания, но в пику оппоненту и, вероятно, из лукавой осторожности именовал их подражаниями.
В «Письме известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту „Санкт-Петербургских ведомостей“ (1854 г.) по поводу статьи последнего» (опубликовано в журнале «Современник») Козьма развязно спорит в привычном для себя обличье самохвала, фамильярно обращаясь к собеседнику на ты: «Ты утверждаешь, что я пишу пародии?! Отнюдь!.. Я совсем не пишу пародий! Я никогда не писал пародий! Откуда ты взял, будто я пишу пародии?! Я просто анализировал в уме своем большинство поэтов, имевших успех; этот анализ привел меня к синтезису; ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь, оказались совмещенными все во мне едином!.. Прийдя к такому сознанию, я решился писать. Решившись писать, я пожелал славы. Пожелав славы, я избрал вернейший к ней путь: подражаниеименно тем поэтам, которые уже приобрели ее в некоторой степени. Слышишь ли? – „подражание“, а не пародию!.. Откуда же ты взял, будто я пишу пародии?!»
Нормальная логика состоит в том, что каждая слава индивидуальна; что «слав» столько, сколько самобытных путей к ним, собственных опытов, оригинальных стилей. Нет, не может быть и не нужно двух Пушкиных, трех Бенедиктовых или Хомяковых. Как известно, поэзия – дело штучное. Интересна индивидуальность, а не ее повторы. Копия уже нагоняет скуку – потому что вторична. Актуально «вторым» может стать только пародист, а подражание – сугубо лабораторный, неизбежный момент ученичества, освоение разных, уже найденных другими, поэтических форм. Козьма же уверен, что подражатель способен достичь славы оригинального поэта, если будет делать все точно так же, как делает прототип! Но у Козьмы это лишь риторическая маска. На самом деле он далеко не только подражает, а пишет блестящие стилевые пародии на известных поэтов – своих современников, называя эти опусы подражаниями. Пусть так. Будем и мы вослед нашему герою именовать их подражаниями, а для того, чтобы читатель представлял себе прототипы и тем самым смог бы вполне оценить сами подражания, предпошлем им оригиналы (отчасти ныне забытые) – представим тех, кому адресует Прутков свои стансы. И не станем экономить на их количестве. Пусть опусов будет много.
В последние годы жизни Пушкина на небосклоне российской поэзии взошла новая яркая звезда – чиновник Министерства финансов Владимир Бенедиктов (1807–1873), точнее, вначале секретарь министра финансов, а потом директор заемного банка. Не исключено, что совмещение в одном лице высокопоставленного чиновника и знаменитого поэта послужило опекунам примером для создания образа Козьмы Пруткова.
Во всяком случае, именно Бенедиктов явился любимой мишенью прутковских пародий. Что же такого потешного разглядел Прутков в стихах автора, которого публика приняла взахлеб?
«…не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова, он был в моде, – пишет поэт Яков Полонский. – Учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали, приезжие из Петербурга, молодые франты хвастались, что им удалось заучить наизусть только что написанные и нигде еще не напечатанные стихи Бенедиктова» [203]203
Сочинения В. Г. Бенедиктова. СПб., 1902. Т. I. С. XII.
[Закрыть].
Николай Бестужев в 1836 году (при жизни Пушкина!) с удивлением вопрошал из сибирской ссылки: «Каков Бенедиктов? Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же».
И. С. Тургенев говорил Л. Н. Толстому: «Кстати, знаете ли вы, что я целовал имя Марлинского на обложке журнала, плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?» [204]204
Толстой и Тургенев. Переписка. М., 1928. С. 28–29.
[Закрыть]
Возмущение Тургенева вызвали, по-видимому, следующие слова Белинского: «…поэзия г. Бенедиктова не поэзия природы или истории, или народа, – а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга. Она вполне выразила их, с их любовью и любезностью, с их балами и светскостью, с их чувствами и понятиями, словом, со всеми их особенностями, и выразила простодушно-восторженно, без всякой иронии, без всякой скрытой мысли…» [205]205
Белинский В. Г.Собрание сочинений. СПб., 1904. Т. VII.C.499–500.
[Закрыть]
Между тем успех первой книги Бенедиктова был колоссальным. В том числе у самых взыскательных, пусть еще и юных, знатоков поэзии. А. А. Фет вспоминает: «Как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова, я побежал в лавку за этой книжкой?!
– Что стоит Бенедиктов? – спросил я приказчика.
– Пять рублей, – да и стоит. Этот получше Пушкина-то будет.
Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном [Григорьевым] с упоением завывали при ее чтении» [206]206
Фет А. А.Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 153.
[Закрыть].
А теперь сравним стихотворение Бенедиктова «Буря тишь» с подражанием Пруткова «Поездка в Кронштадт».
Владимир Бенедиктов
БУРЯ И ТИШЬ
Оделося море в свой гневный огонь
И волны, как страсти кипучие, катит,
Вздымается, бьется, как бешеный конь,
И кажется, гривой до неба дохватит;
И вот, – опоясавшись молний мечом,
Взвилось, закрутилось, взлетело смерчом;
Но небес не достиг столб, огнями обвитой,
И упал с диким воплем громадой разбитой.
Стихнул рокот непогоды,
Тишины незримый дух
Спеленал морские воды,
И, как ложа мягкий пух,
Зыбь легла легко и ровно,
Без следа протекших бурь, —
И поникла в ней любовно
Неба ясная лазурь.
Так смертный надменный, земным недовольный,
Из темного мира, из сени юдольной
Стремится всей бурей ума своего
Допрашивать небо о тайнах его;
Но в полете измучив мятежные крылья,
Упадает воитель во прах от бессилья.
Стихло дум его волненье,
Впало сердце в умиленье,
И его смиренный путь
Светом райским золотится;
Небо сходит и ложится
В успокоенную грудь [207]207
Бенедиктов В. Г.Стихотворения. М., 1991. С. 39.
[Закрыть].
Козьма Прутков
ПОЕЗДКА В КРОНШТАДТ
Посвящено сослуживцу моему по министерству финансов г. Бенедиктову
Пароход летит стрелою,
Грозно мелет волны в прах
И, дымя своей трубою,
Режет след в седых волнах.
Пена клубом. Пар клокочет.
Брызги перлами летят.
У руля матрос хлопочет.
Мачты в воздухе торчат.
Вот находит туча с юга,
Все чернее и черней…
Хоть страшна на суше вьюга,
Но в морях еще страшней!
Гром гремит, и молньи блещут…
Мачты гнутся, слышен треск…
Волны сильно в судно хлещут…
Крики, шум, и вопль, и плеск!
На носу один стою я [208]208
Здесь, конечно, разумеется нос парохода, а не поэта; читатель сам мог бы догадаться об этом. (Прим. К. Пруткова.)
[Закрыть],
И стою я, как утес.
Морю песни в честь пою я,
И пою я не без слез.
Море с ревом ломит судно.
Волны пенятся кругом.
Но и судну плыть нетрудно
С Архимедовым винтом.
Вот оно уж близко к цели.
Вижу, – дух мой объял страх! —
Ближний след наш еле-еле,
Еле видится в волнах…
А о дальнем и помину,
И помину даже нет;
Только водную равнину,
Только бури вижу след!..
Так подчас и в нашем мире:
Жил, писал поэт иной,
Звучный стих ковал на лире
И – исчез в волне мирской!..
Я мечтал. Но смолкла буря;
В бухте стал наш пароход.
Мрачно голову понуря.
Зря на суетный народ:
«Так, – подумал я, – на свете
Меркнет светлый славы путь;
Ах, ужель я тоже в Лете
Утону когда-нибудь?!»
У Пруткова подражательный момент только во внешней картине: море и небо в грозу, да в размере коротких строф. А пародия начинается уже с эпиграфа: «Посвящено сослуживцу моему по министерству финансов г. Бенедиктову». Как будто все правильно. Прутков – директор Пробирной Палатки, а та относится к Министерству финансов. Но улыбка в том, насколько неуместно в посвящении лирическому поэту напоминать о его финансовой службе. А дальше пародируется всё: «сюжет» (от бури разыгравшейся к буре угомонившейся), «накал страстей», сумрачный колорит прототипа, причем его абстрактный пафос повсюду снижается конкретным реализмом пародии, начиная от точного указания места действия: Балтика между Петербургом и Кронштадтом, вплоть до такой блестящей во всех отношениях детали, как Архимедов винт плывущего парохода.
Так «подражает» Козьма Прутков.

«Чиновник: Есть нужные бумаги к докладу.
Поэт: Вы дайте мне лесу! Дремучего лесу!» (В. Г. Бенедиктов).
Карикатура Н. А. Степанова. 1857 г.
Чуть позже он еще раз обратится к этой теме, логично заключив, что если кто приплыл в Кронштадт, то не век же ему там оставаться, надо бы и в Питер вернуться.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ КРОНШТАДТА
Еду я на пароходе,
Пароходе винтовом;
Тихо, тихо все в природе,
Тихо, тихо все кругом.
И, поверхность разрезая
Темно-синей массы вод,
Мерно крыльями махая,
Быстро мчится пароход.
Солнце знойно, солнце ярко;
Море смирно, море спит;
Пар, густою черной аркой,
К небу чистому бежит…
На носу опять стою я,
И стою я, как утес,
Песни солнцу в честь пою я,
И пою я не без слез!
С крыльев [209]209
Необразованному читателю родительски объясню, что крыльями называются в пароходе лопасти колеса или двигательного винта. (Прим. К. Пруткова.)
[Закрыть]влага золотая
Льется шумно, как каскад,
Брызги, в воду упадая,
Образуют водопад, —
И кладут подчас далеко
Много по морю следов
И премного и премного
Струек, змеек и кругов.
Ах! не так ли в этой жизни,
В этой юдоли забот,
В этом море, в этой призме
Наших суетных хлопот
Мы – питомцы вдохновенья —,
Мещем в свет свой громкий стих
И кладем в одно мгновенье
След во всех сердцах людских?!
Так я думал, с парохода
Быстро на берег сходя;
И пошел среди народа,
Смело в очи всем глядя.
«Ударным», поразившим воображение современников, стало стихотворение Бенедиктова «Кудри». Оно и в самом деле написано искусно, даже виртуозно, на одном дыхании. Способность долго удерживать в поле зрения выбранную тему, сосредоточиваться на ней, не отвлекаясь ни на что постороннее, говорит и о культуре мышления, и о художественном вкусе, и о богатстве фантазии. Можно не сомневаться в том, что фантазия художника тем богаче, чем она сосредоточеннее на одном единственном предмете его интереса. Это – фантазия, устремленная вглубь, а не та, что «растекается мыслью по древу», рассеянно переключая внимание с пятого на десятое. Многие ли поэты XXI века могут в пятидесяти пяти строках романтически, а не ернически воспеть, например, девичьи кудри? Пожалуй, нет. Эта способность утрачена. Другое дело, что Козьма Прутков чутко уловил в пафосе Бенедиктова чрезмерность и красивость, чуждые гармонии и красоте. По-видимому, именно это и побудило Козьму скользнуть мысленным взором чуть ниже, чтобы навсегда соединить бенедиктовские «Кудри» со своей пародией «Шея».
Владимир Бенедиктов
КУДРИ
Кудри девы – чародейки,
Кудри – блеск и аромат.
Кудри – кольца, струйки, змейки,
Кудри – шелковый каскад!
Вейтесь, лейтесь, сыпьтесь дружно,
Пышно, искристо, жемчужно!
Вам не надобен алмаз:
Ваш извив неуловимый
Блещет краше без прикрас,
Без перловой диадемы,
Только роза – цвет любви.
Роза – нежности эмблема —
Красит роскошью эдема
Ваши мягкие струи.
Помню прелесть пирной ночи:
Живо помню я, как вы,
Задремав, чрез ясны очи
Ниспадали с головы.
В ароматной сфере бала,
При пылающих свечах,
Пышно тень от вас дрожала
На груди и на плечах;
Ручка нежная бросала
Вас небрежно за ушко,
Грудь у юношей пылала
И металась высоко.
Мы, смущенные, смотрели —
Сердце взорами неслось.
Ум тускнел, уста немели,
А в очах сверкал вопрос.
(Кто ж владелец будет полный
Этой россыпи златой?
Кто-то будет эти волны
Черпать жадною рукой?
Кто из нас, друзья-страдальцы,
Будет амбру их впивать,
Навивать их шелк на пальцы,
Поцелуем припекать,
Мять и спутывать любовью
И во тьме по изголовью
Беззаветно рассыпать?)
Кудри, кудри золотые,
Кудри пышные, густые —
Юной прелести венец!
Вами юноши пленялись,
И мольбы их выражались
Стуком пламенных сердец,
Но снедаемые взглядом
И доступны лишь ему,
Вы ручным бесценным кладом
Недалися никому:
Появились, порезвились —
И, как в море вод хрусталь,
Ваши волны укатились
В неизведанную даль! [210]210
Бенедиктов В. Г.Стихотворения. М., 1991. С. 58.
[Закрыть]
Козьма Прутков
ШЕЯ
Моему сослуживцу г. Бенедиктову [211]211
В Полном собрании сочинений 1884 года издано с подзаголовком: «Посвящается поэту-сослуживцу, г-ну Бенедиктову».
[Закрыть]
Шея девы – наслажденье;
Шея – снег, змея, нарцисс;
Шея – ввысь порой стремленье;
Шея – склон порою вниз.
Шея – лебедь, шея – пава,
Шея – нежный стебелек;
Шея – радость, гордость, слава;
Шея – мрамора кусок!..
Кто тебя, драгая шея,
Мощной дланью обоймет?
Кто тебя, дыханьем грея,
Поцелуем пропечет?
Кто тебя, крутая выя,
До косы от самых плеч,
В дни июля огневые
Будет с зоркостью беречь:
Чтоб от солнца, в зной палящий,
Не покрыл тебя загар;
Чтоб поверхностью блестящей
Не пленился злой комар;
Чтоб черна от черной пыли
Ты не сделалась сама;
Чтоб тебя не иссушили
Грусть, и ветры, и зима?!