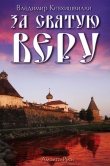Текст книги "Взыскание погибших"
Автор книги: Алексей Солоницын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Глава восьмая
Надежда – сестра Фотиния
Если бы спросили, какая основная черта характера отца Мартирия, то всякий, кто хоть немного знал его, ответил бы: доброта. И обязательно при ответе улыбнулся бы, потому что доброта отца Мартирия почти всегда приносила ему или прямое неудобство, или ставила в неловкое, а то и смешное положение. Например, надо было заплатить за дрова, а он их отдал какому-то чиновнику, который приходил третьего дня и на коленях просил спасти его. Что за чиновник, откуда он вдруг взялся, неведомо. Потом выяснялось, что это и не чиновник вовсе, а заезжий артист, прокутивший в «Бристоле» немалую сумму с девицами, да шумно, даже с битьем зеркал.
Или, например, надо к зиме валенки достать, а их нигде не сыщешь. Краснея и вздыхая, отец Мартирий остановит поиски и скажет домашним: «Не ищите! Тут один человек приходил, и до того у него были драные башмаки, что смотреть невозможно…»
Матушке Глафире приходилось зорко следить за визитерами, а когда она была очень занята по хозяйству, наблюдение передавалось или прислуге, или дочери Наде.
С недавнего времени отца Мартирия охватила тревога за свою горячо любимую дочь. А началось все так…
В театре «Олимп» давали концерт самого Федора Шаляпина, и Наденька была счастлива, что ей удалось увидеть и услышать знаменитого на всю Россию певца. Как раз на этом концерте познакомилась она с молодым человеком, который и привел отца Мартирия в сильное замешательство.
Это был сын известного самарского конезаводчика, воспитанник кадетского корпуса в Петербурге. В Самаре он оказался по болезни и попал прямо на тот самый концерт Шаляпина, сел в кресло рядом с Надей. Переглянулись. Молодой человек вежливо поклонился. После монолога и арии «Бориса Годунова» все восторженно хлопали, обменивались репликами; смеялись после «Блохи». Но самое главное произошло, когда по залу покатились, замирая и нарастая, нежные и могучие звуки несравненного голоса, и они услышали:
Клубится волною кипучею Кур,
Восходит дневное светило.
Как весело сердцу, душе как легко!
О, если б навеки так было…
И когда Наденька, потрясенная пением, замерла, замер и он, Сергей, и они переживали одно и то же чувство. Взгляды их встретились, чувство невольно передалось и соединило их. Не нужны были никакие слова, только бы лилась эта песнь, продолжалось это мгновение:
Как ослепляет меня
Чудный блеск очей твоих,
О, если б навеки так было…
И с замиранием, нежно, тихо, но так, что слышно в каждом уголке зала:
О, если б навеки так было…
Сергей предложил проводить ее. И как она могла не согласиться, если он такой прекрасный – высокий, светловолосый, стройный, с таким светлым лицом!
Может, она не осмелилась бы продолжить это знакомство, если бы в тот вечер сердце не было так полно, если бы, прощаясь, он не сказал:
– А знаете, Надя, я как будто ждал этой встречи!
И потом, в письмах из Петербурга, он писал, что так и должно было произойти, он потому и заболел, потому и оказался в Самаре на лечении и попал как раз на тот концерт, чтобы встретиться с ней. И возвращался к песне Рубинштейна, и она будто опять слышала, как поет Шаляпин:
О, если б навеки так было…
«Это судьба!» – написал он.
«Это Господь нас привел друг к другу!» – думала она и молилась, чтобы они поскорее встретились. Сергей закончит учебу, и тогда они всегда будут вместе.
– Да как же это может быть, доченька? – чуть не плакал отец Мартирий, всякий раз вызывая Надю на разговор, когда приносили очередное письмо из Петербурга. – Он военным станет, а сейчас война. Как вы будете вместе?
– А разве я не могу стать медицинской сестрой? Разве сама императрица и великие княжны не были на фронте?
– Господи, о чем ты? – ужасался отец Мартирий. – Разве можно на войне определиться туда, куда хочешь? Да и кто ты ему?
– Господь поможет!
Других слов Надя не находила.
Отец Мартирий горестно вздыхал и так жалостно смотрел на шкатулку, куда складывались Сережины письма, что Надя не выдержала:
– Пожалуйста, читай! – и отдала письма отцу.
Отец Мартирий готов был сквозь землю провалиться, но удержаться не мог – письма Сергея читал быстро, а потом вспоминал отдельные строки, вроде: «Конечно, я смешон в своих сравнениях, и слова не могут передавать мои чувства, но вы, Надя, свет в моей жизни. Знаете, когда откроешь занавеску и распахнешь окно в сад, свет вдруг упадет на пол косо, лучами, видели? И свежесть, и красота такая, и лучи лежат на полу, как живые. Это все вы, Надя».
«Ишь ты, „косо, лучами“! – бормотал себе под нос отец Мартирий, идя из дома на службу или со службы из Иверского храма через сад к своему зеленому, с крыльцом, домику. – А того не понимает, что все это вздор поэтов. Разве она ему ровня? А как узнает про эту блажь Ростислав Евгеньевич?»
Все вышло совсем не так, как предполагал отец Мартирий. Сергей из-за слабых легких опять приезжал лечиться кумысом. А знаменитый конезаводчик сам пришел в дом к священнику.
Повел он себя запросто:
– Ну что же, отец Мартирий, разве мы враги своим детям? Он у меня один. И у вас она одна. Посмотрите – который год встречаются! Так произошло…
Он смотрел на батюшку открыто, не чванился. Отец Мартирий не знал, что ответить. А Ростислав Евгеньевич продолжил:
– Я, знаете, предполагал нечто в этом духе. Он у нас болезненный, романтичный. Так его воспитала мать…
– Ростислав Евгеньевич, – наконец робко сказал отец Мартирий. – А может, это блажь? Молодо-зелено… Сынок ваш опять уедет в Петербург. Ну зачем ему поповская дочка?
Матушка Глафира за дверью слышала этот разговор. Она решительно вошла в комнату:
– Ростислав Евгеньевич, да что вы не присядете? Отец, ты даже нашей наливочки не предложил. Как так?
– А, наливочки! – конезаводчик пришел в себя, улыбнулся. – Слыхал про вашу знаменитую…
Матушка Глафира была проворной, бойкой, она всегда держала дом в исправности и благополучии. Вмиг был накрыт стол, отведаны наливки, закуски. Накрывая на стол, матушка как бы невзначай заметила:
– А вот ваш, как нынче приехал… Гляжу – идет в плаще дорожном, в фуражке. Сторож Игнатий сказал, что на извозчике сынок ваш прямо с вокзала…
– Да, я тоже был удивлен, – Ростислав Евгеньевич любил выпить и хорошо закусить, и угощение матушки Глафиры ему явно понравилось. – Он мне чуть не с порога, знаете ли… Идите, говорит, отец, к родителям Нади. Что ж, раз так, – Ростислав Евгеньевич откинулся на спинку венского стула. – Я, отец Мартирий, хотя человек больше практический, но знаю, что любовь превыше всего. И поскольку любовь взаимная…
– Молодых надо благословить, – закончила фразу матушка Глафира.
Отец Мартирий полез за платком вытирать слезы.
– Ты погоди, матушка. Сразу-то…
– Иначе нельзя, отец мой. Сереже ехать на фронт. А по случаю помолвки разрешат ли дома побыть? Хоть недолго?
Ростислав Евгеньевич согласно кивнул и, хотя матушка Глафира продолжала стоять у дверей, обращался к ней, а не к отцу Мартирию, сидевшему рядом.
Стали обсуждать, когда им лучше венчаться. Вдруг раздались голоса.
Матушка Глафира выглянула в раскрытое окно. Надя и Сергей стояли у крыльца. Она была в белом платье, в шляпке, милая, с сияющими глазами. Он держал ее руку и что-то говорил, улыбаясь. Отвороты белой рубашки были выпущены поверх пиджака.
– Да вы поглядите, какие они, – сказала матушка. – Точно голуби!
Ростислав Евгеньевич и отец Мартирий подошли к окну.
– Что же вы в дом не идете? – сказала с ласковым упреком матушка Глафира.
И по ее улыбке Сергей и Надя поняли, что их судьба решена.
Глава девятая
Надежда – сестра Фотиния
(продолжение)
Известие о том, что Сергея убили, Надежда приняла в такой же светлый, солнечный день. Так же было открыто окно в гостиной. Но только за столом сидел не Ростислав Евгеньевич, а поручик Дернов, свидетель гибели Сергея.
Ростислав Евгеньевич с женой были в этот день в Париже и еще не знали, что их сын скошен пулеметной очередью в бою с красными.
Самара опять перешла в руки большевиков. Теперь, кажется, надолго.
Дернов был в штатском, плохо выбрит. На виске дергалась жилка, когда он говорил о бое. Силы оказались неравными, и если бы снарядов побольше, и если бы не бездарность штабистов…
Надя плохо понимала, что говорит незнакомый человек в сером поношенном пиджаке. Воротник рубашки явно несвежий, на коленке брюк пятно – видимо, Дернов был в чужой одежде, «под пролетария». Ел и пил совсем не так, как Ростислав Евгеньевич – неохотно, мало. И даже наливку не похвалил, хотя по вкусу она была точно такая же, как и до Гражданской войны.
Когда офицер уходил, он отдал ей письмо Сергея. Надя обратила внимание, что Дернов маленького роста. Потому и выжил. А такие высокие, светловолосые, как Сережа, погибают. Он вел батальон в бой и шел впереди всех.
А мог уехать с родителями в Париж. И она могла уехать.
До свидания, поручик Дернов!
Да, не увидимся больше никогда.
Нет Сережи.
Нет Отечества.
А Бог есть? Или навсегда отвернул Свой лик от России?
Оставшись одна, она стала читать письмо:
«Пишу к тебе в последний раз, любимая. На рассвете бой, и ясно, что нас вытеснят. Но мы будем драться до последнего патрона.
Наденька, милая моя! Ты все поймешь! Я не мог уехать в Париж. И сейчас удрать не могу – позади родная Самара, ты, все, что свято.
Да, мы погибаем, но это еще не все. Как верующий человек ты знаешь, что только претерпевший до конца спасется. И души наши послужат России, верь, моя любимая! Россия будет всегда и вовеки, и никому не сломить нашу великую Отчизну. И наша любовь, Наденька, наша вера и наша смерть послужат ей.
Я знаю, что и ты так думаешь, иначе бы уехала за границу.
Наденька, родная моя!
Я много раз думал о той песне Рубинштейна „Клубится волною“, которая сроднила нас. И только недавно я разгадал ее тайну. Там поется о счастье любви, а Шаляпин вкладывает в радостную песню столько боли, муки, даже стона. Почему? Да потому что счастье мимолетно, оно пришло и ушло, и певец это знает.
Как будто он пел про нас с тобой. Но души наши все равно соединятся.
Прощай, родная моя. Спасибо тебе за самые высшие минуты счастья, которые ты подарила мне.
Твой Сергей».
Надежда затеплила лампадку и стала молиться. Еще с детских лет отец наставлял, что ночная молитва – самая высокая.
В красном углу стояли три иконы: в середине – «Троица», по бокам – «Спас Нерукотворный» и Иверская. Сколько она стояла на коленях перед этими иконами, сколько молила, чтобы Сережу не убили! Ну чтобы хотя бы до свадьбы дожил.
– Сереженька! – выплеснулось из самого сердца.
Крик получился громкий, и отец Мартирий услышал его. Прибежал к дочери, упал на колени рядом с ней и прижал к себе. Долго плакали вместе.
– Папа, почему же Он не услышал меня? Неужели я такая плохая?
– Нет, доченька, ты очень хорошая.
– А за что же Он меня карает? Чем я Его прогневала?
– Ничем, доченька. Сегодня страдают все праведники. А торжествуют бесы.
– Но почему? Почему праведникам обязательно надо страдать? Справедливее было бы наказать неправедных, злых.
– Нет, доченька. Помнишь, как Господь говорил ученикам: Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, – но это еще не конец.
– Да что же может быть еще хуже?
– Наверное, когда закроют храмы и нас вытолкают на улицу.
Как в воду глядел отец Мартирий. Через пять лет, когда Надежда была уже монахиней, сестрой Фотинией, во время литургии в Иверский храм вошла группа военных. Только один, что шел впереди, был в штатской одежде. Уверенными шагами, смотря прямо перед собой, дойдя до Царских врат, он жестом указал, чтобы бойцы с ружьями остановились.
Шла Евхаристическая молитва, наступал самый торжественный ее момент. Отец Мартирий возглашал:
– Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.
– Аминь! – пропел хор.
– Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов, – возгласил отец Мартирий, и хор опять отозвался:
– Аминь!
Именно в этот момент литургии и происходит освящение Святых Даров.
– Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся, – протяжно провозгласил отец Мартирий.
– Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, – запел хор.
Еще не успели стихнуть эти слова, как тот, в кепке с большим козырьком, в пиджаке и рубашке с галстуком, вошел в алтарь и резким движением руки скинул с престола Святые Дары. Потир и дискос упали на пол и покатились, звеня.
Кровь Христова брызнула на мраморный пол.
Человек в кепке таким же сильным движением вытолкнул отца Мартирия из алтаря, вышел следом.
– Постановлением губисполкома монастырь как рассадник мракобесия и контрреволюционной заразы закрывается, – выкрикнул человек фальцетом. – Здесь мы создадим другой храм – храм просвещения и науки. Слышите, товарищи? Сознательные борцы за советскую власть получат жилье в монастырских домах и будут жить свободно и счастливо! А монахинь, как тунеядствующий элемент и приспешников буржуазии, мы из этих помещений, построенных народом, изгоняем!
Отец Мартирий с неподдельным ужасом смотрел на оратора:
– И при Нероне так не поступали…
– Что? Что ты сказал? – голос человека перешел на визг.
Очнувшись от шока, загудели, зашумели люди:
– Да как это?
– Да что же это такое?
– Люди, это беззаконие!
Человек в кепке метнул взгляд в ту сторону, откуда раздался последний возглас.
– Вот! – он поднял бумажку над головой и потряс ею. – Постановление подписано три дня назад! Ваш поп предупрежден! И больше мы не позволим вести гнусную агитацию под названием литургия! Бойцы, вывести его отсюда!
Вооруженные люди подхватили отца Мартирия под мышки. Он попробовал вырваться, и тогда человек в кепке ухватил священника за бороду и потащил к выходу из храма.
Спасать отца Мартирия первой кинулась матушка Глафира.
– Отпусти его, окаянный! – и она стукнула обидчика в грудь.
В ответ получила удар прикладом по голове.
Это произошло у выхода из храма. Матушка упала, народ охнул. Подбежала сестра Фотиния, подняла мать с паперти, вытирая ей кровь и поправляя платок. Быстро подошел человек в кепке:
– Ключи!
– Не дам, – внятно сказала матушка Глафира, опираясь на руки дочери.
– Буду стрелять! – и человек выхватил револьвер из-под пиджака.
Ни слова не говоря, Фотиния закрыла собой мать.
– Предупреждаю! – и человек выстрелил в воздух. – Оказавшие сопротивление подлежат аресту!
Бойцы ощетинили штыки, оттесняя народ.
Громко, надрывно заплакал чей-то ребенок.
* * *
Новая власть не ограничилась закрытием монастыря. Когда пришло время усилить борьбу с религией – «опиумом для народа», как заметил еще Карл Маркс, когда была поставлена задача окончательного уничтожения православной веры, чекисты разработали хитроумный план ликвидации монахинь Иверского монастыря.
Чекисты решили дать объявление в газете «Волжская коммуна», что Иверский монастырь вновь открывается. Была твердая уверенность, что монахини, изгнанные из обители и продолжающие вести свою «контрреволюционную агитацию» в домах мирных граждан, сами стекутся к монастырю. Тогда взять их не составит никакого труда.
План был принят и одобрен. Ну а чтобы долго не возиться с монахинями потом, решили посадить их всех на старую баржу и вывезти на Волгу, за какой-нибудь пустынный остров, – пусть отправляются к своему Богу прямо в рай!
После объявления в газете к монастырю пришли все оставшиеся в живых монахини Иверской обители. В их числе были сестры Евфросиния (Любовь), Марфа (Вера), Епистимия (Татьяна), Прасковья и Варвара, Фотиния (Надежда). Самую старую монахиню, Феодору (Александру), принесли на носилках.
Монахиня Анна, которая добралась до монастыря из деревни на следующий день после ареста сестер, была силой отправлена домой сторожем монастыря, поэтому осталась в живых.
* * *
Дождь и ветер прекратились, и в наступившей тишине стало слышно, как в щели затекает вода. Баржу развернуло так, что бревно из-под днища выплыло, течение понесло его вниз по реке. Накренившись еще больше, оседая кормой, баржа стала погружаться в воду. Сестры поняли, что наступила минута прощания, и запели дружно, подхватив голос сестры Евфросинии: «Под кров Твой, Владычице, вси земнороднии прибегающе, вопием Ти: Богородице, упование наше, избави ны от безмерных прегрешений и спаси души наша».
В это время на острове в шалаше проснулся мальчик. Отец взял его на рыбалку, да не удалась она из– за бури и дождя. Хорошо, что шалаш сделан отцом надежно, в своде береговой пещеры. Есть где спрятаться от непогоды. Протерев глаза, мальчик вышел к реке, увидел ясное небо и улыбнулся. Утро было свежее, чистое, радостное. И тут ему показалось, что он слышит пение. Еще и ночью, когда буря стихла, как будто кто-то пел. А сейчас, в утренней тишине, пение слышалось так отчетливо.
Мальчик пошел вперед и увидел посреди реки старую накренившуюся на один борт баржу. Там кто– то находился – пение неслось как раз оттуда.
Мальчик разбудил отца и вывел его на то место, откуда была видна баржа. Оттуда раздавались слова молитвы: «Услыши мя, Господи, изведи из темницы душу мою».
– Кто это?
Мужчина лет сорока, заспанный, небритый, не мог сразу понять, что происходит. Когда до него наконец дошло, он начал испуганно озираться.
– Гляди, они сейчас утонут!
Нос баржи резко задрался вверх, и она стала скрываться в воде. Пение стихло, вода забурлила и потекла, как прежде, будто на ее поверхности не было никакой баржи. Мужчина начал быстро собирать вещи, снасти, укладывая их в лодку.
– Скорее, сынок!
– Да куда? Сейчас самый клев начнется!
– Скорее, я говорю! И запомни: ты ничего не видел и не слышал. Ничего!
– Да почему?
– Потом объясню. Бежим отсюда!
Только он хотел сесть за весла, как издалека послышался треск мотора. Мужчина выпрыгнул на берег, затащил лодку за куст, забросав ее сырыми ветками.
– Прячься! – он втолкнул сына в шалаш, поправил ветки так, чтобы шалаш не увидели с реки. Затаился, глядя через ивовые листья на оконечность острова, откуда доносились звуки мотора.
Видя, как напуган отец, затаился и мальчик.
Буксирный катер резво шел вниз по реке. На носу катера, засунув руки в карманы длинного плаща, стоял человек в очках, с курчавыми волосами до плеч. Рядом стоял другой, белесый, с широким угрюмым лицом.
– Здесь вот! – он показал рукой на то место, где недавно стояла баржа. – Видите, все в порядке.
– Да, место вроде бы подходящее, – сказал человек в очках, озираясь. – А на острове рыбаков не бывает?
– Какие рыбаки в грозу-то?
– Пожалуй! – и он дал знак рулевому.
Катер развернулся, направляясь к Самаре. Стоило ему скрыться за поворотом реки, как из того места, где ушла на дно старая баржа, ударил в небо столп света. Он был таким ярким и сильным, что все пространство над рекой зацвело.
Семицветный столп дугой выгнулся по небосводу, опустившись за краем поросших деревьями и кустарником гор, – как раз там, где был створ Жигулевских ворот.
Мальчик, выйдя из укрытия, смотрел в небо, замерев от счастья. Не слыша окриков отца, он побежал к краю острова, чтобы лучше рассмотреть эти семь дивных цветов неба, которые горели так ярко и нежно. Они плавно, мягко переходили один в другой, становясь нераздельным целым.
И, облитый этим светом, вскинув голову, мальчик видел, как в небесные врата улетели легкие, насквозь пронизанные солнцем белые птицы.
БОРИС И ГЛЕБ
Сказание и страсть
I
Владимир вошел в княжескую палату тяжело и неспешно. Его лицо, измученное бессонницей, как будто припорошил снег. Легкий шелковый скарамангий (длинное парадное одеяние), изумрудно-зеленый, выделанный по оплечью и подолу бисером и золотыми нитями, словно мешал ему, потому что, садясь, он одернул это греческое одеяние с плохо скрываемым раздражением.
– Недобрые вести, великий князь, – сказал, подавшись вперед, воевода по имени Блуд.
Темное одеяние его было перехвачено широким поясом, а на поясе висел длинный, до пола, меч. Левая рука Блуда как бы приросла к рукояти меча, и сколько помнил Владимир, страшная эта рука расставалась с рукоятью лишь на пирах, когда Блуд впивался зубами в жареное мясо или прижимал к себе женщин.
Блуд еще подался вперед и сказал:
– Печенеги!
Владимир чуть было не застонал, но сумел сдержаться и только криво усмехнулся:
– Велики числом? Далеко продвинулись?
– Доносят, что реку Трубеж перешли, а грабят и жгут более, чем прежде, – быстро заговорил Тимофей, старейшина градский. – Будто множество собралось поганых и стали, как звери, – и стукнул тростью о каменный пол.
Владимир невольно посмотрел на то место, куда стукнул Тимофей, и вспомнил, как радовался, когда впервые вошел в эту палату, где закончили работу мастера. Пол белый, стены изукрашены росписью, в окнах цветные стекла из Корсуни – весь терем княжеский был не хуже, чем дворцы греков. И все тогда радовало глаз и веселило сердце.
Отчего же теперь томится душа? Отчего даже вражье нападение не обжигает кровь, не сжимает пальцы в кулак, как это всегда было раньше?
«Это хворь во мне», – подумал Владимир.
– Не впервой нам печенегов бить, – сказал он, стараясь придать словам привычную силу. – И на этот раз побьем, коли не будем мешкать.
– Нынче и ополчимся, ты только прикажи! – сразу же откликнулся Блуд, в последнее время боявшийся, как бы Владимир не заменил его кем-либо из тех, кто помоложе.
Вот они, рядом стоят, в затылок дышат – Ян по прозвищу Кожемяка, Александр, за храбрость отмеченный золотой гривной, варяг Рагнар. У каждого из них рука такая же страшная, как у Блуда. А может, еще страшней.
– Веди нас, князь, – твердым голосом сказал Кожемяка, прославивший себя как раз на реке Трубеж, в схватке с печенежским богатырем.
Владимир хотел встать и призвать к походу, но что-то стиснуло грудь, и на щеки его как будто упал пепел.
Борис, сын Владимира, быстро шагнул к отцу и протянул руку. Владимир схватил ее. Рядом стоял митрополит Иоанн. У него, как и у Бориса, в глазах вспыхнул неподдельный страх.
Борис чувствовал, что отец держит его руку цепко, сдавливая ее все сильнее. Пепел на щеках постепенно исчезал. Владимир встал, и глаза его сузились.
– Ты, Борис, поведешь дружину, – сказал он, как бы выталкивая из себя слова. – А ты, Блуд, будешь рядом, и меч твой будет Борису защитой. И вы, други мои, не посрамите князя своего и землю Русскую!
– С нами Спаситель, – митрополит перекрестил Бориса, а сам не сводил глаз с Владимира и видел капли пота на лбу князя, которые выступили из-под парчовой шапки с бобровой опушкой.
– И мы ополчимся, – сказал Тимофей. – Хочешь – тысячу воинов выставим, хочешь – две.
– Пусть две дружины градские будут, – сказал Владимир. – Одну под свое крыло возьмешь ты, Кожемяка, вторую – ты, Александр. А когда час сечи придет, ты, Рагнар, своих варягов поставишь.
Рагнар, гордившийся тем, что Владимир всегда ставил варягов на самом главном месте битвы, улыбнулся, довольный.
– Варяги тебе приносили победу, – сказал он, – и теперь принесут.
Его светлые волосы опускались на плечи, безбородое лицо было покрыто легким загаром, глаза голубые, будто промытые холодной северной водой. Ни за что не поверишь, что этот статный, узкий в талии и не столь широкий в плечах воин может ударом меча разрубить врага до седла. Но Владимир своими глазами видел, как Рагнар делает это – и не только в начале битвы.
– Перед походом помолимся! – сказал митрополит.
Владимир кивнул и первым пошел вперед.
– Отец, – хотел остановить его Борис, но Владимир поднял руку и направился к двери, которая вела на галерею терема.
Оттуда спускалась лестница на княжий двор, и по ней Владимир шел, уже не опираясь на руку Бориса, а твердо, и щурился, глядя на яркое летнее солнце.
От княжеского терема к храму они прошли через площадь, где раньше было требище (древний славяно-русский жертвенный алтарь языческих обрядов в виде возвышенности, постамента или камня) и стояли идолища, и главный среди них – Перун с серебряной головой и золотыми усами. Теперь стоят мраморные колонны и на них греческие статуи, и четверка медных коней, которой правит воин, чем-то похожий на Рагнара. Солнце золотит его сильное тело, вспыхивает на крупах коней, и они, как живые, летят вперед.
Все эти статуи Владимир привез в Киев из Корсуни, привез и мастеров, которые вместе с русскими сложили белый храм – вот он стоит, прекрасный и высокий.
Биричи (глашатаи) уже скакали по Киеву, и их зычные голоса раздавались и на Горе, и на окраинах города, где жил ремесленный люд. В это время Владимир опускался в храме на колени, а церковный служка подкладывал под них бархатную подушечку.
Службу начал митрополит, и его густой голос то нежно обволакивал душу, то мучил ее, взлетая под самый купол. Слова, которые раньше не понимал Владимир, теперь были понятны все, но не успокаивали, а томили сердце.
Рядом стоял Борис, и его тонкий нежный профиль Владимир видел боковым зрением. Видел волнистые волосы, усы и бородку с золотистым отливом, прямой нос и мягкий очерк губ – как у матери.
«Господи, спаси и защити его, – молился Владимир, – кто, как не он, должен быть угоден Тебе? Господи, ты знаешь, я многогрешен, но если что-то сделал по слову и завету Твоему, то воздай мне – защити Бориса. Забираешь меня из мира этого – я не ропщу, значит, пришел мой час. Но вот не будет меня, и станут терзать Бориса и на сече злой, и в доме моем, ибо будут искать стола моего. Укрепи его, дай ему силу. Посмотри, как он хорош и лицом, и душою. Дай ему силы устоять против печенегов, торков, варягов, поляков, греков. Ведь как узнают они, что меня нет, сразу станут испытывать, силен ли русский князь. Дай ему силы устоять и против братьев, ибо они страшны не меньше. Не допусти, чтобы они подняли мечи друг на друга!»
Владимир повернулся к сыну и увидел его темные глаза.
«Что?» – прошептали губы Бориса, и Владимир опять нашел ладонь сына и крепко сжал ее.
Рядом, в боковом приделе, под мраморной плитой покоилась Анна, и всякий раз, приходя в храм, Владимир думал о ней.
Сначала он искал ее руки как греческой царевны, но кесари Василий и Константин отвергли притязания варвара. Тогда он сокрушил Корсунь – Херсонес, как называли этот город греки. Теперь Владимир не просил, а требовал, чтобы кесари отдали ему Анну. Взамен он обещал принять веру греческую, вернуть Корсунь и защитить Царьград от всех, кто посмеет напасть с востока.
И Багрянородные прислали свою сестру Анну, неземное создание, Порфирогениту – рожденную в Порфире, в том самом дворцовом зале, где появляются на свет не люди, а цари и царицы, наперсники Божьи. Так объясняли патрикии (один из титулов служилой знати), прибывшие с Анной, от которых шел запах цветов; так объяснял старший среди епископов, в белом, до пят, одеянии с черными крестами. От него пахло чем-то пряным, как и от его слов, а от Владимира пахло вином и победой. Он кивал, слушая епископа, а сам посматривал на Анну, одетую в шелка и бархат, на ее лицо – бледное, с пятнами румянца, с горящими черными глазами, в которых гордость была перемешана с любопытством и страхом. И радость будущей жизни с этой царевной волновала его и жгла.
Но уже тогда, в Корсуни, еще не остынув от опьянения победой, в сердце поселилось чувство, почти незнакомое ему. Женщин он знал без счета, женился пять раз, и что такое жизнь с новой женой, ему было хорошо известно. Женился он по-разному: и ослепленный желанием, переламывая яростное сопротивление, были и такие, кто шел за него с радостью, приходилось жениться и по необходимости. Но все они – и гречанка Мария, и княжна варяжская Олова, и полоцкая княжна Рогнеда, и богемская Мальфрида, и чешская Адиль, – все они не вызывали в нем тех чувств, которые вызвала еще в Корсуни Анна.
Он стоял перед ней, победоносный, хмельной, а сам был смущен, как отрок, которому предстоит первая брачная ночь. Наверное, это новая жизнь в новой вере смущала его сердце. Ему не жалко было отдать сотни наложниц и в Берестове, и в Вышгороде, отказаться от них навсегда; не жалко отдать женам с их детьми города – пусть живут там, он никогда не станет тревожить их. Но как жить только с одной женой по закону новой веры? А если Анна не полюбит его? Или он сам станет равнодушен к ней? Разве этого не бывало, когда проходил угар первых ночей?
Она стояла, тоненькая, как деревце, царственная и робкая, и он понимал, что перед ним стоит его судьба.
Анна, Анна, ты подарила то, чего не смогла ни одна женщина – ты подарила любовь столь же чистую, как светлое небо в первый весенний день!
Молебен закончился, и Владимир направился к выходу из храма. Он шел со свитой к терему по– прежнему неторопливо и торжественно, и знатные киевляне, завидев его, кланялись, а простой люд валился на колени.
Только в своей опочивальне он расслабился, лег, приказав позвать Анастаса, иерея Десятинной церкви. Анастас умеет выгонять хворь. Каждый вечер он натирает тело князя снадобьем, дает питье, и Владимиру дышится легче.
Анастас сухощав, быстр на ногу, длинная ряса не мешает его легкому, как бы скользящему шагу. В черных, чуть навыкате, глазах видна самоуверенность человека, познавшего тайну. Волосы у него длинные, но сильно поредели, борода курчавится, как и прежде, но в ней обильна седина. Уже 27 лет прошло с той поры, когда Владимир привез из Корсуни этого многоопытного и многоречивого грека.
Анастас тонкими сильными пальцами втирал снадобье в грудь Владимира, и князь испытывал боль, но знал, что надо терпеть. Он отдышался, а когда выпил приготовленный Анастасом настой, боль отступила.
– Чем опять недоволен? – спросил Владимир, видя, что Анастас хмурится, изламывая бровь.
– Бог разум чтит, тебе ли этого не знать, – сердито сказал Анастас. – Зачем приказал градским людишкам на рать идти? Или Борису твоей дружины мало? А как завтра к Киеву иной враг подойдет? Хоть бы Святополк?
– Вон ты что… Сам его вразумлял, а не веришь, что научил чтить отца.
– Не верю.
– И что в порубе (деревянный сруб, использовавшийся в Древней Руси в качестве места заточения) Святополк сидел, тоже не помогло?
– Не помогло.
– Ах, Анастас, тяжело с тобой говорить – всегда ты прав. А все же, хоть и рожден в грехе, не поднимет он руку на меня.
Анастас сдерживал раздражение, тер ладонями колени, и ряса его колыхалась. Поверх рясы висел золоченый крест, и когда Анастас поворачивался к оконцу, солнечный луч вспыхивал на нем.
– А все же ты многого не знаешь. Рассказать? – Владимир и сам удивлялся, почему откровенничал с Анастасом.
Никому, даже митрополиту, не рассказывал он о тяжких подробностях жизни своей, а вот перед Анастасом обнажался. Почему? Неужто потому, что и Анастас совершал подлые поступки? Ведь это он указал место, где можно было перекрыть трубы, дающие воду неприступной Корсуни. Владимир приказал копать, трубы на самом деле оказались в том месте, какое указал Анастас, воду перекрыли, и вскоре Корсунь пала.