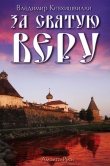Текст книги "Взыскание погибших"
Автор книги: Алексей Солоницын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Глава семнадцатая
Третья тайна убийц
17 июля 1918 года, 1 час ночи – 8 часов утра
Гость и Юровский вошли в расстрельную комнату. Кровь на полу, на обоях, дверях, следы ударов от пуль, штыков. Кое-где обвалившаяся штукатурка. Пахнет гарью и кровью.
– Янкель, где лежал царь? Здесь? – гость показал на лужицу крови у левого стула.
– Да. Рядом – царенок. Правее – царица. А за ними – княжны.
– Хорошо, – гость погладил черную, клином, бороду, доходившую почти до пояса. – Выставь охрану у двери и сам встань, чтобы сюда никто не входил, пока я сам не выйду.
– А зачем?
– Надо, Янкель. Потом скажу. Потом пусть придут женщины – жены караульщиков. Надо все вымыть с мылом и песком.
Юровский ушел.
Гость достал черный мешочек из небольшого чемоданчика. В нем были подушечка, кисточка, флакончик черной краски особого состава. Обмакнув кисточку в краску, гость написал четыре каббалистических знака:

Значение надписи: Здесь по приказанию тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы.
На стене гость обнаружил написанные тушью строки из Гейне, из поэмы «Валтасар»:
В ту самую ночь Валтасар
Был убит своими слугами…
«Войков успел начертать, – понял гость. – Интеллигент! Что ж, пускай останется и эта надпись. А это что?»
Гость стал рассматривать надписи на немецком. Это были имена убийц.
«Стереть. Никаких имен!».
Из лужиц крови, что пролилась в этих местах, гость ложечкой стал собирать кровь во второй флакон. Флакон аккуратно спрятал в мешочек, поставил в свой чемоданчик.
Закончив операцию, он вместе с Юровским поднялся на второй этаж.
Гость сразу же увидел железный сундучок, стоявший на столе, до краев наполненный драгоценностями.
– Много украли? – спросил гость.
– Не очень. Я почти все заставил вернуть.
– Хорошо, Янкель. Все самое ценное опечатать и увезти в Москву.
– Дряни много. Иконы, мусор какой-то – камешки, цветочки засохшие…
– Это так называемые святыньки – с разных памятных мест. Все на помойку, иконы разбить!
– А одежда?
– Рассортируйте.
Янкель понял так, что часть можно взять себе, часть раздать персоналу. А сейчас все ценное надо увезти в «Американскую гостиницу».
В комнату вошли Шая Голощекин и Пинхус Вайнер.
– Я подогнал авто, – сказал Шая.
– Правильно. На погрузку поставить надежных людей. А самим вести контроль. Когда ждать Ермакова?
– К рассвету, – сказал Войков.
– Прекрасно! Шая Исаакович, – обратился он к Голощекину. – Вы принесли, что я просил?
– Конечно! – живо откликнулся Голощекин. – В столовой? Или прямо здесь?
– Прямо здесь. Вот на этот столик… Посмотрите – прекрасные царские бокалы, с вензелями.
Голощекин открыл саквояж, с которым пришел, достал штоф «Смирновской» и хотел налить водку в фужеры.
– Только не сейчас, чуть позже. – Гость открыл свой чемоданчик и вынул оттуда флакон с кровью.
Улыбки сползли с лиц Голощекина и Вайнера. Что должно произойти, понял и Юровский.
– Братья мои, – начал гость голосом торжественным и твердым, – этой кровью жертв, которую мы принесли богу нашему, мы сейчас скрепим навеки наш союз и поклянемся: все, что мы совершили здесь во имя его, сохранить в вечной тайне, не говоря о том никому и никогда. Я прочту клятву и молитву на древнееврейском, а потом по-русски, а вы ее за мной повторите. Запомните: тот, кто нарушит данную клятву, подлежит уничтожению. Не укрыться изменнику нигде и никогда от расплаты не уйти…
В это время отряд Ермакова, миновав Верх-Исетский завод, двигался по дороге к Коптякам. Дорога шла полем. Ночь истлевала, воздух был серым, призрачным, влажным. Нудно гудел мотор автомобиля, чекисты, сидящие в кузове по углам, покачивали головами, как китайские болванчики. Им хотелось спать, хотелось в тепло. К плошке с горячим супом или, на худой конец, к чугунку с картошкой.
Чекисты все были иноверцы, попавшие в Россию во время мирового похода. Теперь они продолжали убивать, но уже за деньги. Никто из них не понимал, в какой мясорубке оказался, какой хищный зверь с красным языком, красными глазами и волчьим оскалом управляет ими. Им казалось, что они выполняют высший долг, о котором говорят вожди интернационализма.
Дремавший в кузове австриец вдруг увидел, что из-под солдатского сукна, которым были накрыты тела, выпросталась девичья ладошка. Она была маленькой, белой, и когда грузовик подпрыгивал на кочках, ладошка дергалась. Австриец, нагнувшись, заправил ладошку под сукно, закрыл глаза, чтобы хоть немного подремать. Но в очередной раз, когда машина подпрыгнула, он невольно открыл глаза и опять увидел ладошку. Ему даже показалось, что указательный палец этой ладошки согнулся, будто поманил его к себе.
Наемник выругался и хотел снова натянуть сукно на труп, но в это время услышал голоса и увидел людей, которые верхами, на телегах и пешими стояли на дороге.
Впереди отряда верхом на коне ехал матрос Ваганов, один из помощников Ермакова по верх-исетскому ЧК.
Ваганов уже проявил себя, побывав в «деле» с Ермаковым: стрелял сразу, не раздумывая, бил наотмашь, мог и с ног свалить. Ходил он в своей матросской форме, в деревянной кобуре носил револьвер, чтобы каждый знал, с кем имеет дело.
– Братва! – крикнул Ваганов. – Дай дорогу!
– Погоди! – отозвался коренастый рабочий в картузе, в коротком, выше колен, пальто, скуластый и востроглазый.
По окрику его, движениям было видно, что он тут за старшего.
– Где Петро?
– Здесь я! – отозвался Ермаков, вылезая из кабины грузовика. – Здорово!
– Здорово! – отозвался коренастый. – А где эти, царские?
– Лежат в кузове. Охрану поставил?
– Погодь. Ты ж обещал их живыми привезти.
Отряд, в основном верх-исетские рабочие, зашумел, задвигался.
– Тихо! – крикнул Ермаков. – Обстановка такая была. И приказ Уралсовета – расстрелять Романовых на месте. Во избежание нападения или еще чего. Чтобы случайностей не было, понятно? И вы должны проявить пролетарское понимание ситуации и выразить общую нашу радость, потому как царизм пал навеки!
– Да ты погодь, комиссар, – сказал, двинувшись вперед, другой рабочий, хорошо знавший Ермакова. – Дай хоть глянем на энтих-то! – и он сунул Ермакову початую бутылку самогонки.
– Да глядите, мне-то что. Только кузов не поломайте!
Задрали солдатское сукно.
– Эка!
– Гляди, мальчишка!
– А энто, сбоку, царица?
– Дурак! Горничная это, царица-то вон, у кабины…
– А девки-то, девки…
– Что девки? Бабы как бабы…
– Да нет…
– Чаво нет? Жалеть их вздумал? Нашей-то кровушки сколько они выпили, а?
– Да ведь оно так, а все ж…
– Ладно, закрывай, нечего глазеть! Ехать надо.
– Мы с вами?
– Куды столько народищу? – крикнул Ермаков. – Пятерых берем, и будя. Остальным стать в оцепление здесь. Второе кольцо поставить у Четырех Братьев. Организуй, – он ткнул пальцем в коренастого, отхлебнул из бутылки и протянул ее знакомцу.
– Да бери с собой, пригодится!
– Ладно, – Ермаков сунул бутылку в карман. – Едем! – и залез в кабину к Люханову.
Отряд двинулся вперед.
Будочник у железнодорожного переезда не высовывался – таков был приказ. Но в окошечко он видел, как проехал грузовик. Ясно, что в нем везли убитых.
За переездом дорога раздваивалась на две ветки. Одна, через лес, вела в деревню Коптяки, другая шла к югу, через болото, местами непроходимое.
Развилка начиналась там, где прежде росли четыре могучих сосны. Место назвали урочищем Четырех Братьев. Теперь на месте развилки торчал лишь один пень.
Обе дороги за болотистым местом, верстах в пяти, соединялись. Весь этот район именовался Ганиной Ямой – по названию маленького прудика, который находился в середине района. Здесь было много шахт, шурфов, котлованов – когда-то велись рудничные разработки.
Ермаков выбрал поляну, которая находилась поближе к руднику, в глухом лесу.
Посреди поляны был глиняный холмик, дальше – заброшенная шахта. На краю росла старая кривая береза, перед ней – кустарник. Грузовик не доехал до поляны, застрял на дороге. Тела убиенных перегрузили на брички. Но и брички не могли проехать к поляне – мешали кусты и деревья. Ермаков приказал срубить молодые березки, сделать носилки. Других заставил разжечь костерок, чтобы отгонять зверевших с каждым часом комаров. Тела перенесли к глиняному холмику, свалили в кучу. Ермаков заглянул в шахту. Она была достаточно глубока. На дне блестела вода.
– Валежнику тащите! – приказал он.
Его покачивало, он чувствовал тяжесть в ногах, гул в голове. Глаза слипались сами собой. Он вытащил из кармана бутылку и отхлебнул.
– Давай! – крикнул Петр.
Убиенных бросили в шахту. Не забыли кинуть туда и трупик мопса Джемми – это был наказ гостя.
Забросали шахту валежником и пошли к машине.
Грузовик к этому времени вытащили из ямы и откатили на дорогу. Сели по местам – в кузов грузовика, по бричкам – и двинулись к Екатеринбургу. Солнце уже светило в небе, перекликались утренние птахи…
Глава восемнадцатая
Четвертая тайна убийц
17–18 июля 1918 года. День, вечер
Когда Ермаков вернулся в Уралсовет, надо было как следует его отматерить за то, что он не догадался о том, что царские тела по ритуальному закону надо выбросить на помойку – вместе с трупом собаки. Собачка Джемми, которую Анастасия носила то в муфте, то в рукаве, оказалась кстати. Вторая собачка, Джой, царевича Алексея, куда-то пропала. (Позже выяснилось, что ее украл пулеметчик Летемин.)
Теперь по этому же закону предстояло тела поднять и уничтожить. Ермаков едва держался от усталости на ногах. Глаза его слипались. Он не мог понять, почему Голощекин, Сафаров, Войков и даже Юровский, давшие ему прямое указание сбросить тела в шахту, бранят его. Он сел на кожаный диван, свесил голову.
– Мне надо немного поспать, – сказал он.
– Не здесь. Идем в мою комнату, – Белобородов увел Ермакова в кабинет, который находился здесь же, за дубовой дверью.
– Я сейчас. – Ермаков улегся на кровать не снимая сапог. – Сейчас…
Белобородов стащил с Ермакова сапоги. В нос ударил крепкий запах вони. Белобородов поморщился и едва сдержался, чтобы не сплюнуть. Вернулся в кабинет.
– Ну что же, – сказал Шая, – надо ехать. У нас все готово?
– Все! – подтвердил Войков.
Они вышли на улицу, расселись по машинам. Гость, Голощекин, Юровский – в легковую, Войков – в грузовик, к шоферу. Только завели мотор, как в дверях подъезда показался Ермаков.
– Стойте! – крикнул он и быстро подошел к грузовику. – Без меня можете заплутать. Едем! – и он сел в кабину рядом с Войковым.
– Ты несгибаемый революционер, – то ли утвердительно, то ли издевательски сказал Войков.
Ермаков надвинул фуражку на глаза:
– Высплюсь по дороге!
По тому же пути вернулись на поляну Ганиной Ямы. Поставили оцепление, и Ермаков подвел чекистов к шахте, куда ночью сбросили убиенных:
– Здесь!
– Ну, приступим, – теперь командование взял на себя Голощекин, получивший подробные инструкции от гостя. – Нетребин, срубите пару сосен и готовьте кострище. Бочки из грузовика принесите. Петр, кто в шахту полезет?
– Да хоть я! – вызвался пулеметчик Наметкин.
Это был верткий, хваткий мужичонка, всегда готовый услужить. Худощавый, жилистый, умеющий быстро освоить любую работу, он одинаково хорошо работал и за станком, и за пулеметом. Главное, к чему стремился Наметкин, – побольше заработать, а уж что делать – неважно.
Он спустился в шахту и ловко обмотал веревкой тело государя.
– Тащи!
Тела уложили на поляне в два ряда. Они успели заледенеть и сейчас, на солнце, оттаивали. Обескровленные лица стали совершенно чистыми, и если бы не закрытые глаза, убиенных можно было принять за живых.
– Гляди, ну чистые мощи! – сказал бородатый мужик.
– Коли мощи, может быть, приложишься? – Наметкин хохотнул. – А ты, – ткнул локтем чубатого парня, который помогал ему вытаскивать из шахты тела, – можешь теперь форсить – саму царицу тискал!
С протяжным стоном, гулко ухнув, упала срубленная сосна. Ее тут же принялись обрабатывать – срубали лапник, раскалывали на бревна, чтобы сложить кострище.
Тут командовал рабочий Павлушин. Его Ермаков взял как «специалиста по сжиганию», потому что Павлушин работал в котельной. К нему обращались и когда надо было заколоть и разделать корову или хряка. Ударом молота он оглушал быков, после чего вонзал специально наточенный нож в бугорок на голове, и бык, оседая, валился на землю.
Сейчас Павлушин, переваливаясь на толстых ногах, ходил вокруг тел убитых, прикидывая, как их разрубать. Ему было приказано сжечь побыстрее, а для этого тела необходимо расчленить.
– Ну чаво, будете раздевать их? – спросил Павлушин.
Он курил самокрутку, придерживая ее правой рукой. В левой у него был топор. Голощекин обратил внимание, что он остро отточен и сверкает на солнце.
– Раздевать не будем, – сказал Шая. – Сначала отделим головы. Первому – царю.
– Так это у меня просто – одним ударом. – Мясистое лицо у Павлушина выражало полную уверенность в том, что он говорил.
– Подожди, сейчас, – Голощекин отошел к Юровскому.
Тот, сидя на пеньке, еще раз просматривал брошюру на немецком языке по хирургическим операциям – там были в популярной форме изложены правила по отделению органов тела.
– Ну что, Янкель, сможешь? – спросил Голощекин.
Юровскому, как бывшему фельдшеру, было поручено отделить голову царя от туловища. Затем голову следовало погрузить в бочку со спиртовым раствором, специально приготовленную Вайнером. Голову царя обязали доставить в Кремль. Такова заключительная часть ритуального убийства. Новый царь должен видеть отрубленную голову бывшего царя.
– Если не смогу, поручим этому, мяснику?
– Поглядим, как он рубит. И тогда решим.
– Согласен! – Юровский сунул брошюру в карман. – А как с конспирацией?
– Когда приготовят кострище, останемся втроем. Всех отправим в оцепление.
– И Ермакова? Он не уйдет.
– Что значит «не уйдет»? Прикажу командовать оцеплением! – глазки Голощекина стали пронзительными: – Идем!
Кострище подготовили. Бочки с керосином, серной кислотой стояли у края поляны. Рядом, чуть в стороне, – бочка поменьше, со спиртом. Их охранял Пинхус Вайнер. Он должен был поливать костер и тела так, чтобы они сгорели дотла, а кости рассыпались.
– Ну, Павлушин, давай! Ее! – и Голощекин указал на царицу.
Растаявший лед скатывался с лица государыни каплями, и они были похожи на слезы.
Павлушин нанес первый мощный удар. У Голощекина от ужаса сердце сжалось так, что он слабо застонал. Юровский изо всех сил сжал кулаки. Глаза расширились, опять налились кровью – как ночью, когда он палил из револьвера. Войков словно окаменел.
Страшно отточенный топор разрубил рубин «Кабошон», который был в кольце государыни – том самом, что она носила на шее вместе с крестом.
Слетел с шеи государыни и крест с бриллиантовыми подвесками. Вместе с осколками рубина, жемчужиной из серьги Павлушин втоптал крест в глину.
– Ну что, пусть действует? – спросил Юровский.
Голос у него внезапно сел, слова выговаривались хрипло.
– Давай! – Голощекин подошел к Павлушину. – Теперь голову царя. Потом остальные. Понял?
– А чего ж тут не понять? – усмехаясь, ответил «специалист». – Топорчик у меня хороший. Видишь? – и он, подняв топор, поводил им из стороны в сторону, и лезвие опять блеснуло на солнце, уходящем за край леса.
Уже темнело, когда полыхнул костер. Пламя метнулось высоко. Поленья, облитые бензином, горели с треском и гулом. Стоять даже в нескольких метрах от кострища, на котором горели тела, было невыносимо тяжело. Но по инструкции гостя надо было дождаться, пока все сгорит дотла. Затем надо разбросать кострище, чтобы не оставить следов. Оцепление снять, когда на месте кострища останется только зола. Кто сунется – расстреливать на месте.
Тела сгорали на удивление медленно. Войков позвал своих помощников, Быкова и Родзинского, и приказал им подливать в костер бензин и серную кислоту. Сам он делать этого уже не мог – жгло руки, лицо, колени.
Голощекин и Юровский еле стояли на ногах. Только Павлушин действовал без устали. Отирая пот, он подходил к кострищу, шуровал длинным бревном, отклонялся, когда пламя, вспыхивая, поднималось высоко. Лица и руки убийц покрылись сажей, глаза блестели, на щеки ложились красные отблески огня, который время от времени с гулом взмывал вверх. Изуверы были похожи на дьяволов.
Они и были дьяволами.
Глава девятнадцатая «Взыскание погибших»
19 июля 1918 года. День, вечер.
– Вот здеся ставь свою закорюку, – Пашка Медведев, начальник караула, ткнул толстым пальцем в листок, где были отпечатаны на чекистском «Ундервуде» фамилии всех двадцати шести охранников «Дома особого назначения».
Караульщики, столпившиеся у стола, за которым восседал Пашка, обратили внимание на желтый, с ободком черной грязи, ноготь начальника и на сумму, которая значилась против каждой фамилии, – 415 рублей.
– А почему 415, а не 420, скажем? – спросил Мишка Летемин, тот самый охранник, который заметил, что тело горничной Демидовой пробито пулями но меньшей мере раз двадцать. – Я хочь и не стрелял лично…
– Зато много болтал! – перебил его Медведев.
Эти слова он сказал, чуть усмехаясь, щуря ушлые, зоркие глаза. Мишка Летемин тоже слегка улыбался, давая этой улыбкой понять, что он спрашивает не с какой-то там подковыркой, а так, для интереса. Он тряхнул своим чубом, который часто мыл и расчесывал – чуб кучерявился, загибался волной.
Вообще настроение у большинства охранников было сегодня уже не такое подавленное, с мрачноватым оттенком, как позавчера и вчера. Трупы увезли, полы замыли. Погрузкой царских сундуков, вещей, драгоценностей занимались сами чекисты, а им, охранникам, появившийся сегодня Юровский объявил, что посты завтра будут сняты окончательно. Выдадут дополнительные наградные, предоставят отдых в субботу и воскресенье, а в понедельник – сбор. Кто хочет, может оставаться в доме Попова, в казарме (этот дом находился в Вознесенском переулке, за садом дома Ипатьева), а у кого родня или какие-то дела, пусть приходит сразу на вокзал, для отправки на фронт.
– Поясняю всем, – Пашка перестал улыбаться и выпрямился, оглядывая собравшихся. – На расчет караулу выдано 10800 рублей. Товарищ Юровский отдал распоряжение эти наградные выдать всем поровну. Хотя некоторым полагалось бы выплату уменьшить, и значительно, – тут он посмотрел на Фильку Проскурякова.
Филька нахально улыбнулся – дескать, с кем не бывает – и пожал плечами.
– Поскольку вы едете на фронт, – продолжил Пашка, – выдаю всем поровну. Деньги должны пойти на семейное обеспечение, у кого, конечно, имеется семья. Товарищи Столов и Проскуряков, вам я это говорю особенно…
Столов и Проскуряков отличились пятнадцатого, после выдачи жалованья. Они пошли пьянствовать. Пили денатурат, а на дежурство, шестнадцатого, явились «вдугаря», как выразился увидевший их Медведев. Он отвел их в холодную баню, которая находилась во дворе, запер дверь на замок. Выпустил только ночью, когда надо было замывать полы и стены от крови.
– Ладноть, выдавай, чево там, – сказал Иван Клещев, толстомордый, с животом, нависающим над ремнем, который он то и дело поправлял. – Какая разница – 415 или 420!
– Погодь! – Пашка Медведев выставил вперед руку. – А то еще решите, что я какие-то деньги зажилил. Вот, гляди, Мишка, ты у нас самый грамотный. Арихметику знаешь? Скока нас было в охране, включая пьяных Егорку и Фильку? Двадцать шесть, правильно. Латышей в расчет не берем – они команда особая, а мы – охрана. Делим 10800 на 26. Скока получается? Ну, дели. Давай-давай!
Летемин взял у Пашки химический карандаш с фиолетовым грифелем, послюнявил его и начал делить. Вышло по 415 рублей с копейками, но сколько именно копеек получалось в остатке, Летемин так и не смог сосчитать. Пашка поднял его на смех:
– Ну что, грамотей, скока тебе копеек докласть – четыре аль пять?
Некоторые засмеялись, но Иван Акимов, сысертский молодой парень, которому подошла очередь расписываться в ведомости, даже не улыбнулся. Он держал руки сцепленными, чтобы никто не видел, что пальцы у него трясутся.
В ночь после убийства уснуть он не смог. Его, как и других караульщиков, заставили замывать кровь не только в комнате, но и в коридоре, и во дворе. Утром он собирался сходить к сестре Капитолине, которая жила с мужем и дочкой на Васнецовской улице. Но после всего, что случилось ночью, когда он таскал тела убиенных в грузовик, замывал кровь, а потом узнал подробности убийства, было уже не до сна. Подробности рассказали Ванька Клещев и Мишка Летемин – один все видел в раскрытые двери со своего поста, другой – через окно, из сада. Пашка Медведев иногда поправлял их, так как сам был в расстрельной комнате и тоже дал «выстрела два-три», как он выразился.
Сначала Иван Акимов почувствовал внутри леденящий холод и сильно испугался. Но когда Ермаков ударом приклада повалил воющего Сашку Лесникова, Иван понял, что показывать свою слабость ни в коем случае нельзя. Его начала бить дрожь, и во время мытья полов он старался двигаться быстрее и не попадаться на глаза Ермакову и Юровскому.
После уборки, придя в казарму, он, не раздеваясь, залез под одеяло. Дрожь продолжала сотрясать его тело. Поверх одеяла он накинул фуфайку, укрылся с головой, но дрожь все равно не утихала. Забылся сном только к утру, до пяти провалялся в постели, а после дежурства, попив горячего чая, опять лег, стараясь заснуть. Крупная дрожь утихла, но руки тряслись и сейчас, когда он ставил свою подпись в ведомости.
– Ты чего, кур воровал? – издевательски спросил Пашка. – Или еще чего?
– Не дури. Устал просто, – Иван засунул деньги в карман темного, засаленного по бортам и манжетам, пиджака.
Медведев, обратив внимание на трясущиеся руки Акимова, теперь рассмотрел и его лицо. Глаза у Ивана покраснели, расширились, щеки запали, весь его вид, два дня тому назад собранный и молодецкий, теперь стал жалким и растерянным.
– Ты, парень, вот чего, – назидательно сказал Медведев. – Себя-то прибери. Сегодня как раз можно и чекалдыкнуть. И не денатурки, а хорошей водочки. С хорошей закусочкой. Понял? Иди, отдыхай, но помни, что в понедельник выступаем.
– А куда? – спросил пулеметчик Андрей Стрекотин, парень тоже из сысертских.
Он пошел в караульщики вместе с младшим братом Сашкой – нанимавший их комиссар Мрачковский пообещал хорошие деньги. В охрану в основном попали сысертские рабочие. Были и екатеринбургские, с фабрики братьев Злоказовых. При Авдееве почти все были злоказовские, теперь их осталось шесть человек. Поначалу всех насчитывалось тридцать человек, но Юровский, точно посчитав караулы и разделив всех на три смены, образовал команду в двадцать шесть человек – для внешней охраны. Внутреннюю охрану, которая составила расстрельную команду, образовал «интернационал».
– Выступаем на фронт, Андрюша, – Медведев пригласил Стрекотина к столу, указывая пальцем на ведомость. – Наше дело солдатское – куда прикажут, туда и пойдем добивать буржуйских ублюдков.
– А я вот на фронт идти не рядился, – сказал Мишка Летемин. – Я рядился только в охрану!
– И чё же? Теперь своей бабе под юбку спрячешься, когда белые придут? Думаешь, они тебя по головке погладят? – издевательски спросил Иван Старков, один из тех, кто и на заводе в Сысерти, и здесь, уже в охране, пользовался уважением.
Это он объяснял Летемину, как действовать, когда носили трупы в грузовик.
– Вот это ты верно сказал, Иван, – поддержал Старкова Медведев. – Нам теперь друг без друга никуда. Всем понятно? И что будет за разглашение военной тайны?
Наступила тишина. Каждый из тех, кто сейчас находился в этой комнате, понял, что, действительно, все они теперь навсегда повязаны пролитой кровью.
– Дак ведь латыши стреляли, не мы, – оправдываясь, словно уже на допросе, сказал толстомордый Клещев. – Мы только в охране… И потом, Паша, шило в мешке не утаишь.
– Верно. Уралсовет и чекисты сами все народу объявят, через газету. А наше дело – помалкивать…
Иван Акимов вышел из дома Попова. Кто такой Попов, он не знал, да и знать не хотел. Не знал и про Ипатьева. Не это занимало его и раньше, и сейчас. Перед глазами вставали то горько плачущий поваренок Леня Седнев, которого привели в дом Попова и не стали убивать, то озверевший Ермаков, прикладом бьющий Лесникова, то белое, точно мраморное, лицо княжны Татьяны – они несли ее тело к грузовику за руки и за ноги с Мишкой Летеминым. И если прежде он сторонился Летемина, в душе презирая этого скользкого, как угорь, человека, то теперь приходилось признать, что и он, Иван, ничуть не лучше.
Мишка, уже женатый, покушался на соседскую девчонку двенадцати лет. Он точно бы изнасиловал ее, не приди в тот момент мать девочки – она была подружкой Мишкиной жены. Мишку осудили на четыре года. В Сысерти узнали эту гнусную историю, и поэтому Мишке пришлось уехать в Екатеринбург. И вот надо же, встретились! Сначала на фабрике Злоказовых, а потом и здесь, в охране.
Он шел быстро, надеясь ходьбой унять дрожь – она то проходила, то возникала снова. Солнце поднялось над городом, ярко светило в чистом небе, и день уже был жарким. Но он не видел ни солнца, ни зелени. Взгляд его упирался в булыжники мостовой, в дощатые настилы пешеходных тротуаров. Вот под ногами оказалась утрамбованная земляная дорожка, и он, осмотревшись, понял, что находится на Васнецовской. Дом сестры Капитолины был рядом…
Она сразу заметила, что с братом произошло что– то из ряда вон.
– Ты чего, Ваня? – спросила она, пропуская его в большую комнату. – Что случилось?
– Да ничего, – ответил он, озираясь и снимая заплечный мешок с довольствием. – Геннадий на службе? Тут хлеб, сало… Идем на кухню.
На кухне он уселся на привычное место – между буфетом, стоящим у стены, и столом, где угнездился венский стул.
– Давай чаю, горяченького… Что-то я не в себе…
– Простыл?
– Нет, Капа. Да ты прикрой-ка дверь.
Сестра Ивана была хороша собой – стройная, всегда опрятно одетая, с косой густых светло-русых волос, уложенных на затылке в тугую корзинку. Глаза у Капитолины добрые, заботливые, но когда надо, взгляд становится твердым – она умеет постоять за себя. На чистом высоком лбу у нее завитки волос, которые Иван особенно любил. Капитолина старше Ивана на четыре года. Она нянчила его, а когда он подрос, случалось, защищала от мальчишек. Выучилась хорошо шить. Ваня учился у отца, на заводе, стал токарем. За Капой ухаживали многие, но она выбрала Геннадия, который работал в заводском управлении. Отец считал, что выбрала себе Капа неровню, на что она ответила, что «этот лучше других, а замуж надо все равно».
– Ну, чего молчишь? – она подала брату чай. – Неужто… да?
Иван кивнул, не в силах сказать ни слова.
В кухне было светло, чисто. На подоконнике цветет раскидистая герань. Полы покрашены желтой краской.
И эта краска опять напомнила Ивану расстрельную комнату, лужицы крови на полу, вповалку лежащие тела убиенных. И надо же было Ивану заглянуть в комнату как раз в тот момент, когда Ермаков, наступив на раскинутые руки Анастасии, со всего маху штыком ударил в грудь девушки так, что штык вонзился в пол!
Иван бы не осмелился заглянуть, но его окликнул Медведев – тот посчитал, что дело кончено и надо выносить трупы.
– Егорка Столов и Филька Проскуряков пьяные были, их в бане закрыли. Вот бы и мне так… А я…
Губы его затряслись, глаза расширились.
– Ты говорил, что стоишь в карауле. Неужто заставили стрелять?
– Нет-нет, я не стрелял, – он поднял на сестру воспаленные красные глаза. – Латыши стреляли. Из наших один Медведев стрелял. Ну и чекисты эти – Юровский с Ермаковым. Чего это? – он покосился на стакан, куда Капитолина наливала какой-то настойки.
– Корень валерьяны. Пей!
Он послушно выпил.
Тут же появился кот Ерофей – пушистый, бело-серый. Запрыгнул на буфет и стал принюхиваться, вытянув вперед почти круглую голову.
– Я тебе! – Капа замахнулась на кота.
Он пригнул голову, но с места не сдвинулся, знал, что хозяйка его не обидит. Но на этот раз Ерофей просчитался. Получив шлепка по толстому заду, утробно мяукнув, он убежал из кухни.
Капитолина принесла ватное одеяло и закутала брата, как маленького.
– Ничего, пройдет, – приговаривала она. – Это нервное, кто такое выдержит? Только у кого сердце каменное.
– Выходит, у них такие и есть. У кого лютая ненависть к царю была. Ладно бы его, а то детей, царенка! Он же мальчишка… А потом достреливали, докалывали штыками…
– Давай-ка я тебя буду поить, сам ты не можешь.
Зубы у Ивана лязгали о стакан. Она поила его так, чтобы он глотал маленькими глотками.
После чая Ивана разморило, глаза потеряли безумный блеск. То, что случилось, Капитолина знала теперь, а о подробностях не стала расспрашивать. Она сняла с кровати покрывало с кружевным подзором, разобрала постель. Потом принесла Ивану чистое белье мужа, заставив брата переодеться.
Иван улегся на прохладную простыню, укрывшись пуховым одеялом в пододеяльнике. От белья пахло крахмалом, и этот запах напомнил ему родной дом, мать. Он вспомнил, как она укладывала его спать и пела ему и Капе молитвы, а еще песенку про то, как паломники идут по Руси и поют: «Аллилуиа…»
Все это было как будто в какой-то другой жизни, которая безвозвратно ушла. И вдруг он понял, что это действительно так, что теперь для него наступила иная жизнь – после того, что случилось в ночь с шестнадцатого на семнадцатое.
– Капа, я… убийца?
– Ты не думай об этом. Сейчас тебе надо заснуть.
– Значит, убийца. Да и как иначе считать? Я же их охранял. Когда они из револьверов палили. Да, Капа… дым-то сплошняком стоял, стеной, а я ведь позже зашел, уже при открытых дверях…
– Спи, Ваня. Я тебе потом скажу, что делать.
– Да я знаю, что ты скажешь, сестричка моя родная…
Глаза его закрылись. Капитолина осторожно вышла из спаленки. Белье Ивана бросила в стирку. Развязала его мешок, достала из него продукты – сало, лук, вареные яйца, хлеб. В мешке находились и пожитки Ивана. Находился и сверток какой-то в белой тряпице. Развернув его, Капитолина увидела письма, перевязанные тесемкой. Улыбнулась – это были ее письма к брату, когда он оставался в Сысерти, а она подыскивала ему работу в Екатеринбурге. Сысерть хоть и рядом, а ездить туда-сюда нет времени.
Вот фотографии. Вся их семья. Отец – усатый, в пиджаке, косоворотке. Волосы на пробор, взгляд твердый, спокойный. Капа вышла в отца, а вот Иван – в мать. Такой же переменчивый, чужие слова выдающий за свои. Кто рядом, тот им и верховодит. Но не всегда: бывало, мать так стояла на своем, что и отец не мог ее с места сдвинуть. И если бы речь шла о чем-то серьезном, а то мать могла заартачиться из-за сущего пустяка, каприза ради. В такие минуты отец злился, сжимал кулаки, но мать ни разу не тронул – любил, да и считал гнусным бить женщин, как это делали некоторые заводские мужики, поколачивая жен то по пьянке, то по злобе на весь окружающий мир.