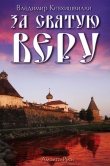Текст книги "Взыскание погибших"
Автор книги: Алексей Солоницын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Если бы отец узнал, что его сын оказался среди убийц царя, он бы собственными руками задушил Ивана. Потому что Вера, Царь и Отечество были для отца нераздельной Троицей, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Отцу не нравилось, каким растет его сын. Особенно в ту пору, когда Иван стал ходить в какой-то тайный кружок.
В то время он уже работал самостоятельно. Домой приходил поздно. По воскресеньям, когда семья шла в церковь, Иван спал, твердо отстояв себе право ходить в церковь, когда ему захочется. Отец уступил, потому что мать встала за сына горой, и ни выгнать, ни проучить Ивана отец не смог.
– Припомнится тебе этот твой грех, – говорил отец жене. – Ты безбожника защищаешь. Он ведь среди тех ныне живет, кто в Россию смуту несет. Ты вот его спроси, так это или не так? С Богом он или со смутьянами?
Разговор этот был за обедом, на Рождество.
– Живу так, как современные люди живут, – ответил тогда Иван.
– Это какие такие «современные»? Не те ли, которым царя не надо? Которые его грязью обливают?
– Ты, отец, много знаешь, да не во все вникаешь. – Иван научился спорить, и уже были случаи, когда отец не знал, как возразить сыну. – Если царь действительно за всех нас радеет, как за сыновей своих, почему войне не видно конца? Говорили, у нас боеприпасов мало. Теперь-то достаточно? Одни мы, что ли, день и ночь на войну трудимся? Сколько таких заводов по всей России! Да у немцев и половины нет!
Иван почти слово в слово повторил то, что сказал на собрании товарищ Нейман, приезжавший из Перми. Нейман, правда, сказал еще о том, что Гришка Распутин работает на немцев, а императрица – немка, делает то, что он ей скажет. А царь подкаблучник, жены не может ослушаться, тряпка, вот весь народ и страдает…
– В чем, по-твоему, дело? – мрачно спросил отец.
– Ладно вам все про политику! – мать всполошилась, поняв, что надвинулась гроза. – Мы с Капой старались, вон пироги какие, шанежки тоже. Рождество, а вы…
– Да, Рождество, ругаться грех. Не буду, мать, – отец тяжело вздохнул. – Но все же хотелось бы знать, кого я вырастил, кто со мной под одной крышей живет…
Лицо у отца перестало быть грозным, он опять вздохнул. Хорошее лицо у отца, вот только осунулось в последний год, легли под глазами круги. Что-то у него происходило с желудком, ел он мало, а потом и вовсе перестал. До весны не дотянул, ушел в иной мир на Сретенье, когда весна с зимой встречается… Не объяснился с сыном – может, оно и к лучшему, потому что мог выгнать Ивана из дома, если бы узнал, чем его мозги напичканы.
Все же сказал сыну перед смертью:
– Ты, Ваня, запомни… Человек без веры – как корабль без якоря. Не я сказал, святые отцы… Горько будет, когда один останешься, без Бога-то… Да в последний свой час…
Иван проснулся, будто услышал эти слова отца.
Но это говорили в соседней комнате Геннадий с Капитолиной.
– Будет последний час. И для него, и для нас с тобой.
– Трусишь?
– Не своди все к примитиву. Они помазанника Божия убили. Ты что, не понимаешь этого? Да Ивана, как только обнаружат, в первый же день к стенке поставят. И нас с тобой вряд ли помилуют. Ему надо немедленно уходить с красными.
– Он на ногах не стоит.
Иван откинул одеяло, встал. Ноги держали. Он вытянул вперед руки. Они почти не дрожали.
«Теперь надо где-нибудь в трактире поесть, прав Медведев. Может, выпить. И на вокзал».
– Капа! – окликнул он. – Дай мою одежку!
– Лежал бы, а? – Капа подошла к двери и приоткрыла ее.
– Нет, мне пора.
Одевшись, он прошел мимо Геннадия, молча поклонился. Тот ответно кивнул.
На кухне Капитолина собрала вещмешок брата.
– Белье твое высохло, а вот погладить не успела.
– Да куда мне, на бал, что ли… Еды-то не клади много, нам харчи выдадут.
На кухню заглянула Катя, дочка Капитолины пяти лет.
– Здравствуй, нос красный! – сказала она.
– Ишь ты! – Иван невольно улыбнулся. – Здорово, племяшка. Бойкая ты.
– Вся в маму, сам говорил. Ты мне что принес?
– Ох, не успел я в лавку-то зайти, – он машинально сунул руку в карман пиджака. Пальцы наткнулись на пачку денег.
– Эх ты! – Катя забралась на стул, осматривая, что есть сладенького в буфете. – Хоть бы какую конфетку принес.
– Ты не очень-то болтай, – строго сказала Капитолина. – Иди, у нас тут взрослый разговор.
Катя, обиженно надув губы, ушла. Капитолина плотно прикрыла за ней дверь, повернулась к брату.
– Ты только не возражай мне, ладно? Выслушай и обдумай как следует. Я тебя очень прошу.
– Ну, говори.
– Вот, возьми эту иконку. Она у мамы стояла. Помнишь?
– Как не помнить.
– Теперь все твое спасение здесь. Пойми это, брат. Молись Богородице. Проси, чтобы Она умолила Господа твой страшный грех простить. Ты ведь не ведал, что творишь. Не знал, что убийц охраняешь. А коли и догадывался, то теперь раскаиваешься, что погнался за деньгами, думал, что без убийства обойдется. Мама говорила, что эта икона старинная, ей от ее матери досталась, от бабушки нашей. Спасает она всех, даже самых пропащих.
– Хватит уже, Капа! Ты ведь знаешь, что я неверующий.
– Как неверующий? Ты крещеный, значит христианин. Бери икону и молись. Молись, как мы с тобой в детстве молились. В церкви, когда на клиросе пели. Ты даже плакал, я помню…
– Я тогда маленький был.
– Маленькие – чистые сердцем. Молись, Ваня, усердно молись, иначе пропадешь!
– Я и так уже пропал.
– Нет. Вспомни, разбойник даже на кресте смертном спасся, когда поверил во Христа.
– Ну ладно, ладно. Пусть по-твоему будет.
Он положил икону в мешок. Вышел в прихожую. Остановился, задумался. Потом быстро пошел в спаленку.
В большой комнате он увидел Геннадия. Тот вопросительно посмотрел на Ивана. В рубашке, белых брюках, с холеными усами и бородкой, он оказался для Ивана не свояком, а чужаком – совершенно чужим человеком из другого мира, который и привлекал, и отталкивал. В этом мире жили и комиссары вроде Неймана, Мрачковского. Как теперь выяснилось, никакие они не борцы за народное счастье, а мясники, которым нужна власть. А Геннадий просто трус. Такой при любом режиме найдет себе место.
– Рубашку забыл, – на ходу сказал Иван.
В спаленке он подошел к круглому столику, застеленному белой скатертью. Поверх скатерти – кружево. Это работа Капитолины. Кружевные скатерки – круглые, прямоугольные, дорожками – расстелены тут и там. Таким образом Капитолина создавала в доме уют.
Ивану кружева сестры очень нравятся.
«Жили бы мы с ней, не тужили… И зачем ей понадобился этот Геннадий? Галстуки носит… Да, без семьи нельзя. Как же без деток?».
Тут он вспомнил Катю.
«Вот и купят ей конфеток… И оденут… Ну разберется Капа».
Он достал из кармана кредитки и положил их на кружево. Прижал вазочкой. Икону Богородицы, вынув из мешка, поставил в изголовье кровати, прислонив ее к ночнику, который стоял на этажерке.
«Это Иверская? Нет, не Иверская. И не Казанская… А, забыл я все… Капе она нужней. Пусть сама молится, а я…»
Надо бы ему перекреститься, но он не догадался – действительно, все забыл.
Геннадий все еще стоял у окна в большой комнате.
– Прощай! – Иван торопливо прошел к двери.
– Счастливо тебе! – Геннадий деланно улыбнулся.
– Что? А, ладно.
Капитолина проводила брата до калитки.
– Помни, что я тебе сказала.
– Ладно, Капа… если со мной что-нибудь…
– Я буду молиться за тебя.
– Ладно. Ну все, я пошел.
Он суетливо дернулся, неловко махнул рукой на прощанье и пошел вперед, не оглядываясь.
На крыльцо вышла Катя:
– Мам, а мам, он заболел?
– Заболел…
Иван решил идти на вокзал. Времени достаточно, извозчик ему не нужен. Солнце миновало зенит – сейчас, должно быть, часов пять. Уже не так жарко. Можно, пожалуй, зайти в какой-нибудь трактир. Как советовал Медведев. Но тут он вспомнил, что деньги оставил Капитолине. Порывшись в карманах, он нашел несколько кредиток – это от жалованья деньги, выданные накануне убийства. Как у них все рассчитано – вот вам на убийство, а вот награда после убийства. Так и положено…
Тридцать сребреников – 415 рублей.
Если быть точным, «докласть», как сказал Пашка, надо было не четыре или пять копеек, а по 38. То есть каждому выдать по 415 рублей 38 копеек.
Если 38 копеек помножить на 26, будет 988 копеек, то есть 9 рублей 88 копеек. Эту сумму зажилил Пашка. И правильно сделал, раз никто, кроме него, Ивана, «арихметику» не знает. А Иван, стоя в карауле, сосчитал – из любопытства. Вернее, для того, чтобы еще раз убедиться в том, что Пашка – вор. Видели, как он украл деньги из книги царя. И тут не удержался от небольшой, но все же суммы.
К вокзалу надо идти по Вознесенскому проспекту. Но стоило ему подумать, что придется идти мимо «Дома особого назначения», как в животе внезапно забурчало, к горлу подкатила тошнота.
Он поспешно свернул в какой-то проулок, быстро подошел к забору, упершись в него рукой.
Его вырвало. Потом еще и еще – долго, изнурительно.
Отдышавшись, он с трудом пошел вперед, отыскивая место, где можно было бы присесть, умыться. Оглядевшись, он понял, что находится на краю города. Одна тропа вела в лес, другая влево, к холму, за которым, по его предположениям, должны начинаться улицы города. Он попал в лес и скоро вышел на полянку, на краю которой текла полуиссохшая речушка. Сбросив мешок, он умыл лицо. Набрал воды, попил.
«Ну вот, теперь можно идти». И тут он увидел, что на другом краю полянки на крепком вязе устроены качели. Он поднял мешок и направился к ним. Подойдя, подергал за веревку – она была толстая, неистертая.
Иван опустил голову, задумался. Ни тошноты, ни дрожи в руках не было. Осталась только гнетущая, давящая сердце тоска. Думать о встрече с теми, кто был с ним в карауле, оказалось так тяжко, что он даже затряс головой, чтобы прогнать возникшие перед ним лица.
Он поднял голову к небу. Солнце клонилось к закату, пора принимать решение. Положив мешок на доску качелей, он развязал его и достал нож.
Нож хороший, солдатский.
Отрезав один конец веревки, Иван стал мастерить петлю.
Кряхтя, обдирая ладони и колени, залез на сук, к которому были привязаны веревки качелей. Надел на шею петлю.
Стараясь ни о чем не думать, свесился вниз.
Петля надежно удержала его на весу…
* * *
Капитолина заканчивала мыть посуду после ужина, когда в кухню забежала Катя.
– Мам, гляди, чего дядя Ваня забыл! – она держала в руках пачку новеньких кредиток. – На столе лежали.
Капитолина взяла деньги, машинально пересчитала их.
Задумалась.
В кухню вошел Геннадий, выкуривший на крыльце папироску после ужина. Увидел у Капитолины деньги.
– Это откуда?
– Дядя Ваня забыл, – сказала Катя.
Геннадий оживился:
– Нет, забыть он не мог. При мне в спальню заходил. Значит, оставил сознательно. Очень кстати. Дай-ка посмотреть, сколько там…
Капитолина отстранила руку мужа.
– Это нечистые деньги.
– Как это нечистые? Ты что, мама? – спросила Катя.
– Нечистые – значит нечисто нажитые, дочка. Платят и за грязные дела.
– Постой-постой, – забеспокоился Геннадий. – И что ты собираешься с ними сделать?
– Сжечь, – решила Капитолина.
– Капа, не чуди. Нам жить. Сейчас новая власть придет, и неизвестно, как ко мне отнесутся. Может, опять без работы останусь. Давай деньги сюда, я завтра же их отоварю. А то ведь пропадут.
– И пусть пропадают.
– Капа, дай мне деньги, – с трудом сдерживая себя, повысил голос Геннадий. – Разве ты не слышала, что деньги не пахнут? Еще с древнеримских времен это известно, могу тебя просветить про императора Тиберия…
– Постыдился бы ребенка, ученый!
Капитолина встала, открыла чугунную дверку печки и швырнула туда деньги.
– Сумасшедшая! – Геннадий схватил кочергу и хотел выгрести деньги из печки, но Капитолина резко его оттолкнула.
– Отойди от греха подальше!
Она так посмотрела на мужа, что тот невольно отшатнулся и опустил кочергу.
Язычок пламени лизнул кредитки, они занялись огнем. Захлопнув дверцу печки, Капитолина подождала, пока кредитки сгорят. Потом взяла дочку за руку и повела в спальню.
– Мам, а зачем ты это сделала? Дядя Ваня эти деньги украл?
– Нет. Он получил их от темных, злых людей.
– Которые как бесы?
– Как бесы. Давай раздеваться и спать.
– Мам, гляди, а откуда тут иконка?
Катя взяла икону, которую Иван поставил на этажерке, в изголовье кровати.
– Господи! – вырвалось у Капитолины.
Она перекрестилась, взяла икону и поцеловала ее.
– Как же он теперь? Господи, прости ему прегрешения его, ибо не ведал он, что творил!
– Что творил? Дядя Ваня? Дай мне иконочку, я ее тоже поцелую.
Пухлыми губенками девочка приложилась к лику Богородицы и прижала иконку к сердцу.
– А как она называется? Я знаю Казанскую, «Семистрельную»…
– Ложись вот сюда, доченька. Эта икона от прабабушки твоей. Называется «Взыскание погибших».
– Мам, я с тобой полежу. Ну немного, мам… А что это такое, «Взыскание»?
– Взыскать – значит «найти, спасти». Поняла, ласточка ты моя маленькая?
– И не маленькая уже. Божия Матерь нас находит и спасает? Она хорошая-прехорошая? Как ты?
– Что ты, доченька. Я твоя мама, а Богородица – Мать Бога нашего, Иисуса Христа. Я тебя могу защитить, а Она всех – и малых, и старых. Даже тех, кто на самом краю гибели стоит. Над самой пропастью. Она Царица наша Преблагая…
– A-а, вспомнила. Это мы с тобой в церкви слышали! – и она запела тоненьким, чистым голоском: Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице…
Капитолина, поглаживая дочурку по голове, тихонько подхватила:
– Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!
Катя прижалась к матери и начала засыпать. А Капитолина продолжала тихонько напевать, как ей напевала ее мать, а той – ее родительница:
– Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна…
И сокровенная эта молитва неслась над Уралом, над Сибирью, над всей Россией, поднимаясь высоко-высоко в небо, к Самой Богородице, Которой Господь велел сесть на осиротевший престол Российский, взяв в руки вместо убиенного царя-мученика скипетр и державу.
Послесловие автора
Работа над повестью завершилась в июле 2003 года – как раз в тот срок, когда приблизились «Царские дни». В Екатеринбурге, на месте убийства царственных мучеников, должно было состояться торжественное освящение храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. Исполнялось 85 лет с тех дней, когда были убиты и царская семья, и великая княгиня Елизавета Феодоровна с инокиней Варварой и великими князьями Константиновичами на севере Урала, под Алапаевском.
Всей душой я стремился поехать на торжества. Несмотря на тяжкие обстоятельства моей личной жизни, собрался в дорогу и побывал там, куда так стремился. А когда вернулся домой, рукопись сверсталась так, что формат книги требовал еще нескольких страниц текста – чистые листы оказались как бы специально приготовленными для того, чтобы я рассказал о всенародном почитании царственных мучеников, о той любви, которая с такой очевидностью пролилась вместе со слезами в июльские дни покаяния и торжеств, свидетелем и участником которых был и я в 2003 году.
…Город, умытый ночным ливнем, утром 16 июля услышал колокольный звон, раздавшийся на звонницах пятиглавого белоснежного храма, сияющего золотыми куполами и крестами.
Площадь перед храмом, аллеи лиственниц, елей, зеленые лужайки, газоны, улицы, со всех сторон ведущие сюда, заполнились паломниками, пришедшими с севера и юга, востока и запада России. Крестными ходами шли сюда пешком по нескольку дней паломники из Волгограда, Ростова, Архангельска, Тобольска, Тюмени, и многих других городов. Износили не одну пару обуви, не устрашились ни палящего солнца, ни дождей, ни усталости, свершая свой личный подвиг во имя царственных страстотерпцев.
Началась Божественная литургия. Вместе с иерархами нашей Церкви, духовенством, монашеством, седобородым и совсем юным, устремила ко Всевышнему свой порыв, казалось, вся Православная Россия.
Конечно, не обошлось и без тех, кого народ наш язвительно назвал «подсвечниками». Они, разумеется, затесались в первые ряды в самом храме. Но не на них останавливался взгляд, а на той женщине, у которой лицо было залито слезами, и икону с изображением царственных мучеников она поднимала к небу, стоя на коленях; на хоругвеносцах, твердо держащих иконы на древках. Я обратил внимание, что рядом с ликами преподобного Серафима Саровского, святых благоверных князей Александра Невского, Димитрия Донского есть лик и нашего современника – воина Жени Родионова, которому чеченские бандиты отрезали голову, потому что наш солдат не снял креста и не отрекся от своей веры. Прошлое и настоящее соединились в одно целое. И потому в сердце каждого, кто был здесь, не могли не войти возгласы и песнопения Божественной литургии, которые с мощью и величием, скорбью и радостью пели хоры. И многажды повторялось: «Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!»
На своде, перед входом в храм, золотом по белому надпись: «Пролияша кровь их, яко воду окрест».
Да, кровь мучеников пролилась, как обильные окрестные воды, влилась в них – и навечно. И оттого скорбь соединилась с утверждением веры – той самой, во имя которой они, страстотерпцы, приняли мученический венец.
Народ наш давно понял, по каким нравственным законам жил царь, его семья, и не «мудрствовал лукаво», как многие наши интеллигенты, продолжая, вслед за коммунистами, говорить о царе хотя и не с прежней оголтелой презрительностью, но все же с ухмылкой и непременным осуждением за «мягкотелость» и еще за то, что царь был «не на своем месте», а был-де «просто хороший человек и семьянин». Народ рассудил иначе, сердцем осознал, что царь поступал именно как православный государь, кто, согласно Евангелию, «положил душу свою за други своя». Ничего не формулируя, ничего не доказывая, народ не принял десятки «правильных», «неопровержимых» доказательств «порочности» царя и его семьи. Прославление во святых Николая Второго и его семьи шло из самой массы народной. Как волна, которая набирает силу, двигаясь к берегу под сильным ветром, так и чувство народное обрело напор, высоту и вылилось вот в это торжество, утвердило этот храм, сплотило вокруг него тысячи людей.
Сердце народное не обманулось – убийцы остались убийцами, их имена прокляты, хотя и кричали о «народной мести», и выдавали себя борцами за «народное счастье». А взошедшие на «Русскую Голгофу» обрели бессмертие.
В тот же день служились в храме на Крови всенощная и вновь Божественная литургия. Затем, уже в пятом часу утра, крестным ходом процессия двинулась к урочищу Ганина Яма, где теперь находится монастырь во имя святых царственных страстотерпцев.
ВРАТА НЕБЕСНЫЕ
Предание об убиенных монахинях Самарского женского монастыря в честь Иверской иконы Божией Матери
Радуйся, Благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая!
Солнце уходит на дальние выжженные холмы, и свет его заливает все пространство над Волгой и саму реку. Ни ветерка, ни всплеска – как будто движение вечной русской реки остановилось, скованное жестким слепящим светом.
Там, за одним из островов, ближе к лесистому берегу, буксирный катер бросил старую, изношенную временем и трудами баржу, поставив ее на якорь. Баржа обшарпана, в трещинах и выбоинах, доски на палубе грязные и занозистые. Но люк, ведущий в трюм, обит новым железом, и петли для замка новые, надежные, и сам замок тяжел и накрепко заперт ключом.
Что же спрятано в трюме старой баржи? Если что-то ценное, то почему баржу оставили за безлюдным островом? Наступает ночь, и, может быть, кто-то должен подплыть к барже и забрать спрятанный груз? Может быть, это орудуют разбойники? Вывезли из Самары драгоценности, спрятали, а когда ночь упадет на землю, тогда и будет взят клад?
Буксирный катер быстро удаляется. Нет, он удирает, потому что человек, стоящий на корме, жадно курит, то и дело оглядывается, в глазах его застыло отчаяние трусливого преступника.
Второй человек, стоящий у руля, смотрит вперед и думает только о том, чтобы побыстрее добраться до причала. Но и у него в глазах, если присмотреться, тоже испуг, словно он увидел что-то такое, о чем поскорее хочется забыть.
Солнце нырнуло за горизонт, будто ему невмоготу видеть, что происходит на земле и на воде. Тьма обрушилась на землю, и чья-то властная рука задернула черным полотном весь небесный свод.
– Зажигай ходовые! – раздраженно выкрикнул рулевой. И уже тише себе под нос: – Фармазоны проклятые!
Слева по борту показались огоньки причала. На причале несколько человек вглядывались в темноту. Один из них, в двубортном пиджаке, в рубашке с галстуком, завязанным крупным узлом, в очках, видимо, главный.
– Ну как? – спрашивает он.
– Порядок.
– Вас никто не видел?
– Никто.
– Якорь хорошо закрепили?
– Ну что вы, в самом-то деле! Такое спрашиваете, даже обидно…
Они стоят на дебаркадере под красным сигнальным фонарем, и багровый отсвет падает на их лица.
– Я такое спрашиваю потому, – отчеканивает старший, – что мы выполняем строго секретное и особое задание. И вынужден повторить это для всех еще раз!
Он опускает руку сверху вниз, будто рубит. Так он привык делать на публичных выступлениях. Затем по выработанной привычке обводит стоящих рядом буравящим взглядом своих маленьких желтых глаз.
– Якорь укреплял я, – говорит рулевой. – Щелей в барже достаточно, да и пробоина есть. Так что через часик-другой она будет на дне. Место мне знакомое, глубокое.
– Утром проверю лично, – начальник идет к грузовику, садится в кабину к шоферу.
Остальные залезают в кузов.
Тьма поглотила и машину, и город, прилепившийся к реке, и саму реку, и баржу за островом…
В трюм баржи уже по щиколотку проникла вода. Она плещется, когда кто-то из сидящих на досках, приколоченных к бортам, шевелит ногами. Заключенные сидят в полной темноте.
– А вода-то теплая, – голос мягкий, певучий, его нельзя не узнать.
Это сестра Евфросиния, она канонарх в монастырском хоре. Стоило прозвучать голосу, как сразу же тьма перестала пугать.
– Помолимся, сестры, – голос схимонахини Феодоры звучит негромко, но твердо.
Она старше всех. Сколько ей лет, никто не знает. Может быть, девяносто, а может быть, сто. О чем ее ни спросишь, все знает. А сколько видела и слышала! Часами можно слушать, и все не наслушаешься.
– Евфросиния, начинай!
Сестра Евфросиния вздохнула, перекрестилась и, представив, что стоит на клиросе и видит Иверскую икону Божией Матери в первом нижнем ряду иконостаса, запела: «Благослови, душе моя, Господа…»
И голос ее, чистый и звучный, в котором так много искренности и силы, ударился о ветхие борта старой баржи, и не могли они удержать его.
Голос вырвался из потемок трюма на волю и, огражденный лесом правого берега и кустарником острова, понесся по реке:
Господи, Боже мой, возвеличился ecu зело.
Благословен ecu, Господи…
Привычно стройно подхватили молитвенное пение монахини, заточенные в трюме.
Сколько их было тогда на барже смерти, точно неизвестно.