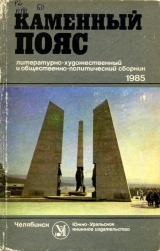
Текст книги "Каменный пояс, 1985"
Автор книги: Александр Терентьев
Соавторы: Анатолий Рыбин,Геннадий Хомутов,Александр Куницын,Михаил Львов,Михаил Шанбатуев,Анатолий Головин,Владилен Машковцев,Валерий Тряпша,Анатолий Камнев,Владимир Одноралов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Короче, подлечился я, и списали меня, конечно, вчистую. Незадолго до этого Иван Лукич, с которым после разговора с тетей Машей мы стали большими друзьями, разыскал где-то для меня старенький протез, тесноват он был и ногу с непривычки натирал страшно, по все же это было лучше, чем костыли, хоть, правда, долго еще я без костыля ходить не мог. Получил я какие нужно бумаги и поковылял к тете Маше.
Она и Иван Лукич поехали на станцию.
Посадили они нас в поезд. Когда прощались, тетя Маша заплакала, да и Лукич тоже в карман за платком полез. Оставил я им свой адрес: очень они хотели приехать, когда война кончится, навестить нас с Сашей. Но больше я их не видел. Знать, не пощадила стариков эта война…
…Доехали до моей станции уже поздним вечером.
Вышли мы с Сашей на дорогу. На пригорке, километрах в трех, огоньки нашей деревни светятся. Держу его за ручку, да разве он спокойно идти будет! То присядет, то за каким-нибудь камешком наклонится, то к обочине за веточкой потянется. И все бормочет что-нибудь: говорил он тогда плохо, но я наловчился его понимать. Не знаю, сколько мы времени таким манером до деревни протопали бы, если бы не подвернулась попутная подвода. Доехали мы на ней до самого дома.
Смотрю, в окнах свету нет, – значит, жена еще с фермы не пришла. Поднялись на крыльцо, снял я висячий замок, который у нас сроду на ключ не запирался, вошли в дом. Передохнул, снял с Саши пальтишко, которое ему где-то тетя Маша достала, и пошел он сразу осваиваться в незнакомом доме: одеяло лоскутное разглядывает, скатерть щупает, спинку стула скребет – все ему интересно на новом месте.
И тут, каюсь, дело прошлое, пришла мне в голову такая неприятная мысль: а что, если жена меня совсем не так встретит, как я рассчитывал? Думаю: ведь, если хорошенько рассудить, ей в одном мне, безногом, радости мало, а тут еще чужого ребенка в дом привел. Но недолго мне рассуждать пришлось.
Дверь скрипнула. Слышу: «Феденька!» Я спиной к двери сидел. Повернулся неловко, костыль у стола стоял, зацепил его, он на пол свалился, как выстрелил. Руки она ко мне протянула, шагнула через него, голову мою обхватила, к груди прижала, целует, а на шею мне слезы капают. Тут и мне тоже словно в глаза песку надуло… Высвободился из ее рук, говорю: «Ну что ты, Люба. Все нормально, только нога вот…» Глаза у нее еще плачут, а губы уже улыбаются. «Эх, Федя, Федя! – говорит. – Неужели я такая глупая, чтобы из твоего письма ничего не понять. Как прочитала, что домой приедешь, сердцем поняла: неладно с тобой – здоровых-то сейчас домой не отпускают».
Обнял ее и говорю: «Люба, я не один приехал». – «Как не один? А с кем же?» Я посмотрел вокруг – не видно Саши. Говорю ей: «Наверно, в кухню забрел». Сходила она туда и вернулась с ним на руках. Спрашивает: «Кто это?» – «Как кто? Саша это!» – «Чей он?» – «Да я же тебе писал, Люба!» А она смотрит на меня и, вижу, ничего не понимает. Спрашиваю: «Ты из госпиталя от меня два письма получила?» – «Нет, только одно, в котором ты писал, что в ногу ранен».
Усадил ее рядом с собой и рассказал все про Сашу. Думал, она на меня все слезы истратила, но, пока рассказывал, немало их и на его долю досталось.
Потом искупала мальца, переодела в чистое белье, что после Гришутки осталось, накормила, приготовила постель и уложила. Он, видно, здорово намучился за день и скоро уснул.
А мы с Любой еще долго сидели и разговаривали: было о чем поговорить нам в тот вечер. Саша во сне носиком тихонько посвистывает. Она нет-нет, да и встанет, подойдет к кроватке: то посмотрит на него, то одеяло поправит. Потом ко мне подсела и говорит: «Федя, а мне кажется, что он на Гришутку нашего похож». – «Потому я его и привез с собой», – отвечаю, а сам улыбаюсь…
Потихоньку все у нас наладилось. Из деревни мы вскоре уехали, поселились в городе. Конечно, дело в колхозе мне нашлось бы, хотя плотничать, как прежде, я уже не не мог, но решили мы с женой уехать: не хотелось нам, чтобы Саша узнал, что он нам не родной сын, а приемный. Устроился я в городе на обувную фабрику. Мало-помалу наловчился солдатскую обувку шить, и наверно, не одна пара моих сапог до Берлина дотопала.
…Война кончилась. Годы, будто ветер, пролетели. Кажется, и не заметили, как наш Саша вырос и в школу пошел. Занимался он хорошо, учителя нахваливали, из класса в класс переходил с одними пятерками да четверками.
Доучился он так до десятого класса. Парень крепкий, уж и ростом повыше меня стал. За что ни возьмусь по хозяйству – норовит отобрать: отдыхай, мол, отец, сам все сделаю. Посмотришь на него – сердце радуется. Но однажды кончилась эта спокойная жизнь…
Лежу как-то на диване, читаю газету. И попалось мне на глаза одно объявление. Многие после войны в те годы родных и близких разыскивали, да и по сей день еще ищут. Частенько печатали такие объявления и в нашей областной газете. Больше местные печатали, но иногда и издалека присылали: ведь сколько людей в войну друг друга растеряли, а как узнаешь, кого куда занесло?.. Это было из Смоленской области, как раз из тех мест, где меня ранило. Прочитал я его, и как кто поленом по голове ударил. Разыскивает человек жену и сына. Написано, уехали они из своего села в августе сорок первого, хотели добраться к знакомым в Горьковскую область, но туда не приехали – пропали. Женщина – Куликова Екатерина Степановна, двадцати девяти лет; ребенок – Куликов Саша, двух с половиной лет. И приметы указываются. У ребенка волосы светло-русые, глаза карие, на переносице небольшой шрам наискосок… Как дочитал я до этого, руки дрогнули: был у Саши такой шрам. Еще когда я с ним из госпиталя приехал, жена сразу его заметила и сказала, что, видно, сильно он где-то ударился.
Свернул я эту газету и в карман сунул, чтоб никому на глаза не попалась…
Вечером Саша в клуб ушел. Сел я к столу, жену позвал и рядом посадил. «Плохо дело, Люба, – говорю, – понимаешь, отец Сашин отыскался». Она пальцами виски сжала, побелела вся. «Да как же так, Федя, столько лет? Да где он?.. Что делать-то, Федя?! – заплакала. – Не отдам, ни за что не отдам!» Я ей воды принес, успокоилась немного. Говорю: «Ну что ты раньше времени убиваешься? Никто его пока не отбирает». – «Где же он, отец-то?» – «В Смоленской области». Вынул из кармана газету, развернул и ей подал. Она прочитала. Спрашиваю: «Что делать будем, Люба?» – «Сожги газету эту, Федя, родной! Не было ее будто, и на глаза она нам с тобой никогда не попадалась! А, Федя?»
Признаться, у меня самого, еще раньше, когда все это прочитал, такая же мысль в голове мелькнула.
Скомкал я газету, сунул в печку и спички достал…
В дверь купе постучали. Заглянула проводница с билетом в руке.
– Кто здесь до Миасса?
– Я до Миасса, – сказал Федор Иванович.
– Готовьтесь, через полчаса прибываем.
Она отдала Федору Ивановичу билет и ушла.
Он поднял полку, достал из ящика небольшой старый чемодан с металлическими уголками и поставил его на пол. Потом аккуратно свернул билет и не спеша положил в карман висевшего на крючке плаща, поднял лежавшую под столиком палку с причудливо изогнутой, видимо, самодельной ручкой.
– Ну, вот и порядок, – сказал он. – Как пионер, – всегда готов!
С верхней полки вдруг свесилась лохматая голова и спросила хриплым голосом:
– Так что же, папаша, значит, сжег ты ту газетку?
Мы с Федором Ивановичем удивленно переглянулись, застигнутые врасплох столь неожиданным появлением еще одного слушателя, и ни он, ни я не смогли сдержать улыбки.
– Извините, – сказал Федор Иванович. – Я, наверно, громко заговорил и разбудил вас?
– Надо бы разбудить пораньше, – недовольно сказала голова. – А то я только с того момента слушаю, как война кончилась.
Голова исчезла, затем с полки свесились ноги, и на пол спрыгнул молодой еще мужчина, незавидного роста, но удивительно могучего сложения. Во всей его кряжистой фигуре, в широко, по-моряцки, расставленных ногах и не по росту больших, крепких руках чувствовалась незаурядная, какая-то цепкая, ухватистая сила.
– Я вообще-то страшный охотник до разных рассказов. Меня медом не корми – дай послушать! – доверительно сказал он. – Вот только раньше-то что было, до того, то есть, как война кончилась, я не слыхал, а потому мне не все понятно. Может, папаша, растолкуешь коротенько, что к чему? А то я больше уснуть не смогу, я уж свою натуру знаю!
Федор Иванович засмеялся.
– Назад возвращаться да по сказанным словам топтаться – хуже нет.
– Ну чем хоть кончилось-то? – спросил «страшный охотник до разных рассказов».
Федор Иванович глянул на часы.
– Время есть. Раз уж начал, надо кончать… Нет, дорогой товарищ, не сжег я ту газетку. Да хотя бы и сжег, что толку? Все то объявление, до последнего слова, мне в сердце врезалось, а сердце в печке не сожжешь. Думаю: а что, если с моим Гришуткой, будь он жив, то же самое случилось бы, и пропали они с Любой? Каково это отцовскому сердцу, легко?
Обнял жену и говорю: «Как же мы с тобой после этого Саше в глаза смотреть будем? Как эту муку в себе через всю жизнь потащим, Люба?» – «Что же делать, Федя?» – «Саша уже не маленький, – говорю, – школу кончает. Воспитали мы его не хуже родных отца, матери. К подолу ты его на всю жизнь все равно не привяжешь: вой, сама вчера слыхала, что после школы в военное училище поступать хочет. Словом, парень взрослый, сам уже может решить, что и как… Написать надо этому человеку и Саше все рассказать, иначе не будет у нас в душе покоя до самой смерти. А совесть у нас перед ними чистая».
Поговорили так, поплакала она, но все же согласилась…
Этим же вечером написал я Куликову письмо. Так, мол, и так, прочитали мы в газете ваше объявление и можем кое-что сообщить о судьбе разыскиваемых вами жены и сына…
На другой день хотел я все рассказать Саше, но Люба попросила: «Не тревожь ты его пока, Федя! Успеется еще, зачем так сразу?»
Но не успелось. Тянули, тянули и дотянули, как говорится, до точки…
Как-то вечером сижу и старые валенки подшиваю. Саша на диване книгу читает, а жена посуду на кухне моет. Слышу, вроде постучали с улицы. Я спрашиваю: «Люба, ты дверь заперла, что ли?» – «Да». – «Кажется, стучался кто-то». Саша с дивана соскочил. «Это, – говорит, – наверно, Костя за книжкой пришел. Я ему обещал дать почитать». И побежал открывать.
За дверями – голос незнакомый. Входит Саша, а за ним мужчина в сером пальто и заячьей шапке, на лицо сухощавый, ростом немного повыше меня. Саша говорит: «Папа, к тебе». Мужчина поздоровался, снял шапку. Волосы сплошь седые, на высокой залысине рубец глубокий. «Я Куликов Владимир Семенович, приехал по вашему письму». У меня и валенок из рук выпал: не ждали мы его так скоро. «Раздевайтесь, – говорю, – проходите в комнату».
Разделся он и в комнату зашел. Я Сашу в кухню позвал и говорю: «Саш, ты сходил бы пока куда-нибудь, вон хоть к Косте». – «А что?» – «Нужно так, Саша. Я тебе после объясню».
Он вроде обиделся, молчком пальто и шапку надел и вышел. Люба в кухне на стул села, лицо ладонями закрыла. Шепчу ей: «Возьми себя в руки!» – а сам в комнату. «Может, перекусите с дороги?» – «Нет, спасибо, – отвечает, – я недавно в поезде поужинал. Если только стаканчик чаю горячего – озяб немного».
Сказал я жене, чтобы чай подогрела, стулья к столу подставил. Сели. Спрашиваю: «Как доехали?» – «Хорошо доехал. – Побарабанил пальцами по столу и говорит: – Да вы со мной не церемоньтесь, Федор Иванович, если есть что, говорите. Большой боли вы мне не причините, потому что давно уже я моих Катю и Сашу в сердце похоронил. Мне бы только их могилы разыскать…» А у самого пальцы на столе дрожат, мелко-мелко…
Люба всхлипнула, пальто с вешалки сдернула: «Федя, выйду я… тяжело мне!» – и за дверь.
Куликов спрашивает: «Что это с ней?» – «Переживает, – говорю. – У нас ведь Саша. Все эти годы она ему заместо матери». – «Так это… он… мне дверь открывал?» – спрашивает едва слышно. «Он самый, Саша и открывал. Нет, кроме него, у нас никого больше». – «А где он?» – «Я его, – говорю, – попросил уйти: не успели мы с женой рассказать ему о вас. Не думали, что так быстро приедете». «Понимаю…» – шепчет.
И рассказал я ему, как его Катя была убита и как Саша к нам попал. Выслушал он меня молча, даже не шевельнулся ни разу, только с лица почернел да раза два зубами скрипнул.
Только я замолчал, дверь распахнулась. Входит Саша. «Папа, объясни, что происходит? Мама на улице сама не своя. Спрашиваю, в чем дело, – ничего толком не говорит, плачет…»
Куликов со стула медленно поднялся, руки вперед протянул, в губах ни кровинки. Говорит тихонько: «Саша… сынок…»
Саша глянул на меня недоуменно. Обнял я его за плечи и говорю: «Саша… это отец твой. Убило твою маму в войну, а я тебя возле нее подобрал. А теперь вот отец твой нашелся». Вздрогнул он, будто я его ножом под сердце ударил. «Прости ты нас, – говорю, – но не знали мы раньше, что живой он… Поговорите. А я пойду мать успокою». И вышел…
Жена у подъезда на скамейке сидит, как неживая. Я рядом сел. Спрашивает тихо: «Рассказал?» – «Рассказал». – «Заберет он его от нас, Федя». – «Что значит, заберет: не игрушка – человек. У него голова на плечах есть. Как сам решит, так тому и быть».
…Долго мы с ней так сидели. О чем они между собой тогда говорили, не знаю. Только потом слышу, дверь открылась и Саша вышел. «Папа… мама… – говорит. – Ну что вы домой не идете? Холодно ведь».
Крепился я до этого, крепился, а как он меня после этого всего папой назвал, тут и у меня глаза защипало. «Какой же я, – говорю, – тебе папа, Саша? Папа-то твой в избе сидит».
Сбежал он с крыльца, обнял нас с Любой, целует, а сам плачет: «Ну что вы расстроились? Хорошие мои, родные, я вас все равно люблю!..»
За окном пролетел зеленый огонек светофора. Поезд подъезжал к станции.
– Вот, кажется, и добрался я до места, – сказал Федор Иванович.
Он встал, надел плащ и фуражку, взял палку.
– Пошел. Счастливо вам доехать.
– Я помогу вам, Федор Иванович, – сказал я и взял его чемодан.
Мы вышли в тамбур. Через минуту поезд остановился. Проводница подняла площадку, прикрывавшую ступеньки, и открыла дверь. Федор Иванович протянул мне руку.
– Ну, всего тебе хорошего.
– Вам тоже, Федор Иванович, – сказал я.
Он вышел.
Через плечо проводницы я выглянул из вагона. По пустынному перрону от небольшого приземистого каменного здания вокзала шли два человека. Я видел, как они встретились с Федором Ивановичем и обнялись.
Поезд тронулся. И мне вдруг показалось, что я только что навсегда простился с хорошим давним знакомым…
Коротка, мимолетна жизнь человеческая. В тысячи раз мимолетнее людские встречи. Но иногда, вот как сейчас в поезде, в недолгом, короче воробьиного носа, разговоре со случайным попутчиком вдруг откроется тебе в человеке, в его судьбе нечто такое, что никак не может оставить тебя равнодушным. И пусть расстанешься ты с этим человеком навсегда, но частичка его жизни останется и в твоей душе…
Я прошел в полутемный коридор и долго еще стоял у окна, курил и думал о нелегкой судьбе людей, обнявшихся сейчас на небольшой уральской станции, – людей, которых так необычно и крепко породнило самое бесчеловечное и страшное из того, что есть на земле, – война…
Виталий Трубин
ДОРОГА ДОМОЙ
Рассказ
Виталий Трубин – молодой литератор из Кургана. Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. В настоящее время он подготовил для Южно-Уральского книжного издательства свою первую книгу.
Семнадцатого марта, в день рождения брата, не вернувшегося с войны, Елена, тридцатипятилетняя замужняя женщина, видела во сне, как в изодранной шинели, с ручным пулеметом на правом плече он идет по лесу среди похожих на него смертельно усталых людей.
Сон был ясным, она хорошо разглядела брата, но весь рабочий день, сидя за сложным чертежом, Елена гнала воспоминание об этом сне, но опять видела перед собой сгорбленные, натруженные спины бойцов, цепью лежащих в редких, корявых кустах. За командиром, очень худым, высоким, сразу поднялся Шура. Он первый крикнул что-то, и, не открывая огня, следом бросились остальные. Навстречу им от безлюдных, с выбитыми стеклами, серых домов ударили немецкие пулеметы. Шура ответил длинной горячей очередью. «Вперед!» – кричал командир. Потом, вздыбив землю, что-то хлопнуло, Шуру подняло, и он вроде как полетел – мертвенно-бледный, умирающий…
Цепенея от страха и наваливающейся на сердце боли, Елена, всхлипнув, закрыла лицо рукой, а сидящие напротив девушки посмотрели на нее с удивлением:
– Вам что, нехорошо?
– Нет. Все в порядке. – Она опустила руку с привычно зажатым в пальцах рейсфедером, и все чертежницы в маленькой, на пять рабочих столов комнате увидели в ее глазах выражение долго не отпускающей боли.
Елена с нервным румянцем на щеках сидела выпрямившись, глядя на неоконченный чертеж, и думала, что сегодня брату исполнилось бы тридцать девять лет и не надо было бы рассказывать об этом сне матери, которая часто говорила: «Мне бы хоть во сне его поглядеть».
…Собираясь уходить, Елена подошла к двери, но внезапно от подкосившей ноги слабости опустилась на стул и подумала, что мама с отцом уже ждут ее, а на столе в деревянной рамочке перед ними фотография Шуры: коротко стриженный, босоногий, он сидит на крыльце, в правой руке у него сапожная щетка, а на левую надет еще не вычищенный сапог; на загорелом, чуть скуластом лице улыбка по-утреннему спокойная… «Куда он собирался тогда? Не помню. – Она указательными пальцами потерла виски. – Какой страшный сон был про тебя, Шура», – и стала думать, что, вернись Шура с войны, она бы сказала ему: «Идем к нам на завод, вместе будем на работу ходить». А на заводе Елена работала с пятнадцати лет, с тех пор как в ее школу в 1942 году пришел мужчина в полувоенном, армейского цвета костюме и сказал семиклассникам: «Кто хочет помочь фронту?» Елена тогда попала в сборочный цех – бывший склад, посреди которого, одна на весь цех, топилась печка-буржуйка. Вдоль стены – она хорошо помнила – стояли длинные столы, на которых собирали гранаты, а все остальное в цеху занимали станки. Ее за несколько дней научили штамповать корпуса для гранат. Чтобы удобней было работать, Лене, ростом небольшой, пришлось подставлять под ноги деревянный ящик; справа от нее, в ящиках побольше, лежали заготовки гранатных корпусов, неотогнутые края которых надо было загибать на станке. Норму Лена перевыполняла, и никто в цехе не удивлялся, что пятнадцатилетняя девочка так хорошо работает: все знали, что у нее три брата на фронте, один из них пропал без вести в октябре 1941 года.
Когда она вышла из проходной, началась снежная кутерьма. Еще перед вечером Елена видела из окна, как на северной стороне толпились черные, набирающие силу тучи и самые близкие из них, будто неповоротливые, большие птицы, лениво поворачивали на город… и вот забуранило…
Через сквер из высоких, прямых тополей она вышла на улицу, увидела в темноте квадратно-черную башню элеватора, на которой горели красные, похожие на самолетные сигналы огни и подумала: «Натерпелся Шура от самолетов», – и представила его стоящим в окопе: перед ним на бруствере лежала винтовка, и опаленный зноем до черноты, взмокший от пота, с грязными потеками на скуластом лице, Шура смотрел туда, откуда близился таинственно гудящий, то наступающий, то отступающий, режущий облака звук; потом все закрыла взрывами поднятая в небо земля, и она уже не могла представить, каким в эти страшно томительные минуты был ее брат…
Мысли о нем не оставляли Елену с той минуты, как ее разбудил страх за него. Она не успела увидеть во сне – упал он после взрыва на землю или нет, и опять, как и весь день, она гнала от себя этот странный, нелепый сон. В детстве ей казалось, что Шура будет всегда.
Она спешила к матери, зная, что в печи будет гореть огонь, мама вспомнит, каким Шура уходил в армию чернобровым, смуглым красавцем, и расплачется. А Елена часто вспоминала брата мальчишкой, одиноко, из темноты смотрящим с улицы в кухонное окно. За его спиной была такая же, как сейчас, похожая на мартовскую, непогода, и, глядя в его испуганные, затемненные тоской глаза, она, восьмилетняя, рыдала, а гостившая в доме богатая тетка с тринадцатилетним сыном напирали, что пятьдесят рублей из ее сумочки взял именно Шура, и тогда Лена закричала: «Это ваш Колька украл! Он нас с Шурой в буфет водил, мы там чай пили с конфетами, и он говорил: «Мне денег много дают. Я вас угощаю, а вы про то моей мамке не говорите!»
Теперь Елена была матерью и знала, что пережил отец, выгнав оговоренного теткой сына, которая везде чувствовала себя, как дома, и всех учила, как надо жить. Озябшего и голодного Шуру отец сразу вернул в дом, а Кольку, смущенно причитая, тетка выпорола ремнем.
Елена шла между не похожих друг на друга домов, ветки тополей и берез постегивали зажженные фонари, а все, что было дальше верхушек деревьев, было невидимым, и она ясно вспомнила брата, смотрящего на нее через оконное стекло. Его светло-карие глаза были широко, чтобы слезы не пролились, открыты, полные губы не дрожали, он крепко сжимал их…
С приездом тетки в доме тогда что-то сломалось, все стали держаться отдельно, каждый в своем углу, не собираясь по вечерам на долго не остывающем после солнца крыльце. Теперь Елена понимала, что это был молчаливый против тетки протест, и помнила, как проснулась с радостным ощущением, что в доме нет больше чужих людей…
Тогда Елена лежала в уютном покое и думала, как в доме свободно и чисто, и опять удивлялась: почему тетка не уехала сразу, когда узнала, что деньги взял ее сын. А Шура уже тихонько открывал дверь в спаленку и от порога шептал: «Не спишь? Айда со мной! Папаня два часа, как ушел. На озеро к нему пойдем, там и заночуем». Раньше он никогда не звал ее на рыбалку, и Лена благодарно смотрела на брата. Сначала они шли в тени стоящих вдоль старицы домов, только в конце Битевской улицы, где старица делала крутой поворот к Тоболу, свернули в другую сторону, и солнце снова крепко тронуло их.
Лена с интересом глядела на груженые, катящиеся им навстречу телеги, в которых скучали незнакомые, разморенные на жаре мужики. С мягким топотом, медленно переставляя в пыли натруженные ноги, тянули груз лошади, и она чувствовала, как им хотелось в прохладный сумрак конюшни, и жалела их, а потом она сама устала на пыльных от зноя улицах. Шура, слыша поспешающие за ним маленькие шаги, молчаливо вел ее за собой и оборачивался, когда она робко просила:
– Далеко еще?
– Нет, вон за тем курганом, – обещающе говорил, ждал, пока Лена поравняется с ним, и они снова шли рядом. Когда он переставал спешить, Лена ловко попадала в шаг, глубже и ровней дышала, переставала размахивать крепко сжатыми для скорости кулачками.
Они уже давно шли по степи. Над заросшим травой огромным курганом парили, хищно раскидав крылья, птицы, и девочка хорошо разглядела, как, крутя горбоносой маленькой головой, болотный лунь то становился темно-коричневой точкой, то возвращался близко к земле…
Поглядев с опаской на большекрылых, занятых охотой птиц, Лена пошла рядом с братом, иногда касаясь пальцами его твердой, в сухих мозолях ладони. Воздух был горячий, тугой, и казалось, она с трудом рвет его. Миновав редкий кустарник, они вышли к подножию кургана, и словно перед ними открыли калитку – так толкнул влажный, прохладный ветер.
– Смотри… – весело сказал Шура.
В жарком дневном мареве, как брошенное у реки тележное колесо, в круглой, ласковой полудреме лежал город.
– Надо же, дорога как поднялась, – сказала Лена.
– А вот мы на курган подымемся! Ну-ка!.. – И, схватив ее за руку, по хлеставшей траве Шура бросился на самую высоту.
Скоро они стояли на вершине кургана, и стремительно уходящий вниз город неотступно шел по Тоболу, оставляя по берегам приземистые, под железными крышами пивоваренный и турбинный заводы с высокими, дымящими трубами, три моста – деревянный и два железнодорожных, серебрящиеся в дрожащем полевом мареве. Сверкая на солнце новыми стеклами, тянулась в небо обновленная макаронная фабрика. В полуденном зное томилась обветшалая церковь, а на другом конце площадки, как гриб подберезовик, стояла пожарная каланча. Вспыхнул и погас солнечный луч, коснувшись медной каски стоящего под грибком пожарного.
– А озеро? Где озеро, куда мы идем? – нетерпеливо спросила Лена.
– Оглянись, – сказал Шурка.
Озеро с желтеющим по берегам камышом показалось ей прозрачно-пустынным, волны гнали перед собой сверкающие, похожие на выпрыгивающих рыб, блики. Над озером парили чайки, деревенские ласточки, стрижи, а над прибрежной степью трепетали жаворонки, оповещающие всех, что они там с высоты видят.
Но прежде чем Лена с братом пришли к давно прикормленному, законному месту папани, они обошли половину озера и остановились у нескольких, растущих недалеко друг от друга берез.
Лодка папани легонько качалась недалеко от берега, напротив берез, и Лена, забежав в воду по колено, радостно закричала: «Мы пришли!» А отец спокойно ответил: «У меня клюет, устраивайтесь пока».
Светлой лунной ночью, после ухи и разговора, лежа в рассохшихся давно приспособленных для ночлега лодках, папаня, Шура и Лена засыпали у догорающего костра. Лодки стояли рядышком, и, слыша негромкое, предсонное покашливание отца и замирающее дыхание Шуры, она тогда с благодарностью думала, что он насыпал ей сена побольше и если сейчас поменяться, то его постель окажется, как он любил, твердой. Пока он носил, раскладывал по лодкам сено, Лена помыла с песочком миски и кружки, и, когда улеглись, она испытала чувство необыкновенного, долго не проходившего удивления отдающими свое тепло лодкой и сеном, ночным криком кем-то разбуженных чаек, таинственной возней в близкой к костру траве, многоголосым шелестом берез…
И теперь, спеша после работы к матери, Елена с болью чувствовала: знай она тогда, что Шура не вернется с войны, она жалела бы его еще больше, и Елена опять вспомнила его такого маленького, одинокого, молчаливо смотрящего из темноты в кухонное окно.
К началу войны братья Иван с Василием успели три года отслужить на Дальнем Востоке. Шуре было полных восемнадцать. Он сразу пошел добровольцем.
…С вечера, перед уходом на фронт, Шура нарубил много дров, принес из деревянного ларя ведро угля, и в шесть утра, пока он спал, мама с Леной растопили печь, завели блины.
В то утро он сам не проснулся, а на разбудившую его сестру посмотрел так, как если бы это был самый обыкновенный день: «Пора, Ленок?» – улыбнулся. Она молча кивнула. «Иди, – со сна хрипловато сказал Шура. – Я одеваться буду».
«Он идет на войну», – сидя в кухне на лавке, глядя, как мать грустно и ловко печет блины, думала Лена. Война представлялась ей огромным полем, а Шура вместе с другими солдатами, занимая поле, гнал врага все дальше и дальше, без отдыха, до самой победы. Война казалась ей бесконечным, без сна, боем.
Шура вошел на кухню, перетянутый солдатским ремнем, в начищенных ботинках, брюки и белая рубашка отглажены. Следом зашел по виду не спавший всю ночь папаня, и о чем они втроем говорили – Лена не знала: она вышла в многооконную горницу накрывать на стол. Застелив его белой, старинного тканья скатертью, расставив тарелки и три стаканчика из синего стекла, она села на табурет. Из-за далеких, видных из окна лесов – дом на высоком месте стоял – встающему солнцу в бок нацеливалась темно-синяя туча. Мягко, лениво разгоняясь, туча вывела за собой вереницей другие, поменьше, и скоро тучи заполнили южную сторону неба. Двустворчатая дверь отворилась, в горницу вошел осунувшийся, будто ничего не видящий перед собой – такое заострившееся, слепое было у него лицо – отец, следом, одергивая старенький, хорошо выглаженный пиджачок, широко шагнул через порог Шура. У него было спокойное, будничное лицо, только темно-карие глаза чуть воспаленно блестели. Мама несла тарелку с горячими блинами, наклонив голову, словно боялась на пороге споткнуться. Солнце горячечным румянцем тронуло ее правую щеку, открытый тонкий висок с бегущей по нему синей, набухшей жилкой, чистый лоб, а ее темные собранные в старушечий пучок волосы тоже красно-огненно осветились.
– Ну что же, – стоя между выходящих на проезжую улицу окон, покашляв в кулак, негромко сказал отец и привычным жестом указал сыну место напротив, а мать с дочерью сели по правую и левую руку от Шуры.
В эту минуту в комнате потемнело, за Тоболом раскатисто громыхнуло, и, обернувшись на окно, у которого только что сидела на табуретке Лена, Шура сказал растерянно:
– Вот так так! Ко мне ребята хотели перед работой зайти.
– Придут, – сказала Лена. – Да и не будет дождя. Погремит да перестанет.
Отец наказывал сыну, как вести себя среди людей. Мать смотрела обеспокоенно. Дождь ударился в окна, пошел сильнее, даль от густо падающей воды побелела, стала похожа на зимнюю, а старица казалась подо льдом, по которому ветер гнал снег.
– Ты там осторожней, – сказала мама и резко прикрыла лицо ладонью, и по тому, как заходили ее худые длинные пальцы, все поняли, что она подумала.
Над старицей грохнуло, как из пушки, и Лена так боязливо ойкнула, что Шура засмеялся:
– Трусишь, Ленок?
Настежь, с лязгом открылась калитка. Шура крикнул: «Ребята пришли!» – и выскочил из-за стола.
Четверо одноклассников окружили Шуру и, не выпуская из кольца, втащили за собой на крыльцо, а потом в сенки.
– В дом заходите! – звала их мама.
– Да мы на работу, в депо бежим, – старались улыбаться ребята. – Давай, Шурка, прощаться.
…Когда Шура с вещевым мешком за плечами вышел во двор, дождь уже кончился. Он подошел к отбелевшей, ведущей на крышу лестнице, потрогал ее и, открыв калитку, не пошел в огород, а просто оглядел начинающую цвести картошку, капусту, две пониклые яблони, старый тополь, заброшенный провалившийся колодец; за густой прибрежной травой были сочно-зеленые камыши, спокойная с илистым дном старица, а потом заросший кустарником берег и дальше до Тобола низкие ивы, подрастающие тополя, крыши небольшого поселка, а за рекой еще простор и лес.
Закрыв калитку, Шура выпрямился, расправил плечи, глаза его, светло-карие, глядели, запоминая нас, обещая: «Все хорошо будет, вы меня ждите».
С таким же уверенным, тревожным лицом Шура шел по Битевской улице, по которой на работу спешили знавшие его люди. Старики, женщины, подростки здоровались первыми, и их «здравствуйте» в первую очередь было обращено к нему, а то, что известного им парня провожают на фронт, было ясно по его облику, а больше по отчаянным глазам матери, которая старалась идти в ногу с сыном и, не попадая в лад, крепко, двумя руками держалась за его согнутый локоть.








