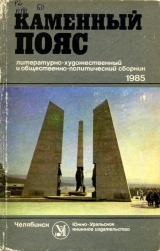
Текст книги "Каменный пояс, 1985"
Автор книги: Александр Терентьев
Соавторы: Анатолий Рыбин,Геннадий Хомутов,Александр Куницын,Михаил Львов,Михаил Шанбатуев,Анатолий Головин,Владилен Машковцев,Валерий Тряпша,Анатолий Камнев,Владимир Одноралов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Борьба продолжается
Гейнц Гофман знал о том, что Оскар был тяжело ранен в бою под Утанде. Но о дальнейшей судьбе товарища ему ничего не было известно. Через полтора месяца в другом бою тяжело ранили и Гейнца. Почти год он пролежал в Мадриде, а потом для дальнейшего лечения его перевезли во Францию и поместили в госпиталь «Сануаз», находившийся в Обоне, – маленьком городке под Парижем. Можно представить его изумление и радость, когда он встретил здесь Оскара.
Они лежали в маленькой двухместной палате. Сохранилась фотография тех дней. Слева на койке, с книгой в руках, русоволосый круглолицый Оскар. Справа, тоже с книгой – худощавый, с короткими темными волосами ежиком – Гейнц.
Каждый день в госпитале был полон разговорами об Испании. Они мечтали быстрее поправиться и вернуться на фронт, к боевым друзьям. Но когда Оскар уже был здоров, до них дошла весть: Интернациональные бригады выводятся из Испании.
Оскара и Гейнца не было в Барселоне, ставшей столицей республики, когда солнечным октябрьским днем 1938 года благодарная Испания провожала бойцов Интернациональных бригад. Но первой в строю стояла их Одиннадцатая бригада. И к ним тоже относились слова Долорес Ибаррури – Пассионарии:
– Вы можете гордиться собой: вы – история, вы – легенда, вы – героический пример солидарности и всеобъемлющего духа демократии! Мы не забудем вас! Да здравствуют герои Интернациональных бригад!
Известный немецкий поэт-антифашист Эрих Вайнерт тоже сражался против фашизма в Испании. Он написал несколько песен, в том числе знаменитую «Песню Интернациональных бригад». А в Одиннадцатой бригаде пели свою песню, которую также написал Вайнерт:
…Честь зовет на штурм, вперед,
За край испанский, за народ!
…Во имя завтрашнего дня
Выходим мы на линию огня…
В госпитале в Обоне Оскар и Гейнц с глубоким волнением читали стихотворение Эриха Вайнерта «Прощание с фронтом». Им вспоминалось все, что было пережито в Испании, вспоминались товарищи, которые навсегда остались в испанской земле.
…С тех пор прошло два года боевых!
В дыму сражений и в огне предместий
Товарищей мы обрели своих,
И на полях, отныне нам родных,
И жили мы, и умирали вместе…
Это стихотворение было написано в Барселоне в октябре 1938-го, в дни проводов Интернациональных бригад.
В первом же письме Оскар послал его Эльзе Харцер.
Испания навсегда осталась в его сердце.
* * *
В конце 1938 года врачи разрешили Оскару покинуть госпиталь. Он снова в Париже, где когда-то провел несколько дней по пути в Испанию. Теперь ему предстоит жить в этом прекрасном городе. Его неугомонная натура требует действий.
Политическая обстановка в Европе становится все более напряженной. Гитлер готовится к нападению на Чехословакию.
«Если разразится война, – писал Оскар Эльзе, – я и все наши друзья будем сражаться на стороне чехословацкой армии против Гитлера».
Это было его последнее письмо Эльзе: преданная правительствами Англии и Франции, Чехословакия попала под пяту Гитлера.
Париж – центр деятельности немецкой антифашистской эмиграции. Отсюда осуществляется руководство борьбой за освобождение Тельмана и других арестованных борцов. Здесь создан Союз свободной немецкой молодежи. Один из его руководителей – Оскар.
Но жить во Франции политэмигрантам нелегко. Власти смотрят на них как на «нежелательных иностранцев». Есть и такие французы, которые в каждом немце видят фашиста. Но французские рабочие хорошо отличают немецкий народ от его палачей, они всячески поддерживают антифашистов.
В Германии и в соседних с ней странах желающие знать правду слушают передачи «Свободной радиостанции». Ее создали эмигранты-антифашисты. От имени Союза свободной немецкой молодежи передачи из Парижа вел Оскар.
– Слушайте нас на волне 29,8 метра! – летит его голос в Германию, неся слово правды, пробуждая к борьбе.
«Двадцать девять и восемь десятых». —
Это сердце Германии билось
И, в застенках эфира зажато,
Не сдавалось нацистам на милость…
Эти стихи написал ленинградский поэт Игорь Ринк. В годы Великой Отечественной войны он был командиром группы десантников.
Совещание у директора
Летом 1939 года из Франции интербригадовцы приезжают в Советский Союз. В доме отдыха под Москвой, а потом в санатории в Узбекистане Альберт и его товарищи залечивают раны, набираются сил. Они знают, что борьба не кончена, впереди новые схватки с фашизмом.
А пока, читая газеты, знакомясь с советскими людьми, они жадно впитывают все, чем живет их новая родина – Советский Союз.
Идет третья пятилетка. Иностранные коммунисты не хотят быть только почетными гостями, восторженными зрителями великого созидания. Перед ними карта, на которой значками обозначены строительные площадки и действующие заводы. Автомобили и тракторы, уголь и нефть – фронт борьбы за социализм. Их место на этом фронте.
Далеко от Москвы, на востоке, за Уральскими горами, есть большой город Челябинск. На карте пятилетки рядом с его названием нарисован трактор. Там уже шесть лет выпускает машины Челябинский тракторный завод. Туда они и поедут работать.
Двое с половиной суток идет поезд из Москвы на Урал. Леса сменяются равнинами, равнины – горами.
Города… бескрайние поля пшеницы… линии электропередач… Их новая родина.
А вот и Челябинск! Сколько людей пришло на вокзал! Музыка, приветствия! Многих слов они еще не понимают, но все понятно и без слов.
Так они стали челябинцами.
* * *
В один из морозных декабрьских дней, после окончания смены, иностранных товарищей пригласили на беседу к директору завода. Сумерки в декабре наступают рано. В просторном директорском кабинете уже горел свет.
Из-за стола в дальнем углу поднялся широкоплечий, среднего роста человек со смуглым лицом и черными, очень живыми глазами. Директора завода Илью Давыдовича Соломоновича многие уже видели в цехах, а некоторые успели и познакомиться с ним.
– Проходите, товарищи! Устраивайтесь! – радушно пригласил директор. – И будьте как дома.
Один из политэмигрантов, улыбаясь, что-то сказал ему по-немецки. Соломонович комично развел руками: не понимаю.
– Рихард говорит, – перевел Альберт, – что, когда он работал у Круппа, его никогда не приглашали в кабинет директора. И тем более не предлагали быть там, как дома.
Рихард что-то добавил, стоявшие вокруг заулыбались.
– Он говорит, – перевел Альберт, – что надеется побывать в кабинете у господина Круппа без приглашения.
Соломонович засмеялся и пожал Рихарду руку. За двумя длинными столами места хватило всем. Сбоку, за маленьким столиком, – стенографистка.
– Ну, что ж, давайте побеседуем, – предлагает директор.
Никому не дано знать будущее. Вглядываясь в лица тех, кто сидел в его кабинете, испытывая к ним чувство глубочайшего уважения, ту теплоту, которую у советских людей вызывали иностранные антифашисты, Соломонович, конечно, не мог знать, что будет с ними через год, через два, через несколько лет.
Соломонович не мог знать, например, что вот эта милая женщина со спокойным лицом и седой прядью в темных волосах всю войну проработает на заводе, а потом уедет на родину, в ФРГ, где ей будет очень трудно, когда компартия снова окажется под запретом. А ее муж, о котором говорят, что он опытный шлифовщик, будет заброшен в Германию на подпольную работу и погибнет в гестапо. И большой жизнерадостный человек, который шутил насчет Круппа, – тоже.
А чех из деревомодельного цеха с оружием в руках погибнет на пороге своей родины, и его именем назовут улицу. А испанец с озорными глазами станет лучшим мастером-оружейником в знаменитом партизанском отряде Медведева, товарищем легендарного разведчика Николая Кузнецова. А этот вот, из кузницы, будет командиром партизанского отряда в Белоруссии, получит орден Ленина и погибнет в бою…
Всего этого, конечно, не мог знать Соломонович, как не мог знать и того, что сам он меньше чем через год будет уполномоченным Государственного Комитета Обороны на одном из уральских танковых заводов.
Директор смотрит на Альберта, слушает перевод выступлений – с немецкого, с испанского. Ему нравится этот небольшой, хорошо сложенный, собранный человек, его открытое лицо, умный пристальный взгляд. Сколько ему? По виду лет тридцать. Молодой, хотя, наверное, испытал немало. Интересно, а как сложится дальше его жизнь?
– Перед отъездом из Москвы все мы знали, – это говорит Иоганн Вольф, представитель иностранных рабочих при дирекции, – что Челябинск в дореволюционное время был захолустным городишком. Знали и о том, что после революции здесь, как и во всем Советском Союзе, произошли колоссальные изменения. И все же мы были удивлены! Мы не ожидали найти здесь такой огромный и прекрасный завод, как ЧТЗ.
– Спасибо, товарищ Вольф! – говорит Соломонович и встает. – Я рад, что все вы довольны работой, что вам нравится у нас, что мы хорошо понимаем друг друга. Мы пригласили политэмигрантов в Советский Союз и к нам на завод не только как рабочую силу. Мы знаем, что вы боролись против фашизма, за революцию. Мы понимаем, что вы приехали к нам временно, и верим, что наступит момент, когда вы сможете поехать к себе на родину. В Советском Союзе и у нас на заводе вы должны получить не только техническую квалификацию, но и опыт борьбы за социализм. Желаю вам всем удачи.
Вечер у Гаряновых
– Сегодня мы приглашены в один необыкновенный дом, – предупредила Клавдия.
– Если в необыкновенный, то с удовольствием подчиняюсь, – ответил Альберт. – Кто же хозяева этого дома?
– Гаряновы, я тебе о них рассказывала. Ты познакомишься с моими близкими друзьями, а я представлю им своего суженого.
Гаряновы жили в новых больших домах напротив Алого поля. Семья их славилась хлебосольством. Павла Абрамовича знали как популярного актера и любителя вкусно поесть. По городу о нем ходило множество забавных историй. Когда какую-нибудь из них пересказывали самому актеру, он хмурился, сердито покашливал, бормотал «вранье», но в душе, кажется, не так уж сильно бывал недоволен.
Толстый, с гривой седых волос, актер шумно приветствовал их и повел в гостиную. Ее стены чуть ли не от пола до потолка были увешаны фотографиями, изображавшими либо самого хозяина в какой-нибудь из его бесчисленных ролей, либо его жену, тоже актрису, работавшую в городском театре кукол, а также их товарищей по искусству. Были здесь и снимки знаменитостей с автографами.
Нина Адамовна, спокойная, худая, высокая, с тонкими чертами лица и большими голубыми глазами, и по характеру была прямой противоположностью постоянно взрывавшемуся то весельем, то гневом супругу. К своим куклам она относилась как к живым существам, а любимца Петрушку всегда брала домой, и даже, разговаривая с гостями, разыгрывала с ним забавные сценки.
– Ну-ка, покажи, кто тебе нравится! – строго сказала она Петрушке. Тот показал на Клавдию, уткнулся Нине Адамовне в плечо и смущенно захихикал.
– Это мой старый поклонник, – объяснила Клавдия Альберту и обратилась к хозяину дома: – Признавайтесь, Павел Абрамович, что вы опять натворили!
– Дружочек мой! – протестующе поднял он руки. – Безгрешен, как голубь!
– А в детскую редакцию этот голубь случайно не залетал?
– Хм-хм! – закашлялся Гарянов.
Это была одна из очередных его историй. Рассказывали, что Павел Абрамович, сердитый, насупленный, с огромной коробкой в руках, появился в редакции пионерской газеты «Ленинские искорки» и потребовал:
– Всех сюда!
Когда сотрудники собрались, он развязал свою коробку. В ней оказался большой домашний торт. Сердито оглядев недоумевающих журналистов, актер вдруг широко улыбнулся:
– Это вам от старика, «искрята»! Хорошую статейку о театре напечатали!
И исчез так же неожиданно, как появился.
– До чего же мы все-таки любим театральные эффекты, – пожурила Клавдия.
– Я же актер, душенька! – оправдывался он.
В этот момент пришли новые гости – пожилая актриса из Златоуста и известный в городе хирург Назаров с женой.
– За стол, за стол!
Ужин оказался вкусным и обильным по-гаряновски. Больше всех ел и разговаривал сам хозяин. Но когда зашла речь о новой постановке чеховской пьесы, которая готовилась в местном театре, актер заговорил по-иному. Искусство, Чехов – здесь он шуток не признавал.
Провожая гостей, Павел Абрамович сказал Альберту:
– Вы уж извините меня, старика. Я хотя и болтал, но приглядывался к вам, молодой человек. Вы мне понравились. Если вас обоих интересует мнение старого актера, я – за! И в качестве подарка – приглашаю на премьеру «Чайки».
Они были на «Чайке». Гарянов играл доктора Дорна, играл превосходно. Во время спектакля Клавдия, взглянув на Альберта, увидела, что он внимательно смотрит на сцену и шепчет: «Один… два… три…»
– Что с тобой? – спросила она.
– Я считаю несчастных, – шепотом ответил он.
А еще через два года он из Москвы напишет ей на Дальний Восток:
«Был на концерте… исполняли «Чайку»… но не ту, которую мы видели в Челябинске».
И она отчетливо, до мельчайших деталей, вспомнит этот вечер, когда они вместе последний раз ходили в гости – вечер у Гаряновых…
Мама Клавдии и младшая сестра Нюся очень полюбили Альберта. «Он добрый и внимательный, как родной сын», – хвалила его Матрена Ивановна. Но среди дальней родни Рубцовых, среди двоюродных тетушек, вдруг появилась «оппозиция»: мол, подумать Клавдии не мешает. Он, конечно, наш, но все-таки…
Самой Клавдии, зная ее характер, этого высказывать не решались, но мать такими разговорами расстраивали. Глядя на маму, расстраивалась и Клавдия.
Днем, обходя больных, она заглянула в маленькую одноместную палату, где на койке лежал крупный немолодой мужчина с лукавым и одновременно проницательным взглядом.
– Что это ты, голубушка, приуныла? – глуховатым голосом спросил он у Клавдии.
– И не спрашивайте, Иван Степанович! – вздохнула Клавдия. – Может быть, я к вам вечером забегу и тогда все расскажу.
Иван Степанович Белостоцкий уже тогда был в Челябинске личностью легендарной. Член партии с 1904 года, он учился в Ленинской школе в Лонжюмо, устанавливал Советскую власть на Урале, работал на ЧТЗ «с первых колышков». Человеком он был прямым, жизнерадостным и доступным, прекрасным рассказчиком и острословом.
К нему-то, освободившись от врачебных дел, и пришла Клавдия вечером в палату. Открыла окно, села на стул против его койки и… выложила все свои заботы.
– Замучили маму тетки своими разговорами. Ну, а вы что скажете, Иван Степанович? Выходить мне за него или не выходить? – грустно пошутила она.
– Непременно выходить! – сразу, как о хорошо продуманном и давно решенном, ответил Белостоцкий. Своей большой ладонью он ласково погладил ее руку и добавил: – Другого мнения и быть не может. Любовь – это же счастье. Не каждому оно дается.
Этот разговор тоже запомнился ей на всю жизнь.
Вскоре Клавдия уехала в Москву, в аспирантуру.
Альберт остался в Челябинске. Он по-прежнему жил в одной комнате с молчаливым Карлом. Каждый день бывал у Рубцовых. Матрена Ивановна болела, и он помогал Нюсе по хозяйству. Много лет прожив вдали от своих близких, здесь он, наконец, нашел родную семью.
В декабре Клавдия приехала домой на каникулы, и они поженились. Была скромная, но веселая свадьба. Позвали супругов Крамеров, чеха Игнаца с женой, родных Клавдии. Иван Степанович Белостоцкий в это время лежал в больнице в Свердловске. Не смогли прийти и Гаряновы, но они прислали молодым роскошный гаряновский пирог, который стал главным украшением свадебного стола.
Гости шутили: пирог русский, кекс английский, печенье чешское, невеста – русская, жених – немец! Самая настоящая интернациональная свадьба.
Вместе они встретили Новый год.
Альберту и Клавдии нравилось бродить по зимним улицам, смотреть, как около фонарей кружатся снежинки. А самое главное, во всем этом огромном сверкающем мире они могли быть вдвоем, рядом, вместе…
Но каникулы кончились, и Клавдия уехала в институт. А в марте Альберт неожиданно сообщил ей, что его вызывают в Москву, в Коминтерн.
Сначала она страшно обрадовалась, а потом все в ней дрогнуло.
Она вдруг поняла, какое это трудное и тревожное счастье – любить человека и все время, каждую минуту знать, чувствовать, что он не принадлежит ни ей, ни самому себе.
Когда Альберт приехал в Москву, уже капало с крыш, пахло весной.
Шла весна 41-го года.
Ей – в другую сторону…
В довоенной Москве, бурно строившейся и молодевшей, немало еще оставалось и старых двухэтажных домиков, которые прятались в глубине дворов и тихо доживали свой век. В таком домике, на тихой улочке недалеко от Белорусского вокзала, снимала комнату и Клавдия.
«Придет или не придет?» – волновалась Клавдия в первую субботу после приезда Альберта. Было уже поздно, когда она возвращалась из института домой. Вышла из метро и вдруг страшно заторопилась, почти побежала, загадывая: если будет свет в ее комнате, значит придет, а если нет… Вбежала во двор и от волнения никак не могла найти свое окно. Кто-то шел ей навстречу.
– Клавдия, ты?
Это был Альберт. Он приехал раньше, ждал ее, пошел встречать.
Теперь по воскресеньям им принадлежала вся Москва. Они навещали сестру Клавдии Тоню, заходили к Отто – товарищу Альберта по Испании. Он был тяжело ранен, потерял зрение. На улице его водила под руку жена, француженка Сюзанна – Сюзон, как ее называли друзья.
Однажды они провели вечер у немецкого художника – политэмигранта. Он показывал свои работы. Одна из картин поразила Клавдию. Голодная степь. Верблюд. Тени на песке. Красная луна. Казалось, даже воздух на картине был раскален.
– Der Monat ist rot und scheint![2]2
Луна красна и светит.
[Закрыть] – сказала Клавдия, и все гости к ней повернулись. Она смутилась, но ее стали убеждать, что нужно больше говорить по-немецки: практика – самое главное.
Случалось, что Альберт был свободен и в субботу. Тогда он заходил за ней в Ленинку или в институт, в переулке Лаврова около Таганки. Общительный и приветливый, он быстро познакомился с ее подругами и с преподавателями и очень всем понравился.
Часто они ходили на концерты русской музыки.
Как-то Альберт принес билеты, но не сказал, куда они пойдут. «Это сюрприз».
И привел ее в кукольный театр на «Буратино». На спектакле он не столько следил за сценой, сколько за тем, как вели себя маленькие зрители.
К детям у него было особое отношение. Он мог за ними наблюдать часами. В парке имени Горького была площадка, где малыши катались на педальных велосипедах. Глядя на ребятишек, Альберт «угадывал» их характеры:
– Видишь – вот этот будет хорошим человеком… А вон тот, толстый – типичный бюргер. Посмотри, какое у него самодовольное выражение лица. Зато вон та девочка – прелесть, она будет вожаком у комсомольцев.
Однажды – это было в конце мая – Альберт предупредил Клавдию:
– Если в следующую субботу я не приеду, ты не волнуйся. Наверное, будем переезжать за город, на дачу.
Конечно же, всю неделю она волновалась. Но он приехал. И еще несколько раз приезжал. А потом наступила еще одна суббота, и его не было. Она сидела за столом, читала, долго стояла у окна и, прижавшись к стеклу лбом, смотрела в ночную темноту. Потом подошла к календарю и сорвала листок. Машинально взглянула: 21 июня…
Следующий воскресный день безжалостно рассек их жизнь и жизнь миллионов других людей пополам.
* * *
На пятый день войны Клавдия, измученная тревогой, поехала к брату, военному инженеру. Сидела, молчала, плакала. Брат спросил:
– Боишься за него?
Она молча кивнула.
Вернулась домой и, открыв дверь комнаты, тихо ахнула. Альберт был здесь, и уже в военной форме – в пилотке, в красноармейской гимнастерке. Она так обрадовалась, что забыла свои тревоги и через пять минут уже вертелась в его пилотке у зеркала и спрашивала: «Как, идет?»
Вечером он вспоминал Испанию, налеты фашистских самолетов на Мадрид. Их называли «коровами» за то, что они часто бросали свои бомбы куда попало. А ночью она услыхала, как он во сне говорил: «Летят… летят…»
4 июля, на другой день после выступления Сталина, Клавдия пошла в военкомат и подала заявление – на фронт. Она не могла допустить и мысли, что Альберт в армии, а она – нет. Ей хотелось, чтобы и в этом их судьбы были одинаковы.
Занятия в институте еще продолжались, но теперь и преподаватели и слушатели дежурили в отрядах МПВО, в спасательных командах.
Начались вражеские воздушные налеты на Москву. По ночам в городе все дрожало от грохота зениток, в небе метались огненные лучи прожекторов, вспыхивали огоньки разрывов. Но лишь отдельные самолеты прорывались к Москве и сбрасывали бомбы. Появились первые разрушенные дома, первые раненые и убитые.
Недалеко от дома Клавдии жил напряженной жизнью, пульсировал Белорусский вокзал. Каждую ночь оттуда доносился негромкий, ритмичный и в то же время тревожащий звук. Она долго не могла понять, что это такое. И вдруг догадалась: это шаги подходивших колонн, маршевых батальонов, которые отправлялись на фронт.
В середине июля Клавдию вызвали в военкомат. Во всех комнатах теснота, давка – не протолкнуться. С трудом нашла очередь к столу, где регистрировали медиков.
Как раз перед ней, вписав последнего, закончили формирование медчасти на Ярославское направление. Ее записали первой на новом листке. Как потом оказалось, на Дальний Восток.
Отправка задерживалась, и они с Альбертом еще один вечер провели вместе.
Поужинали. Клавдия шутила и гадала на пальцах о будущем. (Таким гаданьем увлекались девочки-школьницы: нужно закрыть глаза, развести руки, а потом соединить указательные пальцы. Если они встретятся, значит, загаданное сбудется!) Клавдия зажмурилась и, сводя указательные пальцы, приговаривала:
– Чтобы вернулся! Чтоб голова, и руки, и ноги – все было цело!
Альберт успокаивал:
– На войне не каждая пуля попадает, не каждая убивает…
Он уходил утром. Она надела берет и пошла провожать его на трамвайную остановку. Улыбалась, бодрилась. Подошел трамвай, они простились, и Альберт поднялся в вагон. Клавдия видела его через стекло.
Альберт смотрел на нее сверху, и взгляд у него был грустный-грустный…
А еще через день ее отправили.
Эшелон состоял из товарных вагонов с двухэтажными нарами. Люди в военном, и среди них Клавдия, стояли в открытых дверях вагонов, опираясь на перекладины, и смотрели, как медленно уплывало от них на запад Подмосковье.
Эшелону предстоял путь почти через всю страну, поднявшуюся на бой с врагом.
Одиннадцать писем о любви
Военный лагерь запрятан в подмосковном лесу. Словно охраняя тайну, деревья со всех сторон подступили к самой ограде.
Каждый день в лагере идут занятия. Штыковой бой… Стрельбы… Специальная подготовка… Всё, что может пригодиться в бою или в другой не менее сложной обстановке.
После занятий у курсантов свободное время.
Вечереет. На землю легли длинные тени. Из беседки доносится негромкая песня. Она звучит непривычно: поющий выговаривает слова песни с иностранным акцентом.
…Уходили, расставаясь,
Покидая тихий край.
Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай…
Поющий замолкает и задумчиво смотрит в сторону леса, потом склоняется над письмом. Вырванные из школьной тетради листки исписаны мелким, но очень четким почерком.
«Моя дорогая и любимая!
Было время, когда мы верили, что расстояние между Москвой и Челябинском неизмеримо. Разлука на таком расстоянии была для нас ужасной.
Прошло только несколько месяцев, и мы теперь должны примириться с расстояниями, которые непостижимы для любого западноевропейца.
Я не могу себе даже представить твое новое место службы и не могу его найти на карте. Во всяком случае, «дан приказ: ему на запад, ей в другую сторону» в полном смысле слова написано для нас обоих. Но вся загвоздка в том, что приказ «На запад!» до нас не дошел…»
Удивительная это вещь – письма!
Благодаря старым, пожелтевшим, истертым на сгибах листочкам мы сможем сегодня узнать, что волновало больше сорока лет назад человека в подмосковном военном лагере, что он думал о своем и о нашем времени, что любил и что ненавидел.
Альберт пишет по-немецки. Он старается писать как можно отчетливее – «для тебя, дорогая, и для цензуры»: в военное время письмо, написанное по-немецки, сразу привлечет к себе внимание.
«Я очень страдаю от нападения фашистов на Советский Союз, потому что я, как немец, чувствую себя ответственным за каждое их преступление. На VII конгрессе Коминтерна Димитров учил нас, что коммунисты всех стран ответственны за то, что происходит в их собственных странах. Понятно, почему мы с таким нетерпением рвемся на фронт!»
Одно стремление, один порыв владеют Альбертом – на фронт!
Но «…мы все еще в лагере, маршируем, стреляем, хотя нам все это уже надоело по горло! Я начинаю опасаться, что фронта мы можем не увидеть до конца войны… Некоторые товарищи говорят: «Что ты мучаешься? Разве не известно во всем мире, что Гитлер – это еще не Германия, а Германия – не Гитлер? Что антифашистская Германия ведет упорную, требующую больших жертв борьбу против Гитлера? Разве не во всем мире известно, что она отправила своих бойцов в Испанию, чтобы сражаться против фашизма?» Я говорю себе, что все это так. Но мы не имеем права успокаивать себя до тех пор, пока последний виновник войны, последний поджигатель не будет выдан порабощенным народам и осужден их суровым и справедливым судом!»
Под этими письмами стоят даты: август, сентябрь, октябрь 41-го! Фашистские полчища рвутся к Москве. Кажется, нет силы, которая способна их задержать. Но Альберт уверен: есть такая сила! Это Красная Армия, советский народ, поднявшийся на Отечественную войну.
До нас дошли одиннадцать писем Альберта к Клавдии. О чем бы он ни писал, это письма любящего, влюбленного. Это письма о любви к жене и к ее Родине, и ненависти к тем, кто принес его любимой и ее стране горе и страдания.
Альберт – Клавдии (3 сентября 1941 г.):
«…Я вспоминаю один наш разговор. Это было по дороге домой с первого концерта, который мы слушали вместе в городском парке в Челябинске. Тогда ты говорила о качествах, которыми должен обладать идеальный, в твоем понимании, мужчина: быть внимательным к жене, уважать, любить ее, быть опрятным в одежде и т. д.
Иногда, вспоминая нашу короткую совместную жизнь, я думаю, что многое во мне должно было тебя разочаровать. Но все же я счастлив, что мы пережили чудесные дни нашего короткого супружества, и надеюсь, что у нас еще многое впереди, когда окончится война…»
Альберт – Клавдии (26 сентября 1941 г.):
«…Я не знаю, получаешь ли ты мои письма и где ты находишься. У меня новый адрес, и только сейчас я посылаю его товарищам, которые остались на старом месте, чтобы они пересылали мне твои письма.
…Ты помнишь, как говорил Вертер: «Тот, кто познал тоску, знает, как я страдаю!» Все это относится и ко мне. Ты мне необходима вся как есть, одних писем мне мало. Но тем не менее я скучаю по твоим письмам, хочу чувствовать твою душу, мнения, мысли… Насколько я тебя знаю, ты должна чувствовать то же самое…»
В том же письме:
…«Как ты живешь? Чем занимаешься? Довольна ли своей работой? Этот вопрос, собственно, излишен, так как ты всегда довольна, когда лечишь своих больных. Есть ли у тебя свободное время, и как ты его проводишь? Поправилась ты или похудела? Ты должна регулярно питаться, а не только пробовать пищу… Пожалуйста, пиши мне чаще и больше. Я здоров, чувствую себя хорошо, ем за троих, курю за десятерых. Хотел бы побыстрее попасть на фронт, а потом через Берлин и Прагу вернуться к тебе…»
Пожалуй, ни об одном периоде жизни Альберта мы не знаем так много, как об этом – от него самого, благодаря его письмам. Он проходит военную подготовку, занимается с товарищами немецким языком, тоскует о жене, в свободные минуты читает, слушает музыку. И все это время он живет напряженной внутренней жизнью. Его личная судьба переплелась с судьбой эпохи. В эти трагические дни он ни на секунду не усомнился, не дрогнул, не потерял веры.
«…Как далеко и точно предвидел Маркс, когда говорил: «Имеются только две возможности развития человечества: социализм или варварство». В третьем поколении после нас, читая о фашистских злодеяниях, никто не поверит, что возможны были подобные вещи.
Речь сейчас идет не только о социализме в Советском Союзе. Речь идет об историческом решении вопроса, который поставил Маркс для всего человечества. И здесь можно и нужно не щадить свою жизнь. Это было бы просто преступлением.
…Ты знаешь, я люблю жизнь, люблю быть веселым, люблю шутить. Меня не мучают мысли о самоубийстве. Но в нашем деле борьба идет не на жизнь, а на смерть. «Социализм – или варварство!» Я себя причислил к социализму! Это мой долг! И свой долг мы выполним, и партию, которая нас воспитала, не опозорим…»
Строки из писем
Только в конце ноября Альберту, наконец, удается получить адрес Клавдии. Его прислали из Челябинска. Наконец-то он может написать ей, зная, что его строки дойдут до адресата.
«…Приказа «На фронт!» мы так и не получили. Нас поставили на зимние квартиры. Не успели мы там поселиться, как меня и ряд других товарищей вызвали к комиссару бригады. После разговора о партийном прошлом и ряда военных вопросов, нам приказали снять форму, которой мы так гордились, и проходить штатскую службу в той же организации. Нас послали в специальную школу, где я и нахожусь в настоящее время…»
Из следующего письма мы узнаем, где был Альберт в самые трудные и трагические дни 41-го года. Фашистские полчища все ближе к Москве. Город объявлен на осадном положении. Все, кто может сражаться, берут в руки оружие. Уходят на фронт коммунистические батальоны. На Восток увозят женщин, детей. И в одном из таких эшелонов – Альберт и его товарищи. «Эвакуироваться!» – таков приказ; школа находилась в тылу.
«…Как мы страдали, когда покидали Москву! Мы стыдились себя, казались себе трусливыми беглецами. А то, что нам говорили люди за время долгого пути нашего эшелона, жгло нас как огонь. Это были не очень приятные и любезные вещи. Но мы должны были молчать, ни одного слова в свою защиту!
…Сейчас все это позади. Мы возвращаемся туда, где идет борьба. Только там сможем доказать, кто мы…»
«…Война принесет нам еще много неожиданностей. Мы недооцениваем фашистскую бестию и их военную машину. В том, что мы победим, я не сомневаюсь. Но победа достанется дорогой ценой. Это будет стоить человечеству целого поколения, а Советскому Союзу – многого из того, что создано за три пятилетки. Ярость охватывает меня, когда я думаю о том, сколько ценного уничтожили эти преступники. И не только в СССР, но во всех оккупированных странах, в самом немецком народе…»
«…Чем были бы мы без нашей партии, которая нас воспитала? Но каждый из нас живет также и своей личной жизнью. У нас с тобой это почти привело к семье. Я говорю – почти, хотя мы официально считаемся семьей. Иногда я спрашиваю себя, не было ли это коротким прекрасным сном? Действительно, вместе мы провели только десять дней. А все, что было раньше и позднее, – это встречи любящих людей на несколько часов.
Ах, Клавдия, как я тоскую о тебе, о нашей совместной жизни! Когда это станет возможным? Спрашивать об этом – значит, задавать два вопроса: когда мы победим, и доживем ли мы с тобой до победы? Но будь уверена, что ты скорее станешь вдовой героя, чем женой труса…»
«…Самое замечательное – это большая победа под Москвой, под Ленинградом и Ростовом… Как это действует на население в Германии, ты даже не можешь себе представить. Нацисты пытаются скрывать правду, но она проникает в страну через тысячи каналов…
Мои друзья, которые работают в лагерях для военнопленных, сообщают интереснейшие вещи. Коричневый туман постепенно рассеивается. И чем сильнее бьется Красная Армия, тем сильнее этот процесс «по ту сторону»…
«…Здорова ли ты? Довольна ли ты своей работой? Какое у тебя окружение? Есть ли у тебя возможность совершенствоваться в своей профессии? Как у тебя с занятиями по хирургии? Думаешь ли ты хоть немного обо мне, или у тебя для этого нет времени?..»
«…Сердечно благодарю тебя, дорогая, за фото. Ты поправилась, товарищ капитан! Теперь я верю, что ты здорова и чувствуешь себя неплохо. Ты выглядишь очень мило в своей форме, товарищ капитан, очень мило!..»
(Через 33 года этот снимок покажут в Берлине младшему брату Альберта, Вернеру, и он напишет Клавдии: «Мне показали твою фотографию, на которой ты снята в военной форме. У тебя на ней очень суровый вид…»)








