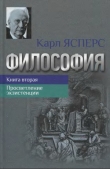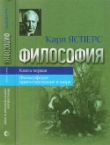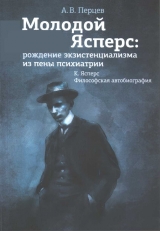
Текст книги "Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии"
Автор книги: Александр Перцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
В случае с девушками все было иначе.
Да, они совершили убийства в состоянии крайнего душевного смятения – в приступе ностальгии. Но сразу же после убийства это их душевное смятение проходило – от одной только мысли, что теперь их ничто не держит на чужбине и, значит, они будут отправлены домой, к родителям. Подумав так, они сразу же успокаивались и переставали чем‑либо отличаться от психически нормальных людей.
Стало быть, речь шла о чем‑то, доныне неизвестном в судебной практике – о временномбезумии, временнойневменяемости. Юристы Германии обратились к университетским психиатрам Гейдельберга с запросом, возможно ли такое. Психиатры ответили, что в случае с ностальгией дело обстоит именно так: психическое расстройство, вызываемое ею, настолько остро и сильно, что человек не может считаться вменяемым во время этого расстройства. Однако это расстройство может быстро и бесследно пройти, и человек снова превратится в практически здорового. (Одну из девочек – убийц, которую суд признал невменяемой в момент совершения преступления, оставили работать санитаркой в психиатрической клинике Гейдельберга).
Все это, естественно, не могло не иметь самого широкого общественного резонанса. Вот живет на свободе убийца, который лишил жизни беспомощного ребенка. Никакого наказания этот убийца не понес, потому что, видите ли, сильно тосковал по родительскому дому. В момент убийства он был невменяем. Но – моментальновыздоровел. Так что теперь этот убийца вполне нормален. Но вот надолго ли? Вдруг он затоскует по дому опять, нынче же вечером? И что же, он опять безнаказанно кого‑то убьет?
Как ни посмотри, а тема для диссертации Карлом Ясперсом была выбрана безошибочно. Ее социальная важность не вызывала ни малейшего сомнения. Диссертант начал именно с того, что подчеркнул общественный резонанс, вызванный преступлениями на почве ностальгии:
«Уже долгое время интерес вызывают совершенные с невероятной жестокостью и безудержной беспощадностью преступления (убийства и поджоги), которые осуществлялись нежными созданиями, юными и добросердечными – девочками, еще совсем детьми. Несообразность деяния и того, кто это деяние совершил, отсутствие мотивов или недостаточная мотивированностъ, и, как следствие, загадочность и непостижимость событий возбуждали сочувствие либо вызывали отвращение. Уже давно некоторых из этих индивидов было принято единодушно признавать слабоумными либо идиотами в моральном отношении. Вызванные незначительными поводами аффекты или слепые импульсы толкали их на преступление. Более ста лет назад, наряду с этим, начали рассматривать – как собственно причину произошедшего – ностальгию. Работа Вильманнса “Ностальгия и импульсивное сумасшествие” снова поставила вопрос о значении этого состояния для совершения преступлений и о его толковании в психиатрии – вопрос, который на протяжении долгого времени оставался без внимания. Поскольку существуют различные точки зрения, притом, что случаи подобного типа вообще не проанализированы в целом, представляется целесообразным собрать воедино и обработать концептуально тот скудный эмпирический материал, который существует в этой области, что, вероятно, позволит внести некоторую ясность в этот вопрос, но, разумеется, не позволит дать его окончательное решение» [85]85
Jaspers K. Heimweh und Verbrechen// Jaspers K. Gesammelte Schriften zur Psychopathologie. Nachdruck der 1. Auflage von 1963. Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo; Hong Kong; Springer‑Verlag. S. 1.
[Закрыть].
Расчет Карла Ясперса при выборе темы был сложен и выверен ювелирно. Настоящий ученый не любит, когда общественная значимость темы чересчур бросается в глаза. То, что привлекает живейший интерес публики, то есть профанов, как правило, не стоит серьезного научного исследования. Пусть они, профаны, судачат о конце света, об инопланетянах, о биополях и прочем. Настоящий ученый предпочтет проблемы более серьезные. Так что Карл Ясперс, начав с актуальности работы, тут же делает поворот на 180 градусов и говорит, что одного интереса публики недостаточно, чтобы выбрать тему для диссертационного исследования. Но ностальгия – вовсе не предмет интереса только профанов. Вот, смотрите, на протяжении веков (!) исследованием этой темы занимались самые серьезные ученые – медики. Так что диссертант отнюдь не выдумал ничего нового и вовсе не гонится за сенсациями. И здесь К. Ясперс демонстрирует просто наивысшее научное смирение и послушание: он заимствует формулировку своей темы у Фердинанда Маака, дословно копируя название его книги «Тоска по родине и преступления» [86]86
В списке литературы к диссертации эта работа приведена без точного указания года выхода в свет: Ferd. Maack: Heimveh und Verbrechen. Berlin ca. 1894 (ohne Zeitangabe).
[Закрыть].
Вот, смотрите, даже формулировку темы придумал не я! Я всего лишь продолжаю исследование, начатое десятилетия назад!
Второй аргумент, призванный доказать научность темы – ссылка на статью научного руководителя К. Ясперса, доктора Вильманнса, которая называлась «Ностальгия или импульсивное сумасшествие» и была опубликована в журнале «Ежемесячник по криминальной психологии и реформе уголовного права». Диссертант набирает еще одно очко за научное смирение – его диссертация представляет собой скромное продолжение исследований уважаемого научного руководителя, главного врача клиники. Правда, больше научную значимость темы доказывать нечем: немецких публикаций о ностальгии как психическом заболевании просто нет. Любой современный ученый легко заметит это по списку литературы, который приводит К. Ясперс в диссертации. Для придания солидности библиографическому списку диссертант включает в него даже… учебники для студентов, а также названия всех работ, которые имеют хотя бы отдаленное отношение к его теме – например, ученые рассуждения о типах женщин – заключенных (зачем они, ведь в диссертации не говорится ни о женщинах, ни о заключенных!?) и статьи о детской преступности вообще. В результате таких манипуляций список использованной литературы получился солидным, в нем 86 названий научных трудов. Но он показывает – на немецком языке про ностальгию написано убийственно мало!
Зато на французском языкесуществуют десятки работ, посвященные ностальгии! Есть даже специализированные исследования: две работы посвящены описанию тоски по родине у солдат во время войны.
И это – третья хитрость Ясперса.
Со времен франко – прусской войны французы воспринимались немцами как соперники во всем. Если что‑то сделано французами, это должны были сделать и немцы, превзойдя французов!
Ностальгия должна быть изучена немцами, потому что этого требует не только актуальность и научная значимость темы – этого требует национальный престиж, национальная гордость Германии! Все это вполне явствует из обзора литературы по ностальгии в диссертации. Почему французы написали о ностальгии в несколько раз больше, чем немцы? Означает ли это, что они испытывают более острую тоску по родине? Нет, разумеется.
Все французские работы написаны после длительных походов наполеоновской армии, во время которых врачи и собрали немалый материал о тоске по родине и ее пагубном влиянии на здоровье. Публиковались эти работы в 30–50–е годы XIX века, то есть со времени их выхода в свет прошло уже более пятидесяти лет. Так неужели же немцы будут и дальше терпеть отставание от французов в этой области? Нет! Проблему ностальгии надо срочно исследовать!
* * *
Итак, выбор темы обоснован.
Теперь надо продуманно выстроить диссертацию.
Человек бесхитростный поступил бы так: он начал бы с описания нескольких случаев – казусов, зафиксированных в историях болезней и в научных публикациях. У самого К. Ясперса было несколько историй болезней, которые сводились к одной формуле: девочки – подростки, отданные работать «в людях» вдали от родного дома, испытывали ностальгию, у них пропадал аппетит, появлялись телесные недомогания и недуги; заканчивалось дело тем, что тоска по родине становилась невыносимой – и они совершали преступления, надеясь, что их отпустят домой.
Итак, простодушный человек на месте К. Ясперса наверняка начал бы с такого конкретного рассмотрения отдельных случаев– казусов, с описания конкретных историй болезни – и попытался бы показать, что ностальгия привела к совершению преступлений. Болезнь – тоска по родине – вызвала соматические изменения, значит, психические состояния могут влиять на соматические, душа способна влиять на тело. Этим философским выводом простодушный человек и закончил бы – и в результате с треском провалился бы на защите.
Почему?
Да потому, что врачи с большим или меньшим интересом выслушали бы описания конкретных историй болезни, но тут же усомнились бы в праве исследователя на широкие обобщения. Положим, из истории болезни следует, что девочка – подросток, отданная «в люди», затосковала по дому и перестала есть. Она похудела, у нее стал болеть желудок. Следует ли из этого общий вывод, что душа может влиять на тело? Где тут причина, а где следствие? Может быть, все наоборот? Девочке не понравилась пища, которой ее кормят «в людях», у нее от этой непривычной пищи начинает болеть желудок, и она начинает тосковать по дому – по той пище, которую готовила мама? Тогда получится, что состояния тела влияют на состояния души, а не наоборот…
Вывод, который сделали бы предвзято настроенные медики– материалисты, был бы однозначным: материалов наблюдений мало, собирались они не только и даже не столько врачами, сколько следователями, так что однозначных выводов делать на основании этого материала нельзя. Конечно, мы должны пристально наблюдать и полагаться на свои наблюдения в каждом конкретном случае. Но вот что касается широких обобщений, то здесь свою фантазию диссертант должен попридержать. Если мы допустим, что душа может влиять на тело, на протекающие в нем физиологические процессы, то нам, чего доброго, придется признать, что болезни тела можно лечить заговорами, молитвами, шаманским камланием. Вот, к примеру, началась у человека ностальгия – и разладилась, как доказывает диссертант, работа желудка. Так, может, излечить его выступлением юмориста, который отвлечет от тоски, или веселой музыкой? От хорошего юмориста, глядишь, и желудок сразу пройдет. Всем, кто несет подобную чушь о возможности влияния души на тело, надо предложить провести элементарный эксперимент: пусть попытаются усилием мысли хотя бы ускорить собственный пульс! Они быстро убедятся в том, что душа на тело влиять не может…
К подобным шуткам и насмешкам вся защита и свелась бы. А наиболее принципиальные медики встали бы и с негодованием удалились бы в знак протеста, не дожидаясь конца защиты.
Все это хитроумный Карл Ясперс, конечно же, сознавал: защитить работу, которая начнется с описания опытных данных и завершится широкими теоретическими обобщениями, не удастся. Не любят медики широкие теоретические обобщения.
Поэтому он решил построить работу иначе.
Он начал с обширного исторического экскурса. Но, проводя такой экскурс, он не просто перечислил работы и точки зрения. Он – исподтишка, втихомолку, не называя кошку кошкой– выделил несколько общих подходов к пониманию ностальгии.
В сущности, все эти подходы сводились к двум основным.
Первый – вульгарно – материалистический– заключался в признании того, что тоска по родине вызывалась какими‑то вполне определенными телесными недомоганиями и недугами, а эти последние возникли, в свою очередь, под действием вполне материальных факторов. В грубом виде такой ход мысли выражает формула, используемая ныне эстрадными юмористами: «Что ты грустный такой? Наверное, съел что‑нибудь». Человек начинает тосковать по родине, когда его желудок расстраивается от непривычной пищи или воды иного химического состава. Ностальгию может вызвать перемена воздуха. И так далее.
Второй подход, который выделяет Карл Ясперс, изучив литературу о ностальгии за несколько прошлых веков, является откровенно идеалистическим.Он сводится к тому, что именно тяжелые психические переживания, связанные с тоской по родине, вызывают у человека телесные заболевания. Стоит снять психическое напряжение, как телесные заболевания стремительно проходят. Причем проходят быстро, и проходят в том же климате, с той же водой и с пищей того же химического состава.
Хитроумный, как Улисс, Карл Ясперс постоянно делает вид, что он сам всего лишь регистрирует мнения медиков прошлого, сохраняя полную объективность: он не отдает предпочтения ни первому, ни второму подходу, будучи одинаково беспристрастным при их описании. Но подбирает диссертант такие примеры из медицинской литературы, что никаких сомнений не остается: первый, вульгарно – материалистический подход, несостоятелен и смехотворен, а второй подход – признание приоритета психического над соматическим в некоторых экстремальных жизненных ситуациях – единственно верен.
Таким образом, диссертант незаметно превращает исторический раздел (изложение мнений медиков прошлого) в теоретический: он окольными путями подводит к теоретическому, обобщающему выводу, не формулируя его и не выставляя его на открытое обсуждение. Этот теоретический вывод, который буквально напрашиваетсяуже в самом начале диссертации, состоит именно в том, что и требуется доказать: состояние души может повлиять на состояние тела. Но возможные критики даже не успевают толком понять, что именно доказывает диссертант, ведь хитроумный Ясперс, демонстрируя мягкость психиатра, уже отступил, избегая всякого нажима и насилия. Он не развивает и не закрепляет успех. Он знает, что восстановить против себя человека легче всего, одержав над ним верх в теоретическом споре. Поэтому он не настаивает на доказанном тезисе. Разумному достаточно, а неразумный все равно не поймет.
Чтобы успокоить сообщество ползучих эмпириков и вульгарных материалистов, Карл Ясперс засыпает их бездной конкретного материала – подробнейшими историями болезней и судебными протоколами. Готовый возмутиться против теоретических выводов, медик потихоньку успокаивается, слушая монотонное изложение фактов во всей их подробности. Ему начинает казаться, что не было никакой теории в первой части – так, имел место всего лишь исторический экскурс с забавными выводами, но ведь все прошлое точных наук забавно. Только настоящее их серьезно, а будущее прекрасно. Зато прошлое – один сплошной анекдот: всякие там эфиры, теплороды, учения о самозарождении паразитов из грязного белья и тому подобное. В общем, можно не принимать всерьез теорию о том, что состояние души может влиять на состояние тела. В прошлом ученые выдумывали и еще более смешные вещи. Жаль, конечно, что диссертант потратил столько времени на рассмотрение исторической чуши и ерунды. Но потом он исправился и стал рассматривать реальные факты. Он заслуживает присвоения искомой степени.
Чтобы убедиться в том, что хитроумный план диссертанта Ясперса, описанный нами, действительно существовал, достаточно сопоставить первую и вторую части диссертации. Первая часть посвящена истории психиатрии и, в частности, истории рассмотрения ностальгии в медицинской литературе. В принципе, ее одной было бы вполне достаточно – во всяком случае, в зрелые годы К. Ясперс писал свои работы именно так: история мысли плюс теоретическое осмысление достигнутых результатов. Что нужно еще? Зачем добавлять к этому вторую часть – приводить во всех подробностях душераздирающие «истории болезней», больше напоминающие примитивные и скудоумные протоколы судебных заседаний? Так ли они ценны, эти эмпирические факты? Пусть читатель решит сам, добавляют ли сенсационные истории болезней девочек – убийц что‑либо существенное к тому, что Карл Ясперс уже изложил в первой части диссертации, где осуществлен экскурс в историю психиатрической мысли и осмыслению его результатов? Или же этот сенсационный, но малоценный материал призван всего лишь смягчать впечатление от первой части диссертации, где столь убедительно опровергается медицинский вульгарный материализм и ползучий эмпиризм?
Девочки – убийцы с хорошими задатками: о ценности эмпирического материала в психиатрииНадо признать, что человек двадцать первого века, который видит на телеэкране сотни (!) убийств в месяц, конечно, в значительной степени утратил остроту их восприятия. Но даже его способны покоробить описания того, как одни дети убивают других детей. А представим, как были восприняты подобные сообщения читателями девятнадцатого века, в котором убийства еще не были массовыми– ни в жизни, ни на экранах!
Тот, кто представил себе это, легко согласится, что материалы из второй части диссертации Карла Ясперса способны отвлечь кого угодно от чего угодно. Они не просто потрясают – они заставляют содрогаться, негодовать, испытывать ярость и сострадание одновременно. И при этом они написаны строго научным, бесстрастно – протокольным стилем. Надо быть гениальным писателем, чтобы написать трагедию в протоколах. Но некоторым врачам, которые становятся писателями, это блестяще удается. Многие рассказы А. П. Чехова напоминают истории болезни. У него, кстати, тоже есть страшный рассказ «Спать хочется» – про изнемогающую от усталости девочку – няньку, которая убивает своего подопечного младенца, чтобы вздремнуть хотя бы ненадолго. Но там причиной всему – не ностальгия, а дикая усталость, вызванная беспощадной эксплуатацией.
Почитаем же истории болезни, которые Ясперс приводит во второй части диссертации, не переставая задавать себе при этом такие вопросы: «В какой мере это психиатрия?» и «В какой мере эти истории ценны для психиатрии?» Естественно, нам придется при этом привести эти истории болезни во всей полноте, без купюр, чтобы не было подозрений в том, что было опущено что‑то ценное.
Несколько позднее, в работе о бреде ревности, К. Ясперс счел нужным оправдаться за чересчур подробные истории болезней, которые он приводит. Он сказал, что в психиатрии без таких подробных историй болезней нельзя: один врач просто не сможет помочь другого. Почему – скажем позже. Не будем забегать вперед. Просто попросим читателя набраться терпения.
Вот история болезни той девочки – подростка, экспертизу вменяемости которой проводил учитель К. Ясперса, доктор Вильманнс.
«Аполлония С., третий ребенок в семье каменотеса, родилась в 1892 г. У нее восемь братьев и сестер в возрасте от полутора до восемнадцати лет. Родители живут в большой бедности, зарабатывая поденной работой. Отец, по собранным о нем сведениям, иногда выпивает, мать однажды совершила кражу, но больше ничего порочащего о них не рассказывают. Жена давно не совершает правонарушений, муж не является законченным пьяницей и выполняет свои обязанности по дому. И, тем не менее, воспитание детей характеризуется как неудовлетворительное.
Аполлония закончила обучение в школе, пройдя все классы. Сведения, которые сообщают о ней учителя и священники, несколько различаются. Одни считают, что она была достаточно хорошей ученицей со средними способностями, другие – что ее способности были выше средних, третьи (например, викарий) – причисляют к худшим ученицам. Но все в один голос неоднократно жалуются на недостаточное ее прилежание, даже лень. Однако учитель, который учил ее семь лет, говорит: “Девочка всегда была прилежной, и я имел все основания быть довольным ею”.
Она всегда была стеснительной и сдержанной в поведении; если ее наказывали, проявляла обидчивость и строптивость, была очень чувствительна к порицаниям и дольше, чем другие дети, оставалась замкнутой и надутой. Однако не было оснований говорить о своенравии и упрямстве.
Будучи старшеклассницей, она присматривала за младшими братьями и сестрами, которые были к ней очень привязаны. В конце концов, ей пришлось, по существу, в одиночку вести домашнее хозяйство, поскольку ее родители все чаще уходили на заработки.
Родные и близкие в один голос называют ее тихой и скромной, старательной и послушной; за ней никогда не замечали склонности ко лжи, нечестности, проявлений жестокости или стремления мучить братьев и сестер» [87]87
Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 34.
[Закрыть].
Сделаем паузу и поразмыслим над сказанным. Кто мог бы написать этот текст? Исключительно психиатр в своей научной диссертации? Конечно, нет. Его мог написать участковый, мог написать завуч, мог написать сотрудник органов надзора и опеки. Ничего специфически медицинского в этом описании нет. Едва ли оно дает что‑то особо ценное для психиатрической науки в понимании коллег Ясперса по Гейдельбергской клинике, а уж тем более не дает ничего для понимающей, экзистенциалистской психиатрии, которая углубляется во внутренние переживания пациентов.
Описываются только внешние обстоятельства. К тому же суждения различных людей о больной в детстве различаются, иногда даже исключают друг друга. Единственное, на что мог бы обратить внимание психиатр, это отсутствие дурной наследственности и жестокости к детям, которая проявлялась бы ранее. Родители не были преступными типами (о которых так любили рассуждать в девятнадцатом веке). Маленьких детей девушка не обижала – наоборот, заботилась о младших в семье, хотя ей приходилось тяжко: она училась в школе, а родители подолгу отсутствовали. В общем, напрашивается вывод: только внезапные сильные переживания – тоска по родине – заставили девочку совершить ужасное преступление. Дальнейшее описание жизни девушки призвано укрепить этот вывод.
«Когда в 14–летнем возрасте Аполлония закончила школу, нищета в родительском доме заставила ее сразу же пойти в услужение к чужим людям. Она пошла охотно и обрадовалась, что нашлось такое место работы. Семья супругов Антон была состоятельной, там ее приняли хорошо. Питание и условия проживания были значительно лучше, чем те, к которым она привыкла. Трое детей были настроены к ней дружелюбно, она пользовалась их доверием. Обязанностей у нее было не больше, чем в родительском доме.
Несмотря на все это, с первых дней работы служанкой девушку охватила сильная тоска по родному дому, она тосковала по своим родителям и даже по жизни в бедности. Когда ушла мать, которая ее привела, она разрыдалась, и все последующие дни ее видели плачущей.
Скоро она стала настойчиво просить, чтобы ее отпустили домой. Супруги, на которых она произвела хорошее впечатление, делали все, чтобы скрасить ей жизнь. С ней обращались хорошо, жена пыталась порадовать ее пирогами, муж обещал купить ей пару новых ботинок, если она будет вести себя хорошо. Но в ответ на каждое обращение к ней она начинала плакать или не отвечала, никак не реагируя.
Вскоре она стала работать спустя рукава. Она пренебрегала работой, не заботилась о детях, сделалась угрюмой, неприветливой, все вызывало у нее отвращение. Правда, она делала то, что ей было поручено, но иногда – только после неоднократных требований; она никогда не выполняла работы с радостью и должным прилежанием. К детям она не проявляла особого интереса, не играла с ними, никто не видел, чтобы она смеялась и шутила с ними. Оставшись без надзора, она бездельничала.
У нее был плохой аппетит; иногда, когда семья садилась за стол, она плакала в сторонке и отказывалась съесть что‑нибудь. Приходилось заставлять ее садиться за стол и есть. Иногда она совсем отказывалась кушать и ела лишь тогда, когда мать семейства позднее давала ей что‑нибудь со стола с собой.
Работу служанкой она совмещала с учебой в средней профессиональной школе. Учителя не замечали, чтобы у нее был печальный и несчастный вид. Одной из одноклассниц она казалась грустной. По окончании школьных занятий она не искала общества соучеников. Другая одноклассница считает Ап. заносчивой, поскольку она чересчур много смеялась над ее грамматическими ошибками и дразнила ее.
22 апреля, в первое воскресенье после начала работы служанкой, которое пришлось на 17 апреля, она отправилась домой к родителям. Когда хозяйка разрешила ей это, она очень обрадовалась и засмеялась, чего позднее не случалось. Придя домой, она была чрезвычайно рада, целовала и прижимала к сердцу младшего братика, потом принялась плакать, а когда выплакалась, сказала, что никак не может освоиться в чужом доме и умоляла мать не отправлять ее обратно. Мать наотрез отказала ей в этом, отец отказал тоже; Ап., подчинилась неотвратимому, вспомнив, как ее брата Евгения неоднократно пороли за то, что он, тоскуя по дому, убегал с места, где служил. Она прекратила плакать и ушла, не прощаясь. Мать догнала и немного проводила ее.
Вечером она услышала от матери семейства Антон, что лекарство для младшего мальчика содержит яд. Аптекарь велел поэтому давать ему не более одной ложки; две ложки могут содержать смертельную дозу. В следующую среду (25 апреля) семья отправилась на полевые работы. Она осталась дома одна с ребенком. Ее снова охватила сильнейшая тоска по дому. Тогда ей в голову пришла мысль: “Если я сейчас дам А. больше двух ложек лекарства, он умрет, и меня снова отпустят домой”. Чтобы не оставить пятен на одежде ребенка, она положила ему под подбородок тряпки, а затем дала ему несколько столовых ложек лекарства. Тряпки, испачканные пролившейся жидкостью, а также бутылку она тщательно спрятала. Но ее намерение убить ребенка не осуществилось. Лекарство явно не повредило.
Хозяйка уже заметила, что Ап. после первого посещения родительского дома стала намного печальнее, а потому сказала ей, что она может возвращаться к родителям, если не может прижиться. Это предложение она повторила спустя несколько дней. Оба раза она не получила никакого ответа.
В следующее воскресенье (29 апреля) Ап. окликнула мужчину, который направлялся в ее родные места, и попросила его передать родителям просьбу, чтобы кто‑нибудь из них навещал ее каждое воскресенье. В тот же день пришла ее сестра Текла (санитарка), которая увещевала ее и утешала, говоря, что ей тоже рано пришлось покинуть дом, что каждый должен привыкнуть к своей работе. После этого Ап., несомненно, приободрилась, но продолжалось это недолго. В следующее воскресенье (6 мая) на просьбу отпустить ее домой она получила отказ. Она была заметно огорчена, но промолчала и не высказала сожаления. Настроение у нее было по– прежнему плохим. Однажды она попросила взять ее с собой на полевые работы, потому что дома, оставаясь одна, она слишком сильно тоскует по дому. В следующие недели, судя по внешнему виду, ее состояние, скорее, улучшилось; когда тоска по дому стала безнадежной, внезапно снова появилась мысль избавиться от младшего ребенка – чтобы нужды в ней больше не было и ее отправили домой. Будучи убеждена в том, что и в следующее воскресенье ее не отпустят домой, она в субботу вечером решила, что ночью бросит ребенка в реку, чтобы в воскресенье ничто не мешало ей отправиться в родительский дом. С этой мыслью она решила отправиться спать в половине девятого и быстро заснула. Пробудилась она, когда уже светало. Она тотчас же поднялась, намереваясь исполнить задуманное, надела нижнюю юбку, рабочую блузку, верхнюю юбку и чулки, осторожно, беззвучно спустилась по лестнице и через кухню и кладовую прокралась в спальню хозяев. Не разбудив их, она взяла мальчика из детской коляски и вышла на улицу через гостиную, умывальную комнату, хлев и склад кормов. Все двери она оставила открытыми; по ее словам, ребенок не спал, глаза его были открыты, но он не закричал. Она быстро побежала с ним по мосту через реку, с крутого на пологий берег, и там бросила в воду. Не оборачиваясь, она поспешила тем же путем обратно, разделась и легла в постель.
Спустя четверть часа хозяин дома взбежал по лестнице, крича, что ребенок пропал. Она снова оделась и приняла участие в поисках ребенка, была спокойна и ничем не выдала себя. Немедленно после этого, без четверти четыре утра отец ребенка явился к полицейскому и сообщил, что ночью был похищен его младший сын. Поскольку в ходе дальнейшего расследования подозреваемых не было выявлено, предположили, что от ребенка избавился один из родителей. На следующий день они были взяты под стражу. При их задержании Ап., которая должна была остаться с детьми, расплакалась. Убийство ребенка вызвало в деревне очень большой резонанс, священник совершил молебен о разоблачении преступника.
Но лишь три дня спустя Ап. созналась на повторном допросе в содеянном, рассказав то, что было изложено выше. Она добавила: “Я знаю, что совершила очень плохое дело и что из‑за моей лжи хозяева оказались в тюрьме. Я призналась бы в преступлении сразу, в понедельник, но боялась, что меня арестуют. Я вполне сознавала, что ребенок в реке погибнет, но я любой ценой хотела попасть домой. Мне известно, что людей убивать нельзя, я знаю десять заповедей. Я не знала, что меня приговорят за это к смерти – знала только, что посадят в тюрьму”. Поначалу она отрицала, что совершила попытку отравления, и придумала, будто проткнула пузырек штопальной иглой, и лекарство вытекло, так что пришлось вытирать его тряпкой. Позднее она созналась и в этом поступке.
Супругов Антон немедленно освободили, Ап. была арестована. Тем временем, в реке был найден труп мальчика.
Тоска по дому, которую оттеснили на задний план ужас от содеянного, переживание несчастья, которое она вызвала, страх разоблачения, и, наконец, арест, постепенно окрепла снова, но не достигла предельной остроты. Находясь в тюрьме, она первое время была очень подавлена и много плакала. Когда ее спрашивали о причине слез, она говорила: “Я хочу домой”, к этому она ничего не добавляла. Вскоре ей полегчало. Обязанности, возложенные на нее, она выполняла послушно и прилежно.
Непостижимость данного казуса, противоречие между добродушным характером девушки – подростка, ее детским складом ума и жестокостью преступления привели к тому, что юристы обратились с запросом к окружному врачу, чтобы он вынес заключение по данному делу. Тот переадресовал запрос в Психиатрическую клинику Гейдельберга» [88]88
Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 34–36.
[Закрыть].
В сущности, ни о какой психиатрии речь пока не идет. Это материал, предоставленный юристами различного рода, от следователей до тюремных надзирателей. Но идет ли речь о психиатрии в истории болезни, составленной врачами? Продолжим чтение.