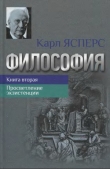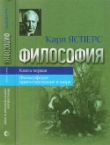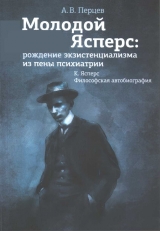
Текст книги "Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии"
Автор книги: Александр Перцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Ее учитель показал, что она проявила мало прилежания, внимания и сообразительности, причиной чему является ее неважный слух. Она всегда была тихой, необщительной, ладила со своими одноклассницами, но во время молитвы была невнимательна. Неправды она никогда не говорила. Отличаясь хрупким здоровьем, она с детских лет часто имела проблемы с желудком. Пять лет назад у нее было гнойное воспаление уха, которое и стало причиной тугоухости; следствием его являются продолжающиеся выделения из уха. Проведенная экспертиза исключила врожденное слабоумие. Обвиняемую признали невменяемой на момент преступления вследствие сильной тоски по дому на фоне соматической болезни и детской стадии развития, о приговоре, который вынес суд, не сообщается» [95]95
Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 40ff.
[Закрыть].
Как видим, ничего нового нет. Все те же жуткие девочки с «хорошими душевными задатками». Ностальгия – без внешних проявлений. Описание телесных недугов – без всякой связи с чем‑либо: они не могут быть причиной убийства либо причиной ностальгии. Никакой психиатрии.
Таковы же и истории болезней поджигательниц,почерпнутые диссертантом К. Ясперсом из литературы. Достаточно одной, чтобы получить представление обо всех.
«Рихтер, 1884. О юных поджигателях. Юлиане Вильгельмине Кребс было 14 лет. Из семи братьев и сестер в ее семье одна сестра была хромой, один брат глухонемым и полностью парализованным. Перед тем, как родить ее, мать была так сильно напугана собакой, что даже на некоторое время слегла. С раннего детства девочка была маленькой, слабой, страдала золотухой. Лицо вытянутое, бледное, низ живота вздут, язык обложен. До 8 лет Enuresis nosturna. С детства была склонна к болезням, часто страдала головной болью, в особенности после физических усилий. Шейные железы часто были увеличенными, часто страдала острой болью и шумом в ушах, были выделения из ушей. В школе часто замечали, что она становилась раздражительной, кровь у нее приливала к голове. Часто не могла посещать школу из‑за головной боли. На момент совершения преступления ее физическое развитие находилось еще на детской стадии: срамные и подмышечные волосы отсутствовали, грудные железы не развиты, менструаций нет.
Родители ее были порядочными, много трудившимися людьми, заботившимися о ее воспитании. Их бедность не позволяла приглашать к дочери врача и лечить ее. Последние два лета перед тем, как поступить на работу прислугой, она пасла коров.
Она была любимицей родителей, братьев и сестер. Они описывают ее как миролюбивую, кроткую и послушную девочку, ни к кому не питавшую злобы. Школьные учителя и священник хвалят ее в один голос. Умственные способности в норме. Знания, требуемые в школе, у нее есть, но разум ее не особенно развит. В умственном отношении она – большой ребенок.
За четыре дня до совершения преступления она начала работать няней в доме, который находился в часе ходьбы от ее родной деревни. На работу она отправилась в невеселом настроении, но не противясь. Она впервые оказалась вне родительского дома и быстро почувствовала разницу: у чужих людей с ней обращались более сурово и требовательно, все время подгоняли, требуя все “делать поживее”. Хозяйка не приняла ее привычку все обговаривать и делиться впечатлениями, она резко обрывала ее. К тому же вскоре после поступления на работу чужие люди сказали ей, что она нашла себе плохое место. Наконец, она совершенно не привыкла быть одной: раньше ей целый день напролет приходилось проводить время в окружении множества сестер и братьев, а ночью она спала в кровати вместе с одной из сестер. Из‑за всего этого она была выбита из колеи, стала испытывать страх и тоску по дому. Она стала опасаться, что ее страх и тоску по дому заметят. Наедине с собой – когда ходила по воду или вечером, ложась спать – она давала волю слезам. Чтобы скрыть это, она промывала глаза холодной водой. У нее пропал аппетит. Накануне пожара она ела так мало, что хозяйка спросила ее, не боится ли она чего‑либо. Она дала примечательный ответ: “Нет, мне не страшно, на воскресенье мне хотелось бы пойти домой”. Позднее она показала, что, конечно, испытывала сильный страх, но стыдилась признаться в этом. Сразу после этого ей пришлось выйти и выплакаться. Свидетели, которые показали себя способными зафиксировать симптомы подавленного настроения, на прямой вопрос о том, существовала ли тоска по дому у девушки, утверждали, что ничего подобного не замечали.
В день преступления – на четвертый день после начала работы – девочка ждала свою мать, которая должна была принести ей сундучок для вещей. Сказав об этом своей хозяйке, она получила резкий ответ, что сундучок ей ни к чему. Продолжая ожидать прихода матери, она отправилась по воду в полдень, и вдруг отчетливо услышала голос матери. Она остановилась и оглянулась, а когда поняла, что обманулась, заплакала навзрыд. Пребывая в таком настроении, она в тот же день пришла к мысли о поджоге. Мысль посетила ее внезапно и полностью завладела ею; ей сразу же стало ясно, как все надо сделать. Ею двигало стремление избавиться от страха, она не знала, как иначе можно помочь себе. Эта мысль никак не оставляла ее, и через три часа она осуществила задуманное. Она бросила тлеющий уголек туда, где, как ей было известно, лежал корм для скота, сухой и горючий. Потом она, по ее словам, подумала: “Загорится или нет, все равно”. О возможных последствиях своего поступка, о его преступном характере, об опасности его для жизни ребенка, который лежал в верхней комнате, она не подумала. Совершив свое деяние, она продолжила заниматься домашней работой. Когда начался пожар и поднялся шум, она помогала спасать имущество. Когда ей устроили допрос, она отрицала, что устроила пожар. После того, как она пришла домой, уволенная сразу же после пожара, она заболела. У нее совсем пропал аппетит, она жаловалась на боли в голове и в суставах, ей пришлось несколько дней пролежать в постели, хотя накануне поступления на работу и во время ее она не чувствовала себя больной. Во время допроса, который ей учинил жандарм, она созналась в преступлении после упорного отрицания. После ее ареста допрос неоднократно откладывался из‑за ее плохого самочувствия: она чувствовала сильный шум в ушах, “словно грохочет гроза”. Ее соседка по камере показала, что девочка однажды подскочила и закричала: “Вот они бегают вокруг, сволочи!” В другой раз она закричала:
“Господи, что это был за треск у меня в ушах?” В тюрьме она перестала чувствовать прежний страх и тоску по родине. Она проявила раскаяние. Уже тогда, когда вспыхнул огонь, она перепугалась и почувствовала угрызения совести. Позже она признала, что с ее стороны это был плохой, очень плохой поступок, и она никогда в жизни больше не совершит такого» [96]96
Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 47 f.
[Закрыть].
И вот, наконец, титанический труд закончен – в диссертации приведен обширный «материал наблюдений» из историй болезней семи девочек – подростков, совершивших от ностальгии убийства и поджоги.
О ценности этого «материала наблюдений» самого по себе мы уже составили свое представление.
Какие же выводы сделал на его основе К. Ясперс?
Выводы эти крайне осторожны, размыты и противоречивы. Конечно же, диссертант ни на чем не настаивает и ничего не провозглашает. Он заканчивает диссертацию сомнениями, как и подобает любому ученому, который осмысляет интересный, но недостаточный материал.
Сомнения диссертанта должны убедить ученый совет, что он вовсе не отвлеченный теоретик и уж тем более – не философ. Он ученый – медик, который привык работать с наблюдаемыми фактами. А если эти факты осмыслять хорошенько, то во всем приходится сомневаться.
Приведенные истории болезней показывают, что ностальгия вовсе не всегда была единственной или главной причиной душевного расстройства, которое привело к преступлению. Наряду с тоской по родине, такими причинами у девочек – подростков могли выступать инфантилизм, кризис пубертатного периода, соматические заболевания или психопатическая предрасположенность, слабоумие или моральная ущербность, а также недовольство обращением хозяев.
Строго говоря, на этой констатации настоящий экспериментатор мог бы и закончить, расписавшись в своем бессилии: достоверных данных у него недостаточно, получены они нестрогим методом, порой – без участия врача. Таким образом, мы не можем судить о ностальгии научно, то есть строго на основании опыта, зафиксированного в историях болезней. Вот какой вывод единственно возможен. Но стоило ли ради него писать диссертацию?
Да, у девочек – подростков могли быть разные причины для возникновения ностальгии, и в результате диссертационного исследования ничего определенного доказать не удалось. Но и на этом Карл Ясперс не останавливается. Он еще больше запутывает вопрос, который собирался обсуждать в диссертации. Тема ее – «Тоска по родине и преступления». И вдруг диссертант Ясперс принимается говорить о… детстве как причине ностальгии.
Теперь ностальгия рассматривается уже как нечто возрастное, и диссертант, наряду с пересказом конкретных историй болезней девочек – подростков, вдруг принимается обсуждать вполне философскую концепцию, объясняющую возникновение ностальгии в детстве. Построена эта концепция вовсе не на конкретном материале, а на метафизических фантазиях:
«Уже Шлегель, Цангерль и Эссен великолепно описали психологическое развитие ностальгии. Ребенок, как дитя природы, полностью един со своей средой. Он слит с нею до неразличимости. Он полон душевных переживаний, которые возникли не из его собственного мышления, не из внутренних его переживаний и их переработки, а из эмоций, порожденных впечатлениями от окружающего. Это окружающее (в первую очередь, семья) еще неотделимо от его личности, еще выступает непременной составляющей его личности; он абсолютно несамостоятелен и лишается опоры, будучи изъятым из этого окружающего. Он тогда “подобен растению, вырванному из почвы, в которой оно было укоренено”. Когда ребенка, находящегося на той стадии развития, на которой индивидуум еще образует единство со средой, внезапно – как это происходило в большинстве случаев – отрывали от родителей и отправляли “в люди”, он, естественно, оставался без какой‑либо опоры. Его мир – это его близкие, его родная деревня. Вся его жизнь построена на чувствах, которые вызваны в нем этим окружением. Это – единственное, что есть в нем. В его душе не появилось еще ничего, кроме любви к родителям, братьям и сестрам; другие люди – как и иное окружение – абсолютно лишены ценности для него. Поэтому он, под влиянием соответствующих импульсов, способен легко убить ребенка, который не может вызвать в нем каких‑либо чувств, поджечь дом, который для него ничто. Если бы в предшествующем его окружении появилось что‑то новое, он вполне был бы способен ассимилировать это новое. Но при избытке нового и при совершенной оторванности от старого он теперь совсем беспомощен, лишен всякой опоры; им утрачено все самосознание, которое имело основой своей связанность с окружающим. Новое не вызывает в юном существе никаких чувств, все ему безразлично. Им овладевает чувство, что все потеряно. Его охватывает безутешное горе – печаль, которую он считает непреодолимой. <…> Это хорошо описывает Ратцель: “Все его существо было залито слезами, мир стал таким однообразным и одноцветным, таким безразличным”. Это – феномены, сопровождающие депрессивные расстройства, притупление чувств. Безразличие к окружающему усиливается, преодолеть его совершенно невозможно вследствие депрессии. Дома ребенок снова обрел бы свою прежнюю внутреннюю жизнь чувств, здесь же он бесчувствен, не испытывает в душе ничего, кроме тоски и прочего, связанного с его мыслями о родине. Аполлония была равнодушна к детям, не играла с ними. Ева Б. не проявляла настоящего интереса к ним и т. д. Однако о первом из случаев Хеттих сообщает, что девушка очень любила обоих детей, и те ее любили – доказательство того, что представленное схематическое описание применимо отнюдь не ко всем случаям и иногда допускает некоторые отклонения» [97]97
Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 69 f.
[Закрыть].
Здесь уже фантазия пирует вовсю, не оглядываясь ни на какие истории болезней. Почему диссертант вдруг решил, что ребенок – это «дитя природы», почему он больше, чем взрослый, един со своей средой? Почему только ребенок испытывает тоску по родине, поскольку он «подобен растению, вырванному из почвы, в которой оно было укоренено»?
А как же быть с поговоркой «Старое дерево не пересаживают?». Старик еще больше привязан к тем местам, где прошла вся его жизнь. Ребенок же быстро знакомится с новыми друзьями – они найдутся, стоит его на несколько минут оставить на «чужой» игровой площадке. А найдет ли новых друзей так быстро старик?
В общем, по мере приближения к концу диссертационного исследования К. Ясперса, оказывается, что выводы из него следуют все более и более неопределенные. Если надо доказать, что изучение ностальгии, начинающееся с эмпирического материала, с разбора конкретных историй болезней, ничего не даст в отсутствие теории, то конец диссертации Ясперса дает наилучшее тому доказательство. Более путаных и неоднозначных результатов достичь попросту невозможно. Начать в психиатрии с эмпирии и закончить теорией нельзя. Так стоило ли писать диссертацию ради этого безрадостного вывода
Глава VI. Тоска по родине без преступлений: что с самого начала хотелось сказать врачебному миру
Нужно ли психиатру читать книги?Несмотря на слабость итоговых выводов, диссертация Карла Ясперса выполнила возложенные на нее задачи; она, помимо прочего, доказала психиатрам, что им следует читать книги, ине только книги по психиатрии.
Да, это пришлось доказывать специально, потому что в большинстве своем психиатры времен молодости Карла Ясперса полагали, что читать книги не стоит (и сегодня многие из них держатся того же мнения). Психиатры вообще не очень высоко ставят теоретические обобщения, предпочитая полагаться на свой «живой опыт», обретаемый в индивидуальном общении. Противниками чтения книг были не только рядовые врачи, но и светила, возглавлявшие клиники. Одним из таких светил был руководитель университетской психиатрической клиники, куда пришел работать К. Ясперс – профессор Ф. Ниссль. Ясперс красноречиво пишет об этом в «Философской автобиографии»:
«Он (Ниссль. – А. П.) настолько был удовлетворен моей диссертацией “Тоска по родине и преступления”, что оценил ее высшим баллом и пошел навстречу моему желанию работать у него в клинике. Первый наш разговор с глазу на глаз, когда я выразил такое желание, был краток. В ответ на мою просьбу он спросил: “Хорошо, а чем именно вы хотели бы заниматься?” Я сказал: “Первые недели я собираюсь провести в библиотеке, чтобы сориентироваться, чем можно заниматься вообще”. Он удивленно посмотрел на меня и сказал, как отрубил: “Ну, если вам угодно заниматься такими глупостями – извольте”. Я был просто потрясен и уничтожен таким ответом. В бешенстве я хотел было отказаться от работы в клинике, но поразмыслил и решил так: “Это – заслуживающий уважения исследователь. Мне следует простить его за то, что он излил свой гнев на молодого человека. Клиника его уникальна. В Германии другой я не найду. Тут на карту ставится вся моя судьба. Надо смирить свою гордыню”. Так началась моя работа. Ниссль предоставил мне полную свободу, слушал мои научные доклады и как‑то сказал одному из ассистентов: “Жаль Ясперса! Такой интеллигентный человек, а занимается сплошной ерундой”. Когда я однажды из‑за своего болезненного состояния опоздал к обходу, он приветствовал меня так: “Но, господин Ясперс, как бледно вы выглядите! Вы слишком много занимаетесь философией. Красные кровяные тельца этого не выносят”» [С. 228].
Такие подначки не могли сбить К. Ясперса с избранного пути. Он считал, что психиатрия должна стать наукой, сочетающей практику с теорией. Будучи потомком крестьян, торговцев и банкиров, К. Ясперс рассуждал просто: наука без теории – неэкономная трата сил. Ее знания бесполезны, потому что она может только описывать отдельные случаи, которые именно в таком виде никогда больше не повторятся. А пустой траты сил и времени К. Ясперс не мог себе позволить. Время жизни приходилось экономить…
Ясперс пришел к выводу, что наука без теории неэффективна, наблюдая за своими коллегами – психиатрами со стороны. Его взяли в клинику ассистентом – волонтером и нагружали не в полную силу, поскольку состояние здоровья не позволяло ему нести нагрузку врача [98]98
См. об этом подробнее главу 2 «Психопатология» в «Философской автобиографии» [С. 217–223].
[Закрыть]. Коллеги были погружены с головой в свои повседневные хлопоты, им некогда было анализировать свою врачебную деятельность; Ясперс, у которого было не в пример больше свободного времени, наблюдал за их работой – и видел бесплодность усилий, вызванную, во многом, недоразвитостью теоретического мышления в психиатрии. Коллеги были умными и квалифицированными специалистами, но вот перейти к серьезным научным размышлениям все никак не могли.
Утро в клинике начиналось, как водится в больницах, с обхода – каждый врач представлял своих больных коллегам. Происходило живое обсуждение наблюдаемого пациента. В ходе такого обсуждения назревали какие‑то обобщения, намечались какие‑то элементарные теоретические понятия. Их увлеченно продолжали обсуждать за совместным обедом. Но… к утру все эти понятия забывались – и на следующем обходе все начиналось с чистого листа.
К. Ясперс пишет об этом с нескрываемой досадой:
«Когда я присутствовал на регулярных представлениях больных и дискуссиях в кругу врачей, мне порой казалось, что им постоянно приходится начинать с нуля. Каждый конкретный случай подводился под несколько жалких обобщающих понятий. А потом все напрочь забывали сказанное ранее. Всякий раз, как я испытывал удовлетворение от того, что удалось изучить какой‑то феномен, оно соединялось с ощущением, что вперед продвинуться не удалось. Возникало чувство, будто я живу в мире, где существует необозримое множество разнообразных точек зрения, которые можно брать и в любой комбинации, и по отдельности, но все они до невероятия просты и бесхитростны. “Психиатры должны научиться мыслить”, – заявил я как‑то в кругу своих коллег – врачей. “Надо будет поколотить этого Ясперса”, – дружески улыбаясь, сказал в ответ Ранке» [С. 221].
Не обнаружив психиатрической теории в собственной клинике, К. Ясперс и решил отправиться в библиотеку, чтобы обратиться к книгам и статьям психиатров. (У его коллег, ежедневно занятых больничной рутиной, времени сидеть в библиотеке не было). Вывод, к которому пришел Ясперс после чтения, был неутешительным:
«Освоенная мною литература по психиатрии, изданная более чем за сто последних лет, была необыкновенно обширна, но, как оказалось, содержала главным образом пустые, ни на чем не основанные рассуждения. В этой куче попадались и жемчужные зерна – когда кто‑нибудь из авторов излагал результаты реальных наблюдений достаточно ясно и таким образом, что, столкнувшись с данным феноменом в будущем, его можно было однозначно распознать. Часто об одном и том же говорилось совершенно различными словами, преимущественно неопределенными. Каждая из школ имела свою собственную терминологию. Казалось, что разговор идет на совершенно разных языках, местные же диалекты этих языков существовали в каждой клинике. Создавалось впечатление, что единой, объединяющей всех исследователей, научной психиатрии не существует» [С. 221].
Это впечатление было верным, и последующие годы жизни Ясперс посвятил созданию научной психиатрии. Он создал фундаментальные произведения, сделавшие его признанным классиком психиатрической науки. Но начиналось все именно с диссертации, написанной К. Ясперсом вскоре после окончания медицинского факультета. Понятно, что привычку к чтению книг в библиотеке Карл Ясперс приобрел именно тогда, когда писал ее. Именно тогда он сделал и вывод, что единой психиатрической науки еще нет, что разные школы говорят на разных языках. Значит, такую науку надо создавать, и приступил к созданию такой науки Карл Ясперс уже тогда, когда писал исторический экскурс об исследованиях ностальгии в начале диссертации.
Экскурс он писал специфически: не просто описывал факты и публикации в соответствии с хронологией, а мимоходом выяснял историю понятия «ностальгия», наводя читателя на мысли о том, что это понятие может означать в теоретическом плане. В этом не было ничего удивительного – Карл Ясперс еще в гимназии ставший восторженным поклонником Спинозы, полагал, что понятия, которыми ты пользуешься, надо определять строго. Тогда не будет пустых споров, в ходе которых оппоненты употребляют одинаковые слова в разных смыслах, а разные слова в одном. Вот почему исторический экскурс к диссертации и стал, по сути, скрытой разработкой теории, столь нелюбимой медиками – попыткой теоретически определить, что такое ностальгия и какие причины ее вызывают.
Ради одного только этого шага к созданию теоретической психиатриистоило писать диссертацию – изаслуги перед наукой были бы неоспоримыми. Но не будем забывать, что всякий раз, заботясь о науке, К. Ясперс заботился и о себе. Ведь только теоретическая психиатрия и могла доказать ему, что душа способна влиять на жизнь тела, и, значит, у него личноесть шанс прожить подольше.
Продолжительные библиотечные штудии во время подготовки диссертации привели Карла Ясперса еще к одному важнейшему выводу: психиатрия и психология близки к философии и искусству.Во всяком случае, они не отделены друг от друга великой китайской стеной. Что бы об этом ни думали хирурги и терапевты.
Здесь, конечно, требуются специальные пояснения.
Если сказать, например, хирургу или инфекционисту, что его наука похожа на романтическую поэму или на философский трактат, он даже не поймет, что имеется в виду, и подумает, что ослышался. Если сказать психиатру, что ему было бы полезно поучиться у филологов, у поэтов и писателей, а также у философов, его реакция будет приблизительно такой же, но все же – несколько иной. Ведь психиатр вполне поймет, о чем идет речь, хотя и не согласится с высказанным мнением. Объясним, почему.
В Новое время медицина решила, что она должна стать точной наукой, основанной строго на опыте. Это было время, когда науку не просто уважали, но и превозносили до небес, веря, что именно она спасет человечество. Далее медики рассудили так: чтобы произвести впечатление точной науки, медицина должна походить на физику, которая всегда была лидером и законодательницей мод в области точных наук. А чтобы походить на физику, нужно соответствовать великому физическому мифу, согласно которому всякое исследование начинается с чистого опыта, с экспериментов и наблюдений, и лишь затем производятся научные обобщения; однако эти обобщения ничего не стоят по сравнению с живым опытом; если результаты какого‑то нового опыта противоречат существующей теории, но теорию надо немедленно отбросить.
Медицина усвоила эти представления об идеальной науке и постаралась соответствовать им. Но ведь в медицине есть различные специализации, отличающиеся друг от друга не меньше, чем науки о природе и науки о культуре. Прикинуться физиком всего легче хирургу, который рассматривает человека как подлежащую ремонту живую машину. Терапевт может вполне сойти за химика, поскольку начинает лечение с «анализов» больного, ко торые получены им из больничной лаборатории. В общем, все врачи, занимающиеся лечением соматических заболеваний, могут, не кривя душой, прочесть своим студентам такую же вводную лекцию – проповедь, какую читают физики: будьте учеными, то есть всегда начинайте с наблюдений, основывайтесь на лабораторных анализах, фиксируйте весь эмпирический материал в строгих формулах, ничего не сочиняйте и не фантазируйте. То, чего не может увидеть всякий другойисследователь, просто не существует.Существует только то, что любой другой может повторить в ходе опыта: я описываю материал, оборудование и ход эксперимента, и всякий другой, взяв те же инструменты и проделав те же операции, получит такой же результат, в чем убедится, увидев его собственными глазами. Все, чего нельзя увидеть на опыте, все, чего не может увидеть другой, повторяющий этот опыт, – для науки выдумка. Вот кредо точных, или, иначе, опытных наук.
Для тех медиков, которые решили сделать медицину точной наукой, подобной физике, есть только человеческое тело, данное в наблюдении. Для них нет никакой души, поскольку душу наблюдать нельзя. Следовательно, душа это выдумка всяких философов и поэтов.
Наиболее последовательно эти взгляды изложил французский военврач – ох уж, эти циничные военврачи! – Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751). Он написал трактат «Человек– машина» (1748), в котором утверждал, что человек есть сложный живой механизм, который когда‑нибудь сумеют постичь опытные науки (пока им что‑то не удается определить, каково его назначение, но в будущем их успех неизбежен). Человека – машину надо изучать сугубо опытным, экспериментальным путем и ограничиваться в медицинской науке только тем, что дано в наблюдении. Это, в общем, соответствует убеждениям сельского автомеханика, что любую иномарку надо, прежде всего, разобрать на детали и затем тупо наблюдать их.
Душа, которая в наблюдении не дана, это, по мнению Ламетри, всего лишь «лишенный содержания термин». Соответственно, нет и никакого смысла жизни, долга, общечеловеческих ценностей – есть только наслаждения живой машины, среди которых важнейшим является секс. Современники поступили с военврачом Ламетри достаточно сурово (хотя он, чувствуя, что шкодит, писал свои трактаты анонимно, подобно нынешним пользователям Интернета). Вначале за свои вульгарно – материалистические труды Ламетри был изгнан из гвардии и лишен должности военного врача во Франции. Затем в Голландии книга «Человек– машина» была сожжена рукой палача по постановлению Лейденского магистрата. Это было не большим проявлением мракобесия, чем сегодняшний запрет на порнографию, поскольку учение Ламетри и было теоретическойпорнографией. Право, стоило бы присоединиться к мнению Вольтера, который называл Ламетри полной противоположностью Дон Кихота: он мудрец, когда занимается своим ремеслом, и малость безумен во всем прочем. Но ведь то же самое можно сказать обо всех естествоиспытателях и врачах, когда они пытаются перейти от своих профессиональных представлений к доморощенной философии! Современники наградили Ламетри прозвищем Господин Машина, ему пришлось смириться с этой кличкой и весело воспринимать ее, делая хорошую мину при плохой игре.
Сегодняшние медики, памятуя об участи Ламетри, предпочитают не озвучиватьсвое вульгарно – материалистическое кредо, но втихомолку придерживаются все тех же воззрений. В большинстве своем они тоже думают, что душа – это понятие, неуместное в точной медицинской науке. У хирургов и терапевтов, а также у всех, кто занят лечением соматических заболеваний, нет ни малейшего сомнения на этот счет. Но в несколько иной ситуации находятся психиатры, психоневрологи, психотерапевты и психологи, короче говоря, все те люди, в название профессии которых входит слово «душа» («псюхе»). Если эта душа – всего лишь пустое слово, которое не обозначает ничего, то, выходит, и все науки, начинающиеся со слова «психо», – это науки ни о чем.
Возможна ли психиатрия (психоневрология, психология, психотерапия) как наука?
Вот какой вопрос, в сущности, пришлось решать Карлу Ясперсу уже в своей диссертации. Двигался он при решении этого вопроса неспешно, почти на ощупь, исходя из самоочевидностей, поскольку был одним из первопроходцев в психиатрической науке.
Для начала надо признать: самоочевидно, что настоящая наука не может не иметь теории, к совокупности опытов и наблюдений наука не сводится. Наука не может вечно изобретать один и тот же велосипед. Результаты опытов и наблюдений, произведенных в прошлом, должны обобщаться в теории и приниматься во внимание наукой современной.
Таким образом, даже наука, основанная на опыте, должна иметь историю и теорию.Поэтому‑то Карл Ясперс счел необходимым начать свою диссертацию с историческогоэкскурса, который на самом деле был скрыто – теоретическимэкскурсом (по причине аллергии психиатров на теорию).
Самоочевидно, что ностальгию, известную со времен античности, уже изучали на протяжении веков. Самоочевидно и то, что начинали при этом не с нуля и велосипед всякий раз не изобретали заново: хотя бы из научного любопытства всякий исследователь ностальгии интересовался, чего достигли его предшественники. В результате постепенно складывалось и развивалось теоретическое представление о ностальгии. И, рассматривая вклад медиков прошлого в исследование ностальгии, можно не просто описывать исторические представления о ней, но и втихомолку искать научное определение ностальгии.
Известно, однако, что исследователь может найти только то, что он ищет. Если послать человека на перекресток и велеть ему заниматься там наблюдением, он непременно спросит, что именноему следует наблюдать. Если, по совету эмпириков, сказать, чтобы он вначале наблюдал вообще,непредвзято, рассматривая себя как чистую дощечку, а потом обобщил свои наблюдения, он только покрутит пальцем у виска. Любые наблюдения предваряются в науке гипотезой: вначале формируется некоторое теоретическое представление о том, чтобудет наблюдаться, а затем уже с помощью наблюдений и экспериментов эта гипотеза либо подтверждается, либо опровергается.
Мы намереваемся наблюдать, что написано в литературе о ностальгии. Нам откроется в наблюдении только то, что мы готовы увидеть. Мы ищем описания ностальгии. Но при этом мы должны представлять себе достаточно отчетливо еще до наблюдений, что это такое – ностальгия.
Так что же мы найдем в библиотеке, штудируя литературу прошлого о ностальгии? Если использовать сегодняшний компьютерный сленг, можно выразиться так: что мы получим, введя в поисковик слово «ностальгия»? Карл Ясперс без особого удивления констатирует, что в результате произведенного поиска мы получим не толькобиблиографию трудов психиатров. Эти труды как раз составят меньшинство в списке. А преобладать в нем будут всяческие поэтические произведения, элегические воспоминания о былом, литературные источники, музыкальные творения, включая многочисленные народные песни.
Возникает вопрос: что историку психиатрии следует исключить из рассмотрения, а что оставить? Говоря иначе: где начинается психиатрия и где она заканчивается? Читая книги и статьи о тоске по родине, Карл Ясперс понял, что такую четкую границу провести нельзя. Искусство, медицинская наука, народная мудрость – все это плавно перетекает друг в друга, когда речь заходит о ностальгии.