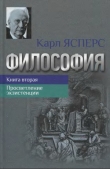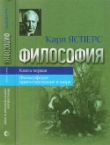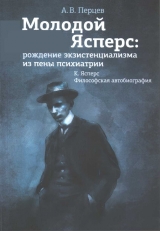
Текст книги "Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии"
Автор книги: Александр Перцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Об этом периоде К. Ясперс пишет в «Философской автобиографии» так:
«Что же касается внутренней истории моей жизни, то надо сказать хотя бы кратко о происходившем в юности. В 17 лет я читал Спинозу. Это был мой философ. Но я не собирался избирать философию в качестве предмета изучения в университете и делать ее в будущем своей профессией. Значительно большее предпочтение я отдавал юриспруденции и штудировал право, намереваясь позднее заняться адвокатской практикой. Однако, разочаровавшись в абстракциях от жизни общества, которая еще совсем была мне незнакома, я занялся поэзией, искусством, театром, графологией, все время разбрасываясь – к несчастью, но обретая, к счастью, разрозненные знания о величии человеческом, в первую очередь в искусстве. Я не был доволен ни собой, ни состоянием общества, ни фикцией общественного мнения. Основное ощущение было таково: что‑то неладно и в мире людей, и во мне самом. И все‑таки насколько великолепен был другой мир – природа, искусство, поэзия, наука! Все‑таки оставалось, всему предшествуя и все предваряя, основополагающее чувство доверия к жизни, внушенное любимыми родителями и сбереженное под их покровительством. Выбор жизненного пути я считал делом глубоко личным» [209–210].
Юноше, который еще совсем не был знаком с реальной жизнью, право показалось скучным и абстрактным. Он, конечно, не мог оценить своеобразную красоту решения человеческих проблем, предлагаемого законниками. Для того чтобы ее оценить, надо было вначале зайти в жизненный тупик, побиться о реалии, словно рыба об лед, а затем найти, словно избавление, правовое решение проблемы, которое кажется тем более основательным и надежным, чем более суконным и нудным представляется правовой сленг. Но вот начать прямо с изучения этого правового сленга, совершенно не зная жизни во всей ее остроте и эмоциональности – мало кто выдерживает эту пытку всерьез.
Студент Карл Ясперс ее и не выдержал. Он «занялся поэзией, искусством, театром, графологией, все время разбрасываясь – к несчастью, но обретая, к счастью, разрозненные знания о величии человеческом». Отметим самое важное в сказанном: не для развлечения и увеселения Ясперс занялся изучением искусств и графологии! Он пытался познать человеческое величие.Это не пустая фраза. Вопрос о том, в чем именно заключается и как проявляется человеческое величие, интересовал Карла Ясперса настолько, что впоследствии, когда он писал свои историко – философские работы, он посвятил человеческому величию специальную вводную главу. В ней он рассматривал единственный вопрос: чем отличается великий человек от невеликого?
Практичный сын банкира никогда ничего не делал впустую. Он сам собирался стать великим – в тот краткий срок, который ему отпустила жизнь. Именно для этого он изучал величие человеческое во всех областях, которые оказались доступными для него в университете. Сами эти области, как таковые, его не интересовали, интересовала только возможность стать великим, которую предоставляла (или не предоставляла) каждая из них. (Конечно же, право такой возможности не представляло, являя собой царство анонимной вселенской справедливости; последние авторские законы были в Древней Греции, а с возникновением римского права именно деиндивидуализация закона только и делала его правовым.)
Итак, К. Ясперс промчался галопом по всей доступной ему культуре, выясняя, в какой ее области можно быстрее всего достичь величия – чтоб запомниться. Именно этим объясняется, по всей видимости, тот факт, что он взял всего один (!) урок графологии у Л. Клагеса, поскольку интересовала его не столько сама графология, сколько графолог Клагес, впоследствии ставший одним из известнейших философов Германии:
«…Урок состоялся у него на квартире. Она представляла собой несколько едва убранных комнат, в которых, как мне показалось, я почувствовал дух необузданности. Я проникся им. В своем энтузиазме этот человек горел своим собственным светлым пламенем. Я ощутил страх перед чем‑то первобытным в нем и постарался держать дистанцию. Ведь я, несмотря на его необыкновенную любезность, почувствовал нечто великолепно – бездушное, что меня притягивало и отталкивало…» [72]72
Ibid. S. 57.
[Закрыть].
Спустя несколько лет Ясперс попытался подвигнуть Клагеса хабилитироваться, т. е. защитить работу на соискание звания доцента в Гейдельберге. Но тот отказался, поскольку предпочел сохранять абсолютную свободу. (С необузданностью, стало быть, Ясперс угадал – людей он умел понимать с юных лет.)
В остальном К. Ясперс продолжил уже освоенный им в предыдущем семестре полубогемный образ жизни: принимал участие в литературных вечерах, которые устраивала Хелене Бёлау, а также активно приобщался к искусству, посещая выставки. На изучении права, похоже, втихомолку уже был поставлен крест.
В конце августа того же, 1902 года, К. Ясперс по рекомендации Френкеля отправился поправлять здоровье в Швейцарию, в Верхний Энгадин. Там, на высоте 1811 метров, расположен климатический курорт Сильс Мария: покрытые лесом горы укрывают долину от ветров, в изобилии солнце и чистый горный воздух, альпийские виды успокаивают расстроенные нервы. Пребывание в этом благословенном месте всегда было показано больным хроническим воспалением легких, малокровием, атонией желудка и кишок. (Именно поэтому в Сильс Марию с 1879 года стал ездить Ф. Ницше, который называл это место «землей обетованной».)
Однако Ясперс вовсе не собирался вести там праздную жизнь курортника. Жизнь не оставляла ему на это времени. Он усердно штудировал И. Канта, а также психолога и философа Т. Липпса, а кроме того, занялся изучением естественных наук. Судьбой юноши занялись два профессора, приехавшие на курорт, физиолог Фона из Флоренции и историк искусства Корнелиус из Фрайбурга. Оба принялись уговаривать его стать медиком, в особенности физиолог, постоянно расписывавший жизнь врачей. Историк искусства посоветовал пойти в психиатры, чтобы, наконец, заняться изучением феномена «истерии среди университетских профессоров» [73]73
Ibid. S. 59.
[Закрыть].
Сохранилась шуточная фотография К. Ясперса с курортными наставниками. «В центре стоял я, во всю свою длинную тощую величину, а слева и справа от меня преклонили колени оба профессора. Каждый из них положил свою руку на раскрытую мной книгу и клялся в верности духу науки» [74]74
Ibid. S. 60.
[Закрыть].
Юноша сделал свой выбор. Первым медиком, поразившим его воображение, был Френкель. Т. Липпс и Л. Клагес воспринимались им как психологи, то есть почти что врачи. Фано и Корнелиус довершили дело. В Сильс Марии Карл Ясперс написал родителями «меморандум», в котором объявлялось, что он меняет жизненные планы:
«С месяц назад я решил для себя, что хочу оставить изучение права и заняться изучением медицины; если бы я обладал необыкновенно одаренным умом, то я начал бы прямо с изучения естественных наук и философии, чтобы встать на академическую стезю… Я бы сделал свою докторскую диссертацию по философии. Разумеется… я также обстоятельно штудировал бы и медицину как одну из основ, на которой могут строиться и психология, и философия… Но поскольку необходимое условие отсутствует, я буду поначалу изучать медицину… Мой план таков: после предписанного числа семестров – их будет одиннадцать или двенадцать – я сдам свой государственный экзамен. Если я тогда все еще буду верить, как верю сейчас, что у меня есть способности, я перейду к психиатрии и психологии; затем я, видимо, стану, прежде всего, врачом психиатрической лечебницы или ассистентом университетского профессора, который преподает психиатрию. Наконец, я, вероятно, изберу университетскую карьеру, по примеру Крепелина в Гейдерберге… Философия… благодаря медицине и естественным наукам, еще больше, вероятно, оживится во мне. Возможно, она, как я надеюсь, убережет меня от односторонности, которую обычно влечет за собой зазнайство естествоиспытателей. Она, возможно, вообще даст содержание моей жизни, и она тоже необходима, чтобы оградить от абсурдности естественнонаучного мышления… Липе говорит так: если человека вынуждают к тому, чтобы отвергнуть часть его предшествующей жизни и сделаться другим, это дается ему очень тяжело. Этого мнения… я не разделяю. Я пришел к такой точке моей жизни, в которой я порываю с предшествующим. Но я охвачен радостью от сознания правильности поступка» [75]75
Ibid. S. 62.
[Закрыть].
Есть несколько моментов, которые следует особо отметить в этом «меморандуме» (он остался неотправленным, но вскоре К. Ясперс изложил его содержание отцу в Ольденбурге лично).
Во – первых,медицина рассматривалась К. Ясперсом с самого начала как путь к философии, как промежуточная стадия в движении к ней. Это не принижает ни философию, ни медицину. Медицина мыслится Ясперсом как научная основа для философии. Такая постановка вопроса кажется странной только тем, кто не знаком с культурными традициями начала двадцатого века. Именно тогда в Германии рождается идея построить философскую антропологию строго на научной основе. Для этого надо начать с точных наук о человеке – и на основании их данных сформировать исходную «модель человека». Когда эта модель позволит ответить на вопрос, что такое человеческое здоровье и что такое болезнь, можно будет вывести из этих представлений знание обо всех человеческих достижениях – о политике и искусстве, о религии и культуре, о философии и науке, о технике и литературе.
В соответствии с этой программой, которую яснее всего сформулировал М. Шелер, действовала «философская антропология» в Германии (М. Шелер, Г. Плесснер, А. Гелен и др.). В соответствии с этой программой, в сущности, действовали в Австрии 3. Фрейд и его последователи. Эту же программу, как видим, собирался реализовать и К. Ясперс.
В – вторых, начинающий студент К. Ясперс по – прежнему – как и в гимназии – был не уверен в своих силах и талантах. Если бы он был уверен в них, он занялся бы философией сразу же. Но он боялся откровенных споров с «чистыми» философами, в которых многое определяется харизмой, несмотря на всю и всяческую логику. Против таких харизматичных оппонентов из разряда «чистых» философов он и собирается использовать дополнительное оружие – данные опытных наук о человеке. (Этот трюк активно используется в начале XX века, когда появляются подобные Ясперсу маргиналы, которых философы считают естествоиспытателями или врачами, а врачи и естествоиспытатели – философами; ни у кого не хватает смелости таких маргиналов опровергать.) К. Ясперс – по обыкновению своему – избирает вкрадчивый окольный путь к философии, потихоньку, через медицину, ступенька за ступенькой, зарабатывая все больший и больший авторитет в университете.
В – третьих,нельзя не поразиться тому, насколько планы, выстроенные юношей до начала учебы на медицинском факультете, воплотились в действительность. А воплотились они почти на сто процентов. К. Ясперс окончил университетский курс медицины, специализировался на старшем курсе по психиатрии, затем стал ассистентом – волонтером в психиатрической клинике Гейдельбергского университета и, завоевав себе авторитет в кругах психиатров и психологов, отправился преподавать психологию на философский факультет. Такое совпадение плана и реальной жизни не случайно. Оно свидетельствует о незаурядном упорстве в достижении поставленных целей, о силе воли и даже о некотором педантизме.
Отец одобрил начинание сына. Он сказал ему: «Ты убедил меня, мальчик мой, я согласен». А при этом наверняка подумал, что изучение медицины в любом случае пойдет на пользу его больному ребенку.
Время исканий закончилось. За учебу К. Ясперс взялся с прилежанием всех своих крестьянских предков. Он изучал медицину в трех университетах – в Берлине (зимний семестр 1902–1903 года), в Геттингене (1903–1906) и в Гейдельберге (1906–1908). На каникулах между семестрами он, не теряя времени, занимался самостоятельно – вначале на зоологической станции на острове Гельголанд (1904–1905), затем в Ольденбурге, где он оборудовал собственную лабораторию.
Бывают люди, которые, приходя в какую‑то научную область, активно начинают приспосабливаться к ней: осваивают традиции, сленг, приемы, вживаются в иерархию, словом, всецело предаются научной мимикрии. Они имитируют научное поведение, в том числе и тогда, когда пишут статьи и книги. Они думают, что стать ученым можно только тогда, когда тебя перестанут отличать от всех остальных ученых, когда ты сольешься с их толпой до полной неразличимости.
Бывают и другие ученые – они сразу же начинают придумывать избранную ими науку «под себя», по своему вкусу. Если это удается, придуманная наука навязывается окружающему миру исследователей. Как правило, навязать сызнова придуманную науку старшему и среднему поколению не удается. Зато молодое поколение с удовольствием откликается на подобные «инновации».
Карл Ясперс принадлежал, без сомнения, ко второму разряду ученых. Он придумывал себе медицину заново. Вначале он решил, что работать по нескольку часов ежедневно ему не даст болезнь. Стало быть, зубрежка – а вместе с ней и скрупулезное освоение традиции – исключается сразу. Лекции можно слушать только урывками. Зато, если хорошо распределить время, можно обеспечить свое присутствие на всех практических занятиях, которые необходимы для зачетов и экзаменов. В своих воспоминаниях К. Ясперс признался, что «всегда использовал глупости и упущения в инструкциях, которые предписывали, как и за что ставятся экзамены и зачеты» [76]76
Ibid. S. 64.
[Закрыть]. От всего, от чего только можно было увильнуть, он увиливал, успокаивая себя тем, что таким образом высвобождается время для чтения действительно хороших книг. Но главное значение студент К. Ясперс придавал тому, чтобы получать непосредственные, собственные впечатления об изучаемом предмете, а потом рассказывать о них. Он называл это всматривающимся погружением в природу и надеялся таким образом постичь законы природы. Напомним, что юноша читал Канта и полагал, что так называемые «законы природы» принадлежат не самой природе, а устанавливаются человеческим мышлением. Стало быть, «законы природы» можно постичь, поняв особенности мышления естествоиспытателя и медика, научившись мыслить, как естествоиспытатель и медик.
Иными словами, изучение медицины было для К. Ясперса изучением особенностей медицинского мышления, которое неотделимо от мышления естественнонаучного. Изучая медицину, он изучал медиков, а вместе с ними и человека, поскольку медик это всего лишь разновидность человека. Говоря о своей медицинской деятельности, Ясперс не уставал подчеркивать: «Моя область это человек, ни к чему другому я уже давно не имел ни способности, ни влечения» [77]77
Ibid. S. 65.
[Закрыть].
Правда, при таком кантианском подходе к делу, исключающем в принципе всякий научный разговор о «природе как таковой», как метафизику, тщетно пытающуюся судить о вещи– в – себе, не совсем понятно, зачем было заводить себе домашнюю научную лабораторию с массой приборов, а также с подопытными животными. Ведь Ясперс был в этой домашней лаборатории один. Едва ли он мог бы изучать специфику научного мышления, наблюдая только за собой, неофитом. А больше вокруг никого и не было.
Скорее, возня с подопытными животными была тоже игрой в основательность – и в основательность не медицинскую, а в крестьянскую, которая превосходит медицинскую основательность и, стало быть, должна давать преимущества в медицине. Ясперс, так сказать, использовал свои преимущества, полученные в детстве – он, будучи крестьянским внуком, не испытывал содроганий, проводя опыты на животных. Чем, собственно говоря, даже бравировал, приводя соответствующие детские воспоминания:
«Жизнь в этом крестьянском доме открывала нам неисчерпаемый мир: множество всяких животных, голуби, куры, утки, свинарник, а сверх того главная масса животных, которую составляли коровы и бычки, летом пасшиеся на лугах, зимой пребывавшие в стойлах. Когда требовались голуби для приготовления еды, мой дед поднимался по лестнице на голубятню, ловил молодого голубя и зажимал его голову пальцами так, что при резком движении руки тело голубя падало, трепыхаясь, на землю, а голова оставалась у него в руке. Молодые петушки забивались посредством отсекания головы. Я смотрел на все это с удивлением, но без ужаса; как однажды мне вспомнилось много лет спустя, моя славная и добрая бабушка, уже став вдовой, как‑то стояла в птичнике; она зажала петуха между ног и отсекла ему голову; это могла сделать только она, пояснили мне, больше никто не мог на это отважиться, ни экономка, ни служанка, так что пришлось это сделать ей…» [78]78
Yaspers K. Was ist Erziehung? Ein Lessebuch. Muenchen, 1981. S. 154.
[Закрыть].
Нет, положительно трудно понять, зачем Ясперсу потребовалась домашняя лаборатория – в дополнение к университетским. То ли он решил восполнить недостаток естественнонаучной подготовки, характерный для гуманитарной лингвистической гимназии, то ли он хотел показать себя основательнейшим исследователем. Кому? Гуманитариям, разумеется. Ведь однобоких заносчивых естествоиспытателей он презирал еще допоступления на медицинский факультет.
Как бы то ни было, а университетский курс медицины был успешно освоен. 20 января 1908 года состоялся государственный экзамен по медицине; сдав его, Ясперс стал врачом. В 1909 году он защитил диссертацию «Тоска по родине и преступление» [79]79
Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. Inaugural – Dissertation zur Erlangung der Doktorwьrde der hohen medizinischen Fakultдt der Universitдt Heidelberg vorgelegt von Karl Jaspers. Leipzig: Verlag von F. C. W., Vogel, 1909.
[Закрыть], сделавшись доктором медицины.
После этого он начал работать ассистентом – волонтером (то есть без оплаты) в психиатрической клинике Гейдельбергского университета – там же, где готовил свою докторскую диссертацию.
Часть II. Преступная тоска по родине: почему Ясперс взялся писать диссертацию о девочках – убийцах
Глава IV. Философия как путь к исцелению
Несколько необязательных замечаний – только для профессионаловНа первой же странице своей «Философской автобиографии» Карл Ясперс заявил: понятно само собой,что жизнь всякого человека интересна любому другому человеку. С этим можно согласиться – но с определенной оговоркой. Обычный человек интересуется жизнью другого лишь тогда, когда у него возникают сложности в собственной жизни. Если он полюбил сам, но что‑то у него не складывается, он идет расспрашивать у друга или родственника, любил ли тот когда‑либо, и как это происходило. Если человек разводится, ему очень интересно послушать о чужих разводах. Если он заболел… если чего‑то боится… если у него разлад с детьми… в общем, только тогда, когда человеку необходимо безотлагательно разобраться в своей жизни, он начинает интересоваться жизнью другого.
А все потому, что есть у человека такая интересная особенность: слушая или читая повествование о чужой жизни, он постоянно думает о себе, а это самое любимое и важное для него занятие.
Слушая о чужой любви, он думает о своей, слушая о чужой семье, он думает о своей; и так – всегда. Человеку требуется немалое усилие, чтобы, слушая о чужой жизни, думать именно о чужой жизни – а не о своей собственной. Это усилие профессионально совершают педагоги, психологи, психиатры, и очень редко – историки философии. Они не вникают в жизнь тех философов, о которых пишут. Как, впрочем, и в собственную жизнь: что я, тварь ползущая, не могу я свое мнение проявлять, а вот Гегель, о котором я, как историк, пишу – голова!
Впрочем, и не о Гегеле пишут историки философии – о гегельянстве. Тут большая разница. Пишут не о философах, а о философиях, и предмет науки называется «история философии», а не «история философов». Историки философии хотят описывать чистую мысль. А люди, которые были носителями этой мысли, их не интересуют. Не интересуют принципиально, потому что всякое связывание этой мысли с жизнью людей нарушало бы ее безукоризненную чистоту. Приблизительно так же поступают историки религии: они хотят писать о Боге, а не о богословах; богослов – лишь путь к Богу, сам по себе он не интересен. Жизнь богослова никак не должна влиять на те мысли о Боге, которые пришли ему в голову; поэтому, право, будет лучше ничего о жизни богослова не знать совсем.
Гегель научил историков философии писать историю Мирового Разума, а не отдельных мыслителей, их жизненных перипетий и учений. Именно потому в России, где еще не отрешились от гегельянства, историки философии крайне редко вникают в биографии мыслителей. На Западе В. Дильтей, К. Ясперс, З. Фрейд сотоварищи переломили ситуацию и научили историков философии использовать метод понимания, герменевтику.У нас такого перелома не произошло, может быть, потому, что в школе нас заставляли учить В. В. Маяковского: «Единица? Кому она нужна? Голос единицы – тоньше писка». А вот если в партию сгрудились малые или выступили как агенты всемирного Мирового Разума – тогда, конечно, дело другое.
Мы в этой книге, как уже мог убедиться читатель, попытались преодолеть эту привычку выводить суть учения мыслителя из чего угодно – из мистического развития мирового разума, из экономики, из социально – политических коллизий, из глухого и невнятного бормотания Воли – только не из жизненных обстоятельств самого человека.
Мы полагали и полагаем, что человек – философ прежде всего и в первую очередь создает свою философию для себя самого, чтобы помочь себе, утвердить себя и оправдать себя [80]80
Мы говорим не об ученических работах, которые пишутся в подражание кому‑то, а о собственных, оригинальных учениях.
[Закрыть].
А потому мы пишем историю человеческойфилософии.
Нет, мы, конечно, не сомневаемся, что можно написать историю мировой философии так, что будет казаться – одни идеи порождают другие идеи, без всякого участия человека. Черепная коробка человека в этом случае предстанет всего лишь помещением, где идеи занимаются размножением, а рука человека окажется только самописцем, который регистрирует этот процесс.
Можно написать историю философии и по – другому, так, что любое учение будет казаться навеянным экономической и политической обстановкой в стране. Тогда, правда, останется непонятным, почему надо рассказывать про эту обстановку в столь сложных и непонятных философских терминах: ведь можно куда проще описать ее в бесхитростных понятиях политологии и экономики.
В этих двух жанрах история философии до сих пор и писалась. Либо идеалистически – как история саморазвития чистой мысли. Либо материалистически – как сильно зашифрованная история экономики и политики. Мы полагаем, что творчество в этом жанре до сих пор имеет своих ценителей, а потому имеет право на существование.
Но есть и третий жанр, представленный тем же К. Ясперсом, а также В. Дильтеем, Ф. Ницше, 3. Фрейдом и многими другими. А основоположником его был, пожалуй, И. Г. Фихте, который заявил: «Каков человек, такова и его философия».
В этом жанре мы и намерены писать дальше.
Мы будем исходить из непедагогичного, но особо очевидного ныне допущения, что человек всегда более всего интересуется самим собой.
Вопреки призывам моралистов, он раньше думает о себе, и только потом – о Родине, и лишь после этого – обо всем мире в целом.
Философы, правда, всегда делали вид, что они предпочитают обратный порядок: вначале думают о Вселенной, затем о Родине и только в последнюю очередь о себе. Это всегда было лукавством, так же как и попытка философов выдать себя за ангелов во плоти, которые живут между небом и землей в башне из слоновой кости.
Нет, философы – как и все люди на свете – думают в первую очередь о себе.
А думая о себе, человек приходит к неоригинальному выводу: он должен выглядеть в своих глазах и в глазах других людей достойно.Встречают по одежке, провожают по уму – то есть сразу же за критическим осмотром гардероба следуют требования к интеллектуальному дресс – коду. Ты должен предъявить свой умопостигаемый образ, который может устроить окружающих. По этой причине даже ребенок из детского сада каждый день сочиняет себе жизнь, изображая себя человеком достойным, а остальных вполне симпатичными либо крайне неприятными мальчиками и девочками (в зависимости от того, как они повели себя с ним). У лиц невысокого умственного развития эта привычка выдумывать себя и мир остается в детском виде до глубокой старости. Она выступает в неприкрытом виде. Эти люди ничуть не скрывают, что есть два типа фотографий, интересные и неинтересные, на которых их нет.
Однако и лица с высоким интеллектом никогда не отказываются от привычки придумывать себя окончательно. Просто они подают себя куда более солидно и утонченно. Картины, которые они рисуют, куда более масштабны. Существо простодушное способно нарисовать только свой красочный портрет в окружении шаржей на окружающих. Интеллектуал высокой пробы рисует панорамные полотна, изображающие мир до самого горизонта. Да что там говорить – не просто окружающий мир, но и весь космос, всю Вселенную.
Конечно же, на этой панораме изображены и другие люди, но центром мироздания выступает именно интеллектуал – философ. Только его отличает правильный взгляд на вещи; все остальные видят их однобоко, не под тем углом, искаженносубъективно. Мир изображается на панораме таким, что весь смысл этого мира подвигает человека разумного к совершенно определенным поступкам. Философия такого человека представляет собой описание мира с позиций его самого – образцового человека, находящегося в центре мира. Из того, как изображен мир, вытекает неукоснительная правота его, философа, вкусов, принципов и поступков. Если мир таков, достойный человек может поступать в нем только так, и никак иначе. Панорама космоса оборачивается вполне определенной этикой, а образцовым человеком – человеком вообще, носителем общечеловеческих ценностей и т. п. – оказывается именно философ, нарисовавший панораму мира. Из его картины следует, что именно он находится в центре мироздания, а из центра всегда лучше видно, как следует поступать на периферии. Значит, ему, философу, волей – неволей приходится подавать пример всему человечеству: «Делай, как я!».
Не надо думать, что такая философия создается мыслителем в первую очередь для навязывания окружающим. Нет. Она создается, в первую очередь, для собственного потребления. (Вспомните свои выдумки о мире в детском саду: в те времена вас интересовали только вы сами, и вы, не скрываясь, выдумывали мир, подходящий вам).
Философия, созданная философом, это, в первую очередь, его карта, обрисовывающая его театр боевых действий, а любая такая карта рисуется с точки зрения победителя. Философия, созданная философом, – его оправдание, его способ возвысить себя. Это тонкое искусство состоит в том, что философ описывает правила устройства космоса, истории им культуры так, что по этим правилам выигравшим оказывается именно он. Все остальные только думают, что они выиграли – и ошибаются.
Такая – собственная – философия дает колоссальную уверенность в себе. Почему ею не пользуются сегодня? Потому что преподавателифилософии преподавали не свою философию, а чужую, ничейную, и слушатели не поняли, зачем эта ничейная стратегия (карта мира, панорама Вселенной) им преподается. Там, где философия преподается не пролетарскими мыслителями (или интеллектуальными пролетариями), право собственности на философию никто не оспаривает.
Каждый мыслитель излагает своюфилософию, а не чью‑то общую, стандартизированную министерством единомыслия.
А все прочие, прочитав ее в книгах или выслушав на лекциях, прикидывают, пойдет ли им это готовое интеллектуальное платье. Будут ли они выглядеть в нем столь же достойными и заслуживающими уважения, как его создатель – философ? Вот, к примеру, тебе надо объясниться в любви, но писать стихи любимой недосуг. К тому же у тебя презрение ко всему непрофессиональному. И тогда ты читаешь своей пассии стихи А. С. Пушкина, то есть используешь прекрасно найденные им слова для приукрашивания себя в состоянии влюбленности. Так отчего же не поступить так же и с хорошим философским учением? Отчего же не объяснить свои деяния в мире прекрасно найденными словами Канта, Гегеля или Витгенштейна?
Если ты хорошо выглядишь в интеллектуальном платье, скроенном тем или иным философом, ты начинаешь носить его. Оно входит в моду и, в итоге, превращается в массовую идеологию. Учение Маркса, превращенное в идеологию, становится рассказом пролетариата о самом себе – достойном, симпатичном и перспективном. А уж что говорить о руководителях этого прекрасного пролетариата – гегемона!
Так возникают идеологии. Но возникают они из личных философий, созданных философами для себя.
Философ – это человек, дерзнувший придать миру свой, личный смысл.
Но прежде, чем сделать это, философ должен вырастить этот смысл в самом себе. Потому что заранее ему смысл жизни определять не должен никто.
В этом – самая суть экзистенциализма.
Вернемся, однако, к молодым годам Карла Ясперса. Как формировалось в нем представление о персональном смысле его жизни? То самое, которое позднее будет спроецировано на весь мир культуры, на всю человеческую историю? Была ли его философия рассказом о нем самом? О его собственном жизненном плане? Если да, то когда такой рассказ начал складываться?
В детстве?
В молодости, в период работы психиатром?
Или в зрелые годы, когда он перешел работать на философский факультет?