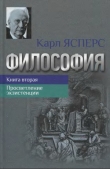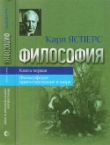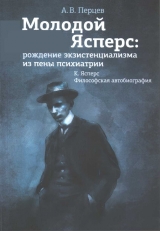
Текст книги "Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии"
Автор книги: Александр Перцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
5. Философия
Когда 1 апреля 1922 года я получил кафедру, став ординарным профессором философии в Гейдельберге, мне казалось, что я еще не готов к этому – по моим собственным меркам. Я стал заниматься изучением философии более основательно. Вопреки своим прежним планам, я отважился сделать философию своей профессией и делом жизни. Задача моя была мне ясна. Та философия, которая развивалась профессорами, на мой взгляд, не была философией подлинной. Со своими притязаниями на то, чтобы стать научной, она сплошь и рядом оказывалась обсуждением вещей, несущественных для решения основных вопросов нашего бытия. По моим представлениям, я не был самобытным философом. Макс Вебер умер. Если в духовном мире философии нет, то задача, по крайней мере, должна состоять в том, чтобы показать, какой она бывает, привлечь взгляд к великим философам, не позволять выдавать незначительное за великое, пробудить у молодежи вкус к подлинной философии.
В 1920 году я оказался на распутье. Моя «Психология мировоззрений» имела успех. Ее тогда много читали. В те годы, когда она создавалась, я подготовил рукописи курсов лекций о психологии религии, о социальной психологии, о психологии народов и психологии морали. Не составляло особого труда подготовить к печати три новые книги. Можно было использовать обширную литературу, дать широкую панораму. Я достиг определенного уровня, позволявшего, вероятно, проводить содержательные исследования, но – без философской базы, и теперь можно было разворачивать исследования на этом уровне вширь. Велико было искушение – писать по такой книге каждый год или каждые два года. Вероятно, каждая имела бы успех на какое‑то время. Но сознание мое противилось этому. Я понимал – на таком пути нельзя будет прояснить в мыслях то, что было жизненно важным в моем внутреннем мире, в моих оценках людей и вещей. Подменить философию психологическим рассмотрением, даже столь широким, даже с использованием столь интересного исторического материала, значило все же уклониться от исполнения серьезнейшей задачи – от постижения себя самого в своем существовании. Оставалась бы некоторая необязательность, «легкость» рассмотрения множества разнообразных предметов.
Задача, которую я поставил перед собой, требовала особого методологического осмысления и глубокого проникновения в немногие основополагающие философские произведения великих. Я и теперь продолжал заниматься историей и изучением всякого рода фактов, поставляемых различными науками, но уже делал это мимоходом, урывками, так сказать, в порядке отдыха. Главным же делом для меня была акклиматизация на высоте подлинной философии. Она протекала медленно. Внезапные интуитивные прозрения, в которых открывалась суть дела, обретали прочность и связность только благодаря работе, имевшей теперь принципиально новый характер. Она состояла не в учении и не в умножении знаний, а в освоении тех форм мышления и образов действия, которые требовались при обращении к великим философам, но научиться которым было нельзя, поскольку их не существовало в готовом виде. Следовало выйти на новый уровень мышления. Сделав такой выбор, нужно было начинать практически с азов.
Я тогда много думал над сложившейся ситуацией. Став ординарным профессором, я обрел полную свободу. Мне не надо было теперь что‑то публиковать, чтобы получить кафедру. Я получал денежное содержание, что, по университетским традициям, не налагало на профессора никаких обязательств и ограничений: не давало никому права контролировать его, а просто предполагало, что он прилагает все свои силы без остатка для того, чтобы достичь свободно избранной им цели, и при этом через посредство преподавания открывает для молодежи возможность следить за его работой. Я решил, что публикации мои должны временно прекратиться. Два опубликованных исследования – о Стриндберге и Ван Гоге (1922) и об идее университета (1923) – представляли собой отредактированные тексты работ, рукописи которых были готовы еще до того, как я стал профессором.
Когда прошло несколько лет, а я так ничего и не опубликовал (вплоть до конца 1931 года), иные из моих коллег – недоброжелателей принялись говорить, что я, став ординарным профессором, тут же превратился в прожигателя жизни и перестал работать. Чем дольше все это длилось, тем более крепло убеждение, что от меня больше нечего ожидать. Мое творчество периода «Психологии мировоззрений» – это, дескать, костер из соломы: вспыхнул ярко и навсегда погас. Риккерт выражал свое презрение по отношению к моей «сверхнауке». Он заявлял, что мое прилежание, проявленное в сфере психопатологии, благодаря чему я снискал авторитет в научных кругах, мною утрачено. Уважение ко мне в Гейдельберге упало до столь низкой отметки, что считалось – со мной покончено. Просто удивительно, почему на мои лекции приходило так много слушателей. Видимо, в этом были повинны те мои качества, которые принесли мне славу «развратителя молодежи».
Разумеется, мои лекции и семинары не были изолированы от моих поисков. Я ведь находился в самой середине работы по созданию того, что могло окончательно оформиться только в будущем. Услужливые ученики коллег – философов донесли им, что я читаю лекции, не имея четких ориентиров, – как человек, никогда не изучавший философию и легкомысленный. Другие слушали меня с неослабным вниманием, потому что общий настрой моих лекций и возможности, которые в них содержались, открывали им доныне неизвестный мир. Читая лекции таким способом, я разрабатывал учение, а не сообщал уже готовое.
Если прибегнуть к традиционному делению, то эти лекции были отчасти историческими, а отчасти – систематизирующими. В лекциях по истории философии я приводил идеи и образы, посещавшие меня в ходе изучения материала, давал характеристики эпох и говорил о смысле принятия в эти эпохи рациональных конструкций и методов. Не чувствуя необходимости жестко привязываться к хронологическому порядку, я то и дело затрагивал темы из самых разных времен европейской истории философии. Наверное, я был похож на дирижера оркестра, который дает зазвучать то одному, то другому голосу из прошлого.
Более трудными, более важными и требующими немалой внутренней работы были те лекции, в которых я пытался передать основополагающее знание, обретавшее реальность во мне благодаря моим собственным открытиям и освоению чужих учений. Тут речь уже шла не о сообщении чьих‑то мнений, сколь бы великим философам они ни принадлежали, а о самой истине – как она сегодня может мыслиться отдельным человеком. В лекциях, посвященных логике, учению о категориях, метафизике, анализу экзистенции, я поначалу подавал самое существенное в форме, которую мне хотелось преодолеть, – то есть в форме логически объективного и психологического. Внезапные удачи перемежались тяжеловесными, утомительными абстрактными рассуждениями. На лекциях порой случались озарения, и слушатели мои, не найдя их отражения в книгах, написанных на основе лекции, позднее пеняли мне по этому поводу.
Я так ничего и не опубликовал из того, что преподавал таким образом на лекциях и семинарах на протяжении десятилетия. Что же касалось университета, то я жил в чуждом для себя мире профессоров философии. Предпринимаемое мною в духовной сфере было одновременно и осторожным, и безрассудно смелым. Порой оно было основательным, а порой – дерзкой шуткой. То, что делали другие, и то, что пытался делать я, развивалось параллельно, нигде не пересекаясь. Я не боролся с другими, не выступал в роли их противника. Если Риккерт в своих лекциях нападал на меня, – порой – к развлечению студентов, а порой и к неудовольствию их, – то я преподавал так, будто других университетских профессоров не существовало. Я никогда не делал выпадов против своих коллег.
В общем и целом я чувствовал, что иду верным путем. Но сомнения меня все‑таки посещали. Одиночество среди коллег по профессии требовало от меня находить доказательства своей правоты в собственной работе.
С 1924 года я регулярно работал над книгой, которая вышла в свет в декабре 1931 года под названием «Философия». Она поначалу не имела ни четкого замысла, ни плана. Подготовительных рукописей к ней становилось все больше. Даже тогда, когда я путешествовал, у меня была с собой записная книжка. Я часто заносил в нее ту или иную мысль. Частности оформились раньше, чем единое целое. Оно не было задано с самого начала как исходный принцип. Оно развивалось и складывалось наряду с частностями. Общее построение целого для меня было не столь важным.
Я исключил все то, что не имело прямого отношения к делу – выяснению, что такое философия, в каких измерениях она движется. Причем следовало не просто рассуждать об этом, но и показывать все на конкретном материале. Все, что я мог почерпнуть из общения с людьми, на факультетских собраниях и заседаниях, но в первую очередь то, что мне открывалось в общении с любимыми мною людьми, то, что я видел, наблюдая их судьбы, – все это превращалось в философские суждения, истоков которых доискаться было уже невозможно. То, что я постигал, читая труды великих философов, соединялось у меня с истинами современными. Кажется, совсем незаметные и случайные поводы наталкивали меня на открытия. Разумеется, это не могло бы произойти, если бы совсем не было плана и ключевого замысла.
Но вся эта работа была удачной только тогда, когда на нее оказывало постоянное влияние нечто другое: мечты, грезы, фантазии. Я созерцал природу, глядя в небеса, следя за облаками, часто просто сидел или лежал в раздумьях. Только покойное размышление в соединении со свободным полетом фантазии дает возможность ощутить те импульсы, без которых любая работа становится бессмысленной, несущественной, пустой. Мне кажется, что для человека, который ежедневно не предается хотя бы ненадолго фантазиям и грезам, меркнет путеводная звезда, необходимая для всех наших трудов и всей жизни.
В своих философских работах я исходил из двух посылок, которые стали мне ясны тогда, когда я следил за Максом Вебером в его дискуссиях с Риккертом.
Первая из них: научное познание – необходимый элемент в философствовании. Без науки сегодня невозможно обрести никакой истины. Правильность познания в науках совершенно независима от философской истины, но последняя нужна для них – просто необходима. Ведь наука не может постичь, почему необходима она сама, почему она должна существовать. Она имеет пределы, существование которых при ясном методологическом размышлении сознает сама.
Вторая посылка была такова: есть мышление, не являющееся принуждающим и общезначимым, как научное, и оно по этой причине не дает никаких результатов в той форме, которая принята в науке. Это мышление, которое мы называем философским, приводит меня к постижению себя самого, а результаты оно дает благодаря осуществляемой с его помощью внутренней работе и будит во мне сознание тех первоначал, которые единственно и придают смысл всему, в том числе и науке.
Науку нужно привести к ее максимально возможной чистоте, подтвердить, что это – познание, сознающее свои методы, принуждающее и общезначимое, и соответствующим образом рассматривать ее результаты. В то же самое время следует в столь же чистом виде прояснить суть философского мышления, которое не направлено против науки, но постоянно находится в союзе с ней – философского мышления, которое не представляет собой ни над – науки, ни сверх – науки, а является мышлением, радикально отличающимся от научного. Серьезность ответственности за чистоту науки неотделима от серьезности мышления философии, приводящего меня к постижению самого себя.
Сквозь мою жизнь прошло и то и другое; в ней был и постоянный интерес к науке, и требование принципиальной позиции по отношению к науке у того, кто выступает в роли философа; и утверждение необходимости науки, величия ее – и в то же время интерес к философствованию, требование преобразующего мышления, которое не приносит каких‑то реальных осязаемых результатов, утверждение, что смысл науки (но не ее правильность) зависит от философии. Результат был таков: я пытался самоутверждаться, выступая против презрения к философии со стороны многих представителей науки и против презрения к наукам со стороны недолюбливающих научный рассудок жрецов философии.
Другое следствие было таким: я решил, что в отличие от наук, где исследователь должен отделять себя от содержания познаваемого, при философствовании человек неотделим от своих философских идей в философии нет ничего, что можно было бы отделить от человека. Сам философствующий человек, его основные познания, его действия, его мир, его повседневный образ жизни, те внутренние его силы, которые сказывают себя в нем, – всего этого нельзя оставлять в стороне, если пытаешься вникнуть в его мысли и мыслить вместе с ним.
И для меня, и для моей жены остается самым драгоценным воспоминанием то время нашей совместной работы над «Философией», тем более, что с нами столь активно сотрудничал ее любимый брат, а мой друг Эрнст Майер (о нем в следующей главе). У нас только началась зрелая пора жизни. Философия позволила нам лучше постичь самих себя. На фоне того, что было в жизни ужасного и угрожающего, на фоне тех страшных событий, которые мы перенесли, будучи их участниками, работа по переводу всего этого в философские идеи казалась счастьем, к которому примешивалась некоторая тяжесть на сердце.
Писалось о чрезвычайном, из ряда вон выходящем – но в такой момент, когда мы сами обрели покой, когда наступил миг постижения и нашлись слова, чтобы выразить постигнутое. Жена переписывала мои рукописи, прочесть которые не мог никто, кроме нее. Она читала написанное мной и писала в ответ свои замечания. Это превратилось в своеобразную домашнюю переписку – наряду с нашими беседами.
Мы были особенно неутомимы в последний год работы над книгой. После того как рукопись была сдана в печать, мы поехали в октябре 1931 года в Белладжио, чтобы вместе, под лучами солнца, наслаждаться чистой красотой Комского озера и вилл подле него, испытывая ту веру в прелесть жизни в этом, а не в потустороннем мире, которая столь свойственна античности, отдыхая перед дальнейшими трудами.
О содержании моей «Философии» – она вышла в декабре 1931 года, но год был указан 1932 – я здесь не пишу. В ней философское мышление в его осуществлении разделяется в зависимости от способов трансцендирования. Все в целом не представляет собой единой системы. Отдельные главы необязательно читать по очереди, в том порядке, в котором они следуют друг за другом. Но каждая глава, взятая в целом, – это определенное движение мысли, в которое при чтении надо вникнуть разом, проделывая это движение вместе с автором.
Книга не называется – «Экзистенциальная философия». Ведь замысел ее заключается в том, чтобы в нынешние времена, весьма скромные в духовном отношении, обрести образ вечного философствования, взятого в полном объеме. Потому лишь второй том книги недвусмысленно называется «Прояснение экзистенции» – этот термин я уже восемь лет использовал на лекциях. Метафизику следовало не отбрасывать, а освоить и превратить в собственное достояние. Я сформулировал эту задачу в своей книге «Духовная ситуация времени», вышедшей в то же самое время, охватывая на миг смысл всего целого и называя это целое экзистенциальной философией.
«Экзистенциальная философия» – это мышление, использующее все конкретное знание о реалиях, но выходящее за его пределы; это мышление, благодаря которому человек хотел бы стать самим собой. Это мышление, которое постигает не предметы науки, а проясняет бытие того, кто мыслит таким образом и одновременно оказывает реальное воздействие на это бытие. Как философская мироориентация, это мышление выводит из привычного равновесия, поскольку решительно перешагивает все границы и рамки, установленные тем познанием мира, которое предполагает фиксированное понимание бытия; как прояснение экзистенции, оно апеллирует к своей свободе; как метафизика, оно создает пространство своего безусловного воплощения в деянии, взывая к трансценденции (о смысле, возникновении и устремлении этой философии более подробно написано в послесловии 1955 года к третьему изданию «Философии», том 1, стр. XV‑LV).
6. Эрнст Майер
В то десятилетие, когда я намеренно ничего не публиковал (с 1923 по 1931 год), необычайно большое и непосредственное влияние на мою работу оказал мой друг Эрнст Майер (1883–1952). Эрнста и меня связывало много общего. Мы были похожи, и сходство это было многообразным и неисчерпаемым. Общность между нами существовала всю жизнь, и каждый из нас всегда был готов откликнуться на зов другого.
Мы познакомились летом 1907 года. Оба были тогда студентами – медиками. Одногодки, мы проучились одинаковое количество семестров. На меня произвело впечатление упорство, с которым Эрнст принимался за изучение даже таких вопросов, которые обычно изучают мимоходом или вообще не изучают, считая занятия ими пустой тратой времени, либо полагая, что это предмет праздного любопытства: принципы медицинского познания; философские тезисы, встреченные в книгах и лекциях; вопрос о том, что такое дружба и что такое женщины; личные качества наших преподавателей; коллизии повседневной жизни. Непосредственно учебой он занимался не так интенсивно, если судить по количеству изучаемого материала, но мог осмыслить любой вопрос детально и глубоко.
Эрнст постоянно искал существенное, а также выяснял методы постановки вопросов и методы исследования. Долго и обстоятельно штудировать книгу было не в его обычае. Он, словно ясновидящий, сразу находил самые важные места. С таким студентом жизнь меня еще не сводила. Никаких высокопарных речей с претензией на сострадание, столь разнообразных тогда. Вместо этого – спокойное, рассудительное исследование, шаг за шагом, вопрос за вопросом, основательное продумывание позиции. Все это говорило о серьезном отношении к делу и производило на меня сильное впечатление.
«Мы говорим обо всем, только не о медицине», – написал я родителям о своем новом друге вскоре после нашей встречи.
По натуре я – человек сдержанный. Я всегда трудно сходился с людьми. Со школьных лет я страдал от одиночества, хотя у меня было немало знакомых. Проявлял я поначалу сдержанность и по отношению к Эрнсту Майеру, пытаясь ограничить тематику разговоров с ним только происходившим на лекциях по медицине. Но это мне не удалось. Эрнст повел себя со мной весьма свободно, что было достаточно смело с его стороны – ведь я мог неправильно понять это, если бы придавал большое значение условностям. Когда я вошел в анатомический театр, он встретил меня возгласом: «О, первый студент из Германии, которого я вижу!». Ему показалось, что этого вполне достаточно, чтобы познакомиться и сблизиться со мной. Меня тронула его нескрываемая симпатия ко мне и понимание тех путей, которыми я шел. Мне еще не доводилось встречать человека, который бы так глубоко понимал меня, одобрял и принимал все мое существо и все мои возможности. Моя сдержанность растаяла, так что я не ощутил никакого перелома и не впал в сентиментальность. Я с удивлением и счастьем откликнулся на его симпатию.
Он никоим образом не относился ко мне восторженно – скорее, резко критиковал. Так, однажды он следующим образом высказался по поводу моей тогдашней манеры быстро выносить суждения, легко отбрасывать то и это, утверждать, ничего не обосновывая: «Как вы можете так запросто относиться с презрением к чему‑то, если видите, как оно для меня важно?».
Такую отповедь он дал мне, когда я разнес в пух и прах книгу Риккерта, которую он как раз изучал в то время, – разнес, не обратив внимания на то, чем именно она его заинтересовала. Мы могли бурно полемизировать с ним, но вот что странно: я при этом не чувствовал нападок на себя. Наоборот, казалось, он заставляет меня вспомнить о моей собственной сущности.
В конце лета 1907 года мы расстались. Правда, благодаря ему я еще успел познакомиться 14 июля с его сестрой, моей будущей супругой. Эрнст продолжил свою учебу в другом университете. Больше мы никогда не жили в одном городе. Виделись, навещая друг друга, часто проводили вместе дни, порой – недели, и всегда сохранялось то взаимопонимание, которое ничем нельзя было поколебать, даже если порой и выявлялись значительные различия в понимании важнейших вопросов. Мы, без сомнения, были способны спокойно перенести такое.
Разговоры наши, начинаясь с обсуждения каких‑то конкретных тем, могли надолго – на несколько дней – перейти в интеллектуальную дискуссию, в которой он упорно отстаивал свою позицию, желая добиться моего понимания. Никогда еще в дружбе с мужчиной я не чувствовал такой заботы о себе. Он все время беспокоился, как бы я не оказался во власти заблуждения, как бы я не допустил ошибочного высказывания, как бы не проглядел проявлений истинно человечного.
Чудесны были и другие беседы – те, которые начинались, когда понимание между нами уже было достигнуто. В этих беседах часто случались паузы, а после них вдруг высказывались поразительно ясные суждения. Многие из таких высказываний Эрнста Майера перекочевали в мою «Философию»: «Я не сам себя создал», «А если мне будет недоставать самого себя?»
В 1910 году Эрнст поселился в Берлине, где занялся врачебной практикой, и оставался там вплоть до 1938 года, когда ему пришлось бежать. Врачом он был весьма необычным. Попытаюсь описать, каким.
Эрнсту выпала нелегкая жизнь. Его наследственность была отягощена психически, а потому он с молодых лет страдал депрессиями. Но сила духа позволяла ему противостоять болезни, и она отступала. Мне казалось, что именно этот глубокий душевный недуг развил в нем удивительную человечность. Его окружала какая‑то аура разума, но было в этом разуме нечто большее, чем просто разум – не враждебное, не демоническое по сути своей, а какое‑то бесконечно светлое и проясняющее его становление во всей подлинности.
В социальном отношении у него нигде не было твердой опоры. Скорее, его отовсюду вытесняли – открыто или втихомолку. И в распадающемся, полном насилия обществе он сделался просто Человеком, Человеком – как он есть. Строгие правила этикета, необходимость держать дистанцию, чтобы не уронить собственного достоинства, подобающая мужчине гордость – все это для него были только роли, которые он играл там, где представлялось необходимым, но решающего значения они для него не имели. Он мог тут же уступить, совершенно обезоруживая своей человечностью, и этим пробудить человечность в других. Как ни велика в нем была жизненная сила, она никак не становилась для него оправданием грубости, стремления расталкивать локтями других, лишь бы захватить место под солнцем.
Невозможно описать, как разом исчезали все его душевные метания и треволнения, когда он обретал какой‑то высший покой. Такое случалось, когда он сознавал, что находится на верном пути, и когда он помогал больным. Подобное отношение к людям предопределило его выбор профессии. Он просто не мог не вмешаться там, где видел боль и страдания, даже если его и не просили о помощи. Он принимал столь живое участие в ком‑либо, будто речь шла о его собственной судьбе. Он постигал разумом и добротой всю жизнь больного. Если в обычных ситуациях он встречал сопротивление больного, то ограничивался рутинной врачебной помощью. Но если человек изливал ему свою душу, он помогал ему не только как врач – он делал для него много больше. Он никогда не разыгрывал из себя спасителя. Он не собирался творить чудеса. Он старался пробудить силы самого больного. Больной чувствовал, что от него требуется опереться на собственный разум. Помогать Эрнст хотел при всех обстоятельствах. Он не желал признавать, что бывают такие ситуации, в которых бессмысленно что‑то делать, потому что не осталось никаких шансов. Облегчать страдания, оказывать помощь и не открывать больному тайны – до самого конца! Ни один больной не должен чувствовать себя покинутым. Он часто цитировал слова: «И у врат могилы он взращивал древо надежды!».
Такой человек не для всех мог быть подходящим врачом и не для каждого – другом. Подчас он бывал очень неудобным. Поэтому мнения тех, кого сводила с ним жизнь, разделились.
Одни принимали его всей душой и становились его самыми верными пациентами. Другие не выносили его, им претила строгость его требований и неумолимая трезвость, с которой он взирал на мир. Если ему самому доводилось видеть ужас человеческой измены, он с тяжелым сердцем повторял слова Стриндберга: «Жаль людей». Врач и философ в нем были неразделимы. Врачевание и стало его конкретной философией.
На мое философствование Эрнст оказал большое влияние – как всей своей жизнью, так и тем, что он говорил. В работе над моей трехтомной «Философией» он, однако, принял непосредственное участие. Без него это произведение не стало бы таким, каково оно есть. Со свойственной ему скромностью» Эрнст в 1927 году попросил меня, если это возможно, прислать ему черновики моей книги, которые мне уже не нужны, вместо того чтобы выбрасывать их в корзину для мусора. Я в ответ послал ему машинописные копии первых моих записей, представлявших собой уже нечто связное. Началась наша совместная работа: обмен вопросами и ответами, предложениями и мнениями, по большей части в письмах, а при каждой встрече – и устно. Он был просто неповторим в своей полной самоотверженности, когда занимался моими делами совершенно как своими собственными. Он не только прочел все мои рукописи, но и снабдил их критическими замечаниями. Он повлиял на композицию глав, на содержательные моменты и на стиль книги. Мало сказать, что участие и поддержка Эрнста давали мне мощный импульс для работы; он оказал мне и совершенно конкретную помощь – помог обогатить и улучшить текст во многих местах. Если, по его мнению, мне что‑то удавалось, он радовался, а когда полагал, что у меня что‑то не получилось, терзался больше, чем я. Он считал, что я чересчур беззаботен, и бранил за легкомыслие, высказывая замечания и серьезно, и в шутливой форме, когда дело касалось мелочей «Если костюм сшит великолепно, но у него отсутствует одна пуговица – пиши пропало». Некоторые субботы и воскресенья он проводил в небольшом замке неподалеку от Берлина, чтобы в полном уединении, отрешившись от работы, без помех углубиться в чтение написанного мной. Часто в перерывах между приемами больных он заходил в кафе «Жости» на Потсдамерплац, чтобы, сидя там, вникнуть в особенно трудные места моей рукописи. В саквояже с врачебными инструментами он всегда возил мои наброски, чтобы читать их в дороге. Вплоть до последнего дня перед отправкой рукописи в типографию он звонил из Берлина в Гейдельберг, чтобы устранить в ней какие‑то недочеты.
При таком сотрудничестве в конце концов уже было невозможно разделить, что исходило от него, а что – от меня. Это было сотрудничество в создании книги, а не улучшение уже готовой рукописи.
Такое уже не повторилось. Мы попытались еще раз, когда я писал книгу о Ницше. Эрнст и здесь высказал множество критических замечаний, но достичь такого же чудесного прояснения содержания работы еще раз не удалось.
Тогда мой друг виделся мне таким. Занимаясь врачебной практикой, он не имел времени, чтобы штудировать большие произведения, да у него и не было такого желания. Поэтому читал он немного. Однако какой‑нибудь глубокий тезис вызывал у него собственные философские размышления, и то, что он схватывал, выделяя – в философии, в науке, в поэзии, в музыке, в искусстве, даже в политике, – оказывалось самым главным, словно он обладал даром, видя все в целом, проникать взглядом вглубь, вплоть до самых предельных оснований. Другие его друзья, так же как и я, бывали потрясены, наблюдая, как он мгновенно выхватывал наиболее существенное при самой скудной информации. Но сам он не писал. Правда, в двадцатые годы он опубликовал две содержательные статьи о социальном положении врачей, что было тогда актуально. Статьи носили отпечаток его личности. Однако решился написать он только тогда, когда это отказался сделать я, а ситуация, тем не менее, того требовала. Со свойственной ему скромностью он полагал, что у друга получится лучше, а потом на деле доказал противоположное. Но в целом он отказался от писательской стези и считал тогда такой отказ совершенно естественным: при чрезвычайной одаренности интуицией у него недоставало усидчивости; при выдающейся способности суждения ему не хватало работоспособности; при легкости суждений, основанной на умении моментально схватывать суть целого, соль ситуации, главное в человеке, он не обладал способностью выстраивать последовательные рассуждения и опираться на них.
Все изменилось, когда гитлеровская Германия лишила его врачебной практики и заставила бежать. Он оказался в ужасном положении эмигранта. В Голландии его вначале поместили в лагерь за нелегальный переход границы. Лагерь находился в монастыре, и Эрнсту, по его просьбе, часто предоставляли монашескую келью, чтобы он мог там без помех заниматься изучением философии. По ходатайству высокопоставленных лиц он был освобожден, но недолго вел вольную жизнь – предательское вторжение в Голландию поставило под угрозу его жизнь и жизнь членов его семьи. Три года их прятала самоотверженная голландка Мария фон Бовен и опекала небольшая группа Сопротивления, состоящая из голландских студентов. Там, в изоляции от мира, ежедневно подвергаясь смертельной опасности, Эрнст – только потому, что был истым философом, – смог подняться над страхом, над всем ужасом ситуации и заняться реальной спокойной работой. Его мудрая уравновешенность определяла весь распорядок жизни дома, побуждала к осторожности всех его обитателей. Только потому все закончилось счастливо.
Именно в то время, когда напряженная настороженность, направленная вовне, сочеталась с полным внутренним покоем, его философствование обрело свой собственный язык. Закончив работу по дому, которую он определил делать себе, Эрнст на протяжении долгих часов сидел на своем наблюдательном посту у окна, за занавеской, держа на коленях свою рукопись, которая с каждым годом прибавляла в объеме – до того дня, когда мы обрели свободу и возможность встретиться вновь.
С 1939 по 1945 год мы не виделись, с 1941 – не могли переписываться. Но, не получая друг от друга вестей, мы продолжали развивать ту философию, которая была обретена нами, по существу, в совместных усилиях, и когда встретились вновь, то привезли с собой рукописи наших книг: Эрнст – «Диалектику незнания» (вышла в Издательстве литературы по проблемам права и общества, Базель), я – «Об истине» (вышла в Издательстве Р. Пипера и К°, Мюнхен).