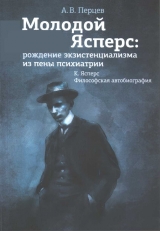
Текст книги "Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии"
Автор книги: Александр Перцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
До сих пор в этой книге жизнь Карла Ясперса представала перед нами просто как череда событий. И даже в таком виде она представляет интерес– для человека любопытного. Однако Гераклит из Эфеса заметил, что многознание мудрости не научает: мудрый должен уметь постигать стоящий за фактами смысл.
Можно ли постичь смысл, который стоит за фактами жизни Ясперса?
Это – задача непростая.
Смысл в свою жизнь вносит сам человек. Его жизнь не «складывается» сама. Человек сам «складывает» ее, определяя ее смысл выбором своих поступков.
Но, к сожалению, не только он один задает смысл своей жизни.
Этим же заняты и все другие люди, с которыми он взаимодействует. Они – родители, наставники, начальники, авторитетные товарищи – тоже всячески пытаются задать смысл его жизни. Даже если и не ставят перед собой такую задачу.
Ведь всякий, с кем я общаюсь, видит меня и смысл моей жизни по – своему. Я для него – всего лишь эпизод в его собственной жизни. Но этот эпизод всегда имеет в ней некоторый смысл. Каждый человек, с которым я общаюсь, наделяет меня своим смыслом. Иногда он не считает нужным сообщить, какой смысл он видит во мне. Иногда, наоборот, всячески пытается донести до меня этот мой смысл с помощью своих слов и поступков или радикальнее – с помощью бумажных директив и инструкций.
Настоящий бюрократ – реформатор настолько нагл в своем крайнем простодушии, что свято верит – именно он сможет легко определить надлежащий смысл жизни для всех других людей без исключения; просто у него пока не хватает времени на всех. Глупее такого бюрократа только философ – просветитель, который с порога объявляет предрассудками мысли всех прочих людей и начинает эти предрассудки искоренять, исправляя все человечество сразу.
Люди непрерывно навязывают друг другу свои смыслы жизни. Все время идет борьба разнонаправленных воль. Один хочет одного, другой – другого, а в результате, по правилу «сложения сил», получается то, чего не хотел никто конкретно. Сложение множества разнонаправленных смыслов жизни и воплощение их в социальной материи дает в итоге бессмыслицу. Получается тот бытовой абсурд, с которым все мы сталкиваемся ежедневно. Политик привык воспринимать такой повседневный абсурд как нормальное, привычное состояние и каждый день прилагать сизифов труд, чтобы обуздать хаос и энтропию. Политику некогда выяснять, откуда этот бытовой повседневный абсурд взялся, ему надо производить очередные преобразования хаоса, реализуя политику как искусство возможного.
Но у историка философии – иная задача.
Он должен распутать итоговый клубок наличного хаоса, разделить и проследить нити, ведущие к исходным смыслам. Он начинает с того, что получилось, и движется вспять, проясняя изначальную диспозицию желаний и устремлений. Историк философии должен выявить, от пересечения каких индивидуальных смыслов жизни возник тот общий абсурд, со смыслового обуздания которого начинается каждый наш день.
Что представляет собой жизнь каждого человека – и, в частности, жизнь К. Ясперса, о которой написана эта книга?
Это череда актов, посредством которых человек, сознательно или бессознательно, пытается утвердить себя в общении с другими, доказать словом и делом собственную правоту, настоять на своем и отстоять свою точку зрения. Все прочие делают то же самое, в результате чего возникают жизненные ситуации как столкновения опредмеченных смыслов.
И каждой из таких жизненных ситуаций человек придает свой собственный смысл, вписывая ее в свою собственную, индивидуальную картину мира.
Каждый человек исходит из того, что он прав.
Каждый человек исходит из того, что он способен видеть мир как целое.
Каждый человек исходит из того, что он понимает, куда движется общество, в котором он живет.
И на этом общем фоне каждый постоянно делает такой выбор, который должен характеризовать его как достойного, заслуживающего уважения человека.
Даже преступники, рассказывая о своих преступлениях, изображают себя как достойных людей, павших жертвами злодеев и обстоятельств. Великие бездельники и лентяи, а также трусы, желая выглядеть достойными людьми, изображают себя великими мудрецами. Только они постигли общий смысл вселенной, ибо невероятно умны. Но вот папа и мама учили в детстве, что при любом столкновении интересов должен уступить тот, кто умнее. Потому они ничего и не стали делать в жизни, уступая всем – ведь они были умнее всех.
Каждый человек предлагает окружающему миру свое видение космоса, общества и себя самого. Теперь он обречен стоять на своем – доказывать правильность своего мировоззрения. Отстаивать свой взгляд на мир человеку придется постоянно, всю жизнь. Эпизодические демонстрации своего видения космоса и человечества в нем здесь не помогут. Потому что доказывать свою правоту придется не только периодическими публикациями, но и ежедневными поступками.
Сегодня всякий знает: чтобы доказать что‑то, надо повторить это сотню раз с тупым однообразием (это называется «слоган»), Только однообразная словесная формула, бьющая, словно таран, в одно и то же место, сможет пробить стену – или толстую черепную коробку утратившего письменность современника. Сегодня победила революция двоечников, потому что люди сложные – неубедительны. Ведь чем сложнее человек, тем переменчивее его представление о себе, обществе и космосе. Он знает чересчур много, а потому сомневается, колеблется, избегает однозначных суждений. А в результате теряет в убедительности, проигрывая в ежедневном доказывании своей правоты людям, более примитивным.
Задача философии экзистенциализма как раз и состоит в том, чтобы помочь людям сложным и переменчивым отстаивать свои смыслы жизни – в борьбе с простаками, которые навязывают миру свои однообразные мнения. Простаки, как уже было сказано, более убедительны, более успешны в изнурительной борьбе мнений. Натуры примитивные не разбрасываются, потому что у них предельно мало мыслей – и, значит, мало вариантов выбора. Именно потому они нудны и методичны, а стандартность собственного мышления хотят сделать всеобщим идеалом – даже в образовании.
Тонкий психолог А. И. Герцен писал о примитивной жене, которая стягивает вниз, к себе, интеллектуального и развитого мужа:
«Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, без других захватывающих душу интересов, одолевает; человека возьмет одурь, усталь; он незаметно мельчает, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокаивается, запутанный нитками и тесемками <…> Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона: она отрезывает его силу, и от нее никак не отстережешься. Между обедом, даже и очень поздним, и постелью, даже тогда, когда ложишься в десять часов, есть еще бездна времени, в которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, в которое белье сочтено и расход проверен. В эти‑то часы жена стягивает мужа в тесноту своих дрязг, в мир раздражительной обидчивости, пересудов и злых намеков» [81]81
Герцен А. И. Соч. в 9 т. М.: Гослитиздат, 1955–1958. Т. 5. С. 238. См. также: Герцен А. И. Былое и думы. М.: Захаров, 2003. С. 549.
[Закрыть].
Когда А. И. Герцен писал это, университетского образования женщины еще не получали. Потому мужчина с университетским красноречием имел равные шансы в противоборстве с методичной женщиной без высшего образования. Затем ситуация изменилась – противостояние полов было перенесено из семьи в университет. Свою методичность и настойчивость женщина вполне научилась выражать на университетском языке (по крайней мере, имеющим вид университетской латыни). В свою очередь, многие мужчины естественнонаучной и технической ориентации отбросили на протяжении XX века гуманитарные составляющие своей культуры и стали такими же примитивно – нудными в этой сфере, как герценовские домохозяйки; их стали называть хорошими методистами, хотя любой прием, использованный дважды, превращается в метод. Так что все перемешалось, и пол нынче во внимание принимать не стоит. Есть люди тонкие, и есть люди примитивные, настойчивые и пробивные в своем единообразии. Они—το и имеют преимущественные шансы на победу в установлении господствующих в обществе жизненных смыслов.
Учитывая это, экзистенциализмкак философия желает помочь людямболее развитыми тоньше чувствующим,научив их стоять на своем. Вначале он заставляет человека четко отличать свое от чужого, подлинное от неподлинного, собственное от навязанного. А потом учит твердо отстаивать это свое, собственное, подлинное в борьбес другими, нудными и примитивными людьми, тупо навязывающими миру свои тягостные и одуряющие смыслы.К тому же, экзистенциализм не только учит хорошо понимать себя самого. Он учит еще и понимать других – во всем их разнообразии. Существо примитивное может быть только собой. (Сегодня множество попсовых певиц призывают не стесняться этого – «Оставайся сама собой!»; но иного выхода у тех, кому адресован этот призыв, и нет – быть Другими они и не смогут, даже если захотят; они как плохие актрисы, которые умеют играть только самих себя).
Экзистенциализм учит понимать других – как примитивных, так и сложных. Примитивные, стандартные постигаются как неподлинное. Сложные, уникальные – как подлинное. Экзистенциалисту внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений, и бесхитростный англо – саксонский эмпиризм. Экзистенциализм учит не просто отличать себя от тупостандартного, как современное российское образование, человека, но еще и позволяет постичь, почемуименно он туп, ведь эта его тупость тоже основана на определенном понимании смысла мира. Понять тупого и повлиять на него – значит постичь, какой смысл жизни важен для него и какую картину мира он пытается утверждать своими поступками.
Стало быть, понимающая история философии– это наука вовсе не праздная, созданная из досужего любопытства и склонности записывать за другими. Она актуальна и необходима для современника, который хочет разбираться в жизни – даже тогда, когда она повествует о жизни философов далекого прошлого. Понимающая история философиипоможет каждому разобраться в том, какие смыслы он готов утверждать своей жизнью, а также в том, какие смыслы жизни утверждают в мире его враги и возможные союзники.
Понимающая история философии – это основа практической философии жизни и база для практической психологии.
Если согласиться с этим, то мы должны понять, какой смысл хотел утвердить своей жизнью молодой Карл Ясперс. Мы уже видели, что отец навязывал ему один смысл. Мать – другой. Директор гимназии – третий. Склонные к академическим шуткам ученые, валяющие дурака на отдыхе, – четвертый.
Сложение этих смыслов – векторов дало неожиданный результат, смысл, которого не хотел навязать Ясперсу никто. Он, конечно, послушал всех – и добавил к их смыслам свой. Что же вышло в результате?
* * *
Все, что можно было узнать до сих пор из этой книги про жизнь юного Карла Ясперса, кажется, ставит в тупик. Да был ли в этой жизни вообще какой‑то определенный смысл? Или он, как всякий молодой человек, метался по жизни, бросался из крайности в крайность, а то и вовсе плыл порой, что называется, без руля и без ветрил?
Вспомним: школьник Карл Ясперс обещал отцу пойти в юристы или бизнесмены. Пообещал торжественно, но… оказался в студентах медицинского факультета.
Хорошо. Можно объяснять такой поворот угрожающим состоянием здоровья: что же удивительного, если больной юноша захотел изучать медицину и узнать о способах лечения людей?
Но ведь у Карла Ясперса больными были легкие.Здравый смысл подсказывает: чтобы помогать себе наилучшим образом, ему надо было бы сосредоточиться на изучении легочных заболеваний. Став врачом – пульмонологом, он лечил бы себя – и других тоже. Но юноша не пожелал специализироваться на изучении легочных заболеваний. Он вообще не стал изучать заболевания тела.
Он избрал психиатрию, то есть врачевание души.
Есть ли тут вообще какой‑то смысл? Или мы имеем дело с полным абсурдом? Юноша с больными легкими решает отказаться от изучения экономики и права, избирая медицину. Но в рамках медицины он изучает не легочные заболевания, а психиатрию.
Странно. Но это еще не все!
Избрав психиатрию, студент медицинского факультета вдруг принимается изучать состояния девочек – подростков, которые, работая нянями, убивали подопечных детей.
Для чего это ему? Какой в этом смысл?
Девочки – убийцы совершали свои злодеяния потому, что ими овладевала тоска по родному дому.
И это тоже, казалось бы, абсолютный абсурд. Разве мы не привыкли считать, что тоска по родине, которую испытывает человек, оказавшийся на чужбине, – это чувство, характеризующее его с самой лучшей стороны? Если бы это было не так, разве воспевали бы свою ностальгию поэты в столь прекрасных стихах? и разве пели бы песни о своей далекой, прекрасной родине все, кто оказался в разлуке с нею?
А тут тоска по родинерассматривается как причина преступлений.
Кажется, абсурд достигает своего апогея.
Он становится полным, тотальным.
Ничто не связывается ни с чем никакой смысловой связью.
Зачем легочному больному психиатрия, а в психиатрии – изучение переживаний зловещих тинейджеров – убийц? Что это вообще за тема для диссертации? к области какой науки эта тема принадлежит?
Юриспруденция – не юриспруденция, медицина – не медицина, психиатрия – не психиатрия, поэзия – не поэзия, а вообще не – разбери – пойми‑что.
Не доказывает ли подобный выбор темы, что ученые вообще берут темы «с потолка»? Не свидетельствует ли он, что человеческая жизнь вообще неразумна?
Ведь мы помним, что К. Ясперс желал потратить оставшееся недолгое время жизни с максимальным эффектом. И что же?
Разве не выбрал он в результате самую неважную для себя из всех самых неважных тем? Тему, абсолютно никак не связанную с его собственной жизненной ситуацией? Неужели исследование взаимосвязи ностальгии и преступлений помогло ему самому хоть немного – в борьбе с его легочным заболеванием? Или, быть может, примитивные сельские девочки, которые убивали грудных детей, представляли какой‑то интерес чисто по – человечески?
А может, такой выбор темы свидетельствует о том, что ученый совершенно не принадлежит себе? Что он движется в своей науке, словно лунатик? Что некая непостижимая сила, именуемая научным интересом, властно диктует ему выбор темы, совершенно не сообразуясь с его личными потребностями и особенностями биографии? И эта сила берет его без остатка и влечет неведомо куда? А исследователь потом только сам удивляется выбору своей темы?
* * *
Представляется, что на все перечисленные вопросы можно дать отрицательные ответы.
Нет, жизнь молодого Ясперса вовсе не была бессмысленной. Нет, он вовсе не взял тему для диссертации произвольно.
Все, что он делал, служило решению его собственных жизненных проблем.
Выбор К. Ясперсом темы для диссертации может показаться абсурдным, нелогичным, немотивированным только поверхностному наблюдателю, который не способен вникать в «понятные связи» (В. Дильтей). Но «логика» этого выбора – а во всем есть своя логика, даже в безумии! – вовсе не лежит на поверхности и не открывается первому же взгляду.
Попытаемся же показать, как решается эта загадка – как связана бронхоэктатическая болезнь К. Ясперса с изучением преступлений, совершенных девочками на почве ностальгии?
Но начнем разбираться издалека, опять‑таки памятуя о том, что аналогии дают ключ к пониманию многого.
Cogito ergo sum: попытка медицинской интерпретации тезисаМыслю, следовательно, существую.
Этот тезис французского мыслителя XVII века Рене Декарта известен всякому образованному человеку.
Его знали и использовали даже советские юмористы, писавшие в «Литературную газету». Они придумали фразу: мыслю,следовательно, существую; не мыслю,следовательно, живу.Эта шутка прекрасно раскрывает нам суть расхожей, общепринятой интерпретации тезиса Р. Декарта.
Она такова.
Декарт, как и все рационалисты – интеллектуалы,утверждает, что по – человечески существует только мыслящий человек. Тот, кто не мыслит, звания человека не заслуживает. Он подобен овощу или животному. Значит, общество должно признать выдающееся значение непрерывно мыслящей интеллигенции, отметив это признание надлежащей заработной платой. Но – ухмыляется с горечью юморист – на деле ничего подобного не происходит. Существование мыслителя с его мизерной зарплатой жалкое. А настоящая жизнь – у того, кто не мыслит, именно по этой причине имея куда более высокие доходы.
Как бы то ни было, а у интеллектуалов всего мира принято полагать, что интонация, с которой надо произносить Cogito ergo sum,должна быть гордой и назидательной, приблизительно такой интонацией, которая свойственна «Оде к радости» на слова Ф. Шиллера – я мыслю, и этим горжусь, ведь только мысля, я выступаю как человек разумный.Так, кстати, именуется мой биологический вид. Больше в природе не мыслит никто. Так что – как это ни парадоксально – вся моя биология заключается в мышлении.
Но вдумаемся: так ли это хорошо, когда вся твоя биология сводится только к мышлению? Не есть ли это признак весьма болезненного состояния?
Не будут же здоровые люди говорить: «Жизни в нас осталось – на раз помыслить…».
Думается, что слова Декарта «Мыслю, следовательно, существую», превращенные в гимн разума, были вырваны из контекста, в котором они были произнесены.
Изначально они вовсе не были гимном разуму.
Они были криком больного человека, полным ужаса и отчаяния.
Еще во времена работы в психиатрической клинике Карл Ясперс требовал от больных припоминать и максимально точно выражать в словах все, пережитое ими в состоянии психоза. Со слов одного из больных он описал переживание психоза так:
«Существуют меланхолические состояния с ярко выраженным, искусственно сдерживаемым извне стремлением к самоубийству, состояния, в которых человек пребывает поистине в безнадежном отчаянии. Ничего больше не существует, все – сплошная иллюзия, все просто подстроено искусственно, чтобы обмануть. Все люди мертвы. Мира больше нет. Что касается врачей и близких, то это просто фигуры – призраки. Больной вынужден существовать в одиночестве. Он – “Вечный Жид”. Но и он тоже в действительности не существует, и он тоже – всего лишь кажущееся существование. Ничто не обладает никакой ценностью. Больной, по его словам, не может испытывать никаких ощущений, и при этом у него – безмерный аффект отчаяния. Он – не тот человек, что прежде. Он – всего лишь точка. В чувствах и бредовых представлениях это переживание выражается более детально развернуто: тело прогнило, оно полое внутри, проглоченная еда летит сквозь пустое пространство. Солнце погасло и т. п. В этом состоянии существует только интенсивность аффекта, отчаяние как таковое» [82]82
Jaspers K. Psychologie der Weltanschauungen. Mьnchen; Zьrich; Piper, 1985.S. 300
[Закрыть].
Забудем на миг, что все это рассказал о своем состоянии Карлу Ясперсу психически больной человек. Предположим, что это – слова некоего философа, который излагает свою мировоззренческую доктрину. Лишь слегка перефразируя его текст, мы получим вполне картезианскуюфилософскую концепцию.
Вот она.
Я подверг все тотальному сомнению и понял, что окружающий мир реально не существует. Даже Солнце погасло. Люди вокруг – врачи и близкие – это призраки, наваждения. Все вокруг обманывает меня. Даже существование у меня тела – иллюзия. Тела нет. Когда я глотаю пищу (тоже, впрочем, иллюзорную), она проваливается в пустоту, которая существует внутри меня. Нет никакого пищеварительного тракта – только пустота, и всех остальных частей тела тоже нет. Только пустота.
Именно это и пытается сказать больной, описывая себя как «точку». В Новое время мысль противопоставляли материи, считая отличительным ее свойством протяженность, то есть способность иметь размеры. Говоря проще, все материальное имеет длину, ширину, высоту, толщину, глубину и т. п. А вот нематериальная мысль размеров, которые можно измерить линейкой, не имеет. Как не имеет размеров и точка в геометрии. Больной представляется себе именно точкой, у которой нет размеров. Он, стало быть, нематериален. Он – чистая мысль. Он существует только в том смысле, что мыслится, т. е. мыслит себя.Объявляя себя точкой, больной, тем самым, хотел сказать, что у него нет тела; он – лишь не имеющая размеров мыслящая точка. Он мыслит – и только в этом состоит его существование.
У меня нет никаких ощущений – они иллюзорны. Ведь я ощущаю благодаря глазам, носу, ушам, языку, коже. Как же я буду что‑то ощущать, если тела у меня нет? Единственное, что у меня остается несомненного – я мыслю, то есть сомневаюсь.
Больной, припоминавший по просьбе К. Ясперса свое восприятие себя и мира во время психоза, описывал именно декартовское состояние «cogito ergo sum».Но был ли он рад этому состоянию? Ликовал ли он, превратившись в один только сомневающийся разум? Считал ли он свои откровения гимном разуму?
Отнюдь нет.
Молодой врач Карл Ясперс не оставляет на этот счет никаких сомнений. Нет, больной таким состоянием своим отнюдь не гордился, а испытывал сильнейшие страдание и страх. Такое состояние, в котором для человека нет ни мира, ни собственного тела, ни ощущений, в котором все иллюзорно и сомнительно – такое состояние вызывает у человека отчаяние в чистом виде, которое толкает его на самоубийство.Причем удержать больного от самоубийства необычайно трудно.
Что‑то непохоже все это на гимн разуму. На торжествующую песнь рационализма.
У пациента К. Ясперса такое описание психотического состояния вовсе не было гимном разуму. Но было ли гимном разуму подобное же описание состояния cogito ergo sumу самого Декарта? Если вдуматься, то с чего бы это Рене Декарту запевать такой гимн? Ведь жизнь его отнюдь не располагала к подобным торжественным песням…
Десятилетнему мальчику Рене Декарту отвели в иезуитском интернате Ля Флешь отдельную спальню. Этот потрясающий факт едва ли произведет надлежащее впечатление на сегодняшнего читателя – ведь он не знает нравов и обычаев иезуитов. Но можно предложить ему для лучшего понимания такую аналогию: одному из курсантов школы КГБ вдруг предоставили отдельное спальное помещение – и, вдобавок, разрешили оставаться в постели до обеда.
Согласимся, что здесь есть чему удивиться. Многих историков – пуристов, которые не признают никаких аналогий, приведет в замешательство наше сравнение интерната иезуитов Ля Флешь и школы КГБ. Но, если вдуматься, значительное сходство между этими образовательными учреждениями существует. КГБ во время своего существования позиционировал себя как «вооруженный отряд партии». Его задачей была, следовательно, борьба за чистоту коммунистической идеи, а также против разложения в партийных рядах. КГБ отличался суровой, воинской дисциплиной, требовал от своих сотрудников аскетического образа жизни. Даже А. Д. Сахаров, которому пришлось постоянно общаться с представителями этой организации, отмечал ее некоррумпированность.
Орден иезуитов – монашеский орден «Общество Иисуса» (“Societas Jesu”) – тоже был основан для борьбы за чистоту христианской веры, против разложения священников, а также для ведения контрпропаганды и противостояния идейным противникам. Создание такой организации было, конечно, мерой чрезвычайной.(Как и создание ЧК, предшественницы КГБ). Устав Ордена Иезуитов был утвержден Римским папой в 1540 году, а клятва создавших его единомышленников состоялась в 1534 году. Острая потребность «служить вере и содействовать справедливости» возникла у основателей Ордена в ответ на невероятное разложение верхушки католической церкви, которое произошло в период правления папы Льва X (1513–1521 гг.). Этот период даже католические историки Ватикана назовут жесточайшим испытанием, которому Бог подверг свою церковь.
Папа Лев X принадлежал к аристократическому роду Медичи и был вторым сыном герцога Флоренции. Но высшие католические священники по традиции набирались не из монастырей, а из семей светской аристократии. Будущего папу с детства определили на церковную службу, а уже в 13 лет сделали кардиналом.
В 37 лет он вступил на папский престол – и при этом заявил: «Насладимся папством, потому что Бог дал нам его». Он стал жить в немыслимой роскоши, не подобающей христианам. Больше того: он не оставил светских привычек, возглавив церковь. Он держал великолепную конюшню, давал роскошные банкеты, выезжал на охоту с огромной свитой (иногда она насчитывала две тысячи всадников). Он был большим поклонником театра, даже сам пел арии под оркестр (правда, перед небольшой избранной аудиторией).
Именно он и придумал то, что сегодня называется Возрождением: объявил себя «младшим мастером» при Боге и продолжателем Его творческих дел. Именно эту идеологию воплощали в своем творчестве приглашенные им в Рим художники и мыслители: за восемь лет и восемь месяцев своего понтификата он собрал в Риме Микельанджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Корреджо, Тициана, Ариосто, Гвиччардини и Макиавелли, не считая многих звезд второй величины, со всего мира.
По подсчетам Б. Рассела, в так называемой эпохе Возрождения участвовало всего около 200 человек: это художники и мыслители, которых собрал вокруг себя Папа и вдохновлял их. Возрождение дало человечеству великолепное искусство, философию и литературу, но для церкви обернулось колоссальными расходами, да еще и на такие дела, которые, с точки зрения рядового верующего, были небогоугодными, порочными, подрывающими основы веры.
«Сам Папа жил на неслыханно широкую ногу, расходуя по сто тысяч дукатов в год. Помимо того что он содержал личный штат прислуги в количестве 683 человек (сюда входили музыканты его оркестра и актеры его театра), он еще выплачивал щедрые субсидии целому легиону ученых – гуманистов, художников и композиторов».
Кроме финансирования «эпохи Возрождения», Папа щедро тратил ватиканскую казну на археологические раскопки, карнавалы, войны и азартные игры. Расходы папской казны значительно превышали доходы. Вскоре Папе – гуманисту пришлось даже организовать продажу ценной церковной утвари и священных сосудов.
Под влиянием роскошествующего Папы развратились и его подчиненные. Они тоже почувствовали себя вельможами, призванными жить в роскоши. Такая жизнь даже получила теоретическое оправдание и обоснование, которое ныне принято называть гуманизмом эпохи Возрождения. Этот гуманизм требовал возродить античное видение мира и жизни, воссоздать чувственное искусство, т. е. языческоелюбование телесной красотой. Изможденная постами, укрытая от всех взглядов одеждой средневековая фигура должна смениться в искусстве пышным, прекрасным телом, без стыда демонстрируемым окружающим. Человек эпохи Возрождения не должен испытывать смирения перед Богом и считать себя рабом Всевышнего. Нет, человек должен сознавать себя соработником Бога, «младшим мастером», который даже способен и поспорить со «старшим мастером» Отцом Небесным – бросить ему какие‑то обвинения.
Одной формой реакции на такое «гуманистическое разложение» верхушки католической церкви стала Реформация, представители которой объявили роскошествующего Папу дьяволом. Суровые протестанты потребовали аскетизма, строгой морали, упорного труда и твердости в вере. Другой формой реакции стало основание Ордена Иезуитов – с его помощью церковь стала сама бороться с разложением в своих рядах.
Орден возглавил Игнатий Лойола – человек военный, участвовавший в боях. Он сразу же ввел в Ордене суровые армейские порядки: сам стал генералом Ордена, остальные его члены получили звания офицеров и рядовых. Приказы исполнялись неукоснительно. Вертикаль власти и централизация были доведены до совершенства.
Свои кадры иезуиты готовили в коллегиях – закрытых средних учебных заведениях. Одной из таких коллегий и была Ля Флешь, куда был отдан десятилетний Р. Декарт. Любая церковь всегда умела организовывать отповедь инакомыслящим. Но у иезуитов технология контрпропаганды была доведена до такой виртуозности, что она впечатляет по сей день. Уже в XVII веке любая книга, вышедшая в Европе, в течение года (!) попадала в библиотеку коллегии Ля Флешь. Здесь специальные наставники учили молодых католических пропагандистов профессионально критиковать ее: разбирать по косточкам, подвергая сомнениювредоносные мысли автора.
Воспитанники интерната Ля Флешь спали в общих спальнях. Подъем у них происходил чуть свет, затем они отправлялись «строем на молитву, на завтрак, на учебу, на обед, на прогулки – воспитание единомыслия будущих сержантов духа начиналось со строевой подготовки».
И вот вдруг в этом суровом иезуитском интернате десятилетний Рене Декарт получил в свое распоряжение отдельную спальню! Дело немыслимое! На это наверняка имелась веская причина…
Она имелась.
Рене Декарт умирал. Умирал от болезни легких.Он сильно кашлял по ночам и будил курсантов иезуитской пропагандистской школы. А им и без того предстоял изнурительный день.
Рене Декарта в коллегию Ля Флешь отдал отец – после того, как мать годовалого мальчика умерла от скоротечного легочного заболевания. Логика решения была такой. Врачи все равно отводили десятилетнему мальчику не больше нескольких месяцев жизни. Этот неутешительный прогноз они повторяли с завидным упорством, как только истекал срок предыдущего – и такая гипердиагностика продолжалась целых десять лет, пока Р. Декарту не исполнилось двадцать! Отец Р. Декарта – член совета парламента Бретани и крупный землевладелец – был слишком занят делами и не мог обеспечить обреченному мальчику надлежащий уход. Оставалось только поместить его в такое место, где бы он был поближе к Богу. Устроить Декарта в иезуитский интернат оказалось нетрудно: ректор интерната – патер Шарле – был родственником мальчика по материнской линии.
Отцы – иезуиты пожалели обреченного мальчика: определили ему вольный режим жизни и посещения занятий. Привычка оставаться в постели почти до полудня осталась у Декарта на всю жизнь. Именно лежа в постели и размышляя, он сделал свои философские и математические открытия.
Скорбный легкими Карл Ясперс также имел на протяжении всей жизни привычку работать лежа– на специальном рабочем диване.За что и был порицаем своим другом М. Хайдеггером.
Но не только это роднило К. Ясперса и Р. Декарта.
Еще их объединяла философия– единственно возможная для легочного больного, который решил не смиряться с приговором врачей. Исходный постулат этой философии – подвергнуть сомнению всё, кроме своей способности сомневаться.
Представим себе, как посреди иезуитской интеллектуальной казармы лежит до полудня в постели тщедушный юноша с нездоровым, лихорадочным блеском глаз. Он вовсе не собирается умирать. Он готов отчаянно бороться за свою жизнь. Но для того, чтобы набраться духадля отчаянной борьбы за жизнь, надо подвергнуть сомнениюдиагнозы врачей.








