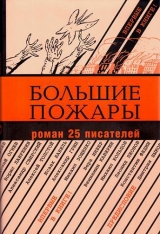
Текст книги "Большие пожары"
Автор книги: Александр Грин
Соавторы: Алексей Толстой,Вениамин Каверин,Михаил Зощенко,Исаак Бабель,Леонид Леонов,Алексей Новиков-Прибой,Борис Лавренев,Вера Инбер,Лев Никулин,Владимир Лидин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Константин ФЕДИН
Глава XV. Итоги и перспективы

Извозчик осадил лошадь у мрачного здания.
В воротах, гудевших звоном железа, Корт и Куковеров столкнулись с начальником Допра.
– Товарищ Корт…
Начальник Допра скосил глаза на Куковерова. Корт поймал его взгляд.
– Познакомьтесь… Товарищ Куковеров, мой новый следователь.
– Очень рад!
Куковеров на секунду задержал в своей руке жесткую и холодную, как дверная щеколда, ладонь начальника Допра.
– Нам по спешному, – озабоченно заявил Корт, – пожалуйста, проведите нас к подследственной заключенной по прозвищу Ленка-Вздох…
– Ого! Должно быть, важная птица, – многозначительно проговорил начальник, – следователи, можно сказать, заявляются к ней пачками…
– Простите, как вы сказали?
– Вот сейчас только к Ленке-Вздох прошел следователь…
– Следователь?..
Корт и Куковеров переглянулись.
– Проведите нас немедленно туда!
– По-моему, это… тот самый Горбачев, – задыхаясь, прошептал Корт Куковерову…
– Увидим… сейчас увидим…
Они вбежали в коридор; их встретил женский крик, глухо раздававшийся где-то в переплетах коридора.
– Но-но! Не дури! – прикрикнул далекий часовой, и эхо раскрошило слова, точно со всех концов все часовые в один голос сказали: – «Но-но! не дури!»
Куковеров толкнул Корта к стенке, почти беззвучно, на ципочках побежал вперед и скрылся за поворотом.
…Человек с портфелем вздрогнул, услыхав крик Ленки.
– А-а! Ч-чорт! – заторопилась…
Съежившись, он юркнул в сторону, и вдруг перед ним мелькнуло лицо Куковерова.
Человек с портфелем, перехватив дыхание, прилип к стене, Куковеров торопливо оглянулся…
– Бежим! Там заперто, – прошипел он в лицо незнакомцу, – живо!
Человек с портфелем облегченно вздохнул:
– Уф! А я думал, вы – настоящий!..
Оба бесшумно побежали.
– Где журналист? – шепнул незнакомец Куковерову…
– Берлога?! – Куковеров искусно щелкнул пальцами. Это было похоже не то на поворот ключа, не то на выстрел револьвера.
Тридцать, сорок, пятьдесят шагов.
Каменная лесенка уходила вниз. Из-под двери выбивалась полоска света.
До лесенки пять, три, одна сажень… Вдруг Куковеров пружинится и, мгновенно выбросив вперед правую ногу, туго толкает опередившего его незнакомца каблуком в спину.
Тот с криком падает на каменный пол. Тело, которому толчок добавочно увеличил скорость, скользит вперед по острым ступеням, и, наваливаясь на него, тяжко подминая его под себя, катится вместе с ним Куковеров.
– Корт, скорее! Я держу его! Держу! – кричит он.
Но его крик тонет в отчаянном, страшном призыве недвижных стен:
– Спасите! Отоприте!! Горим!
Однако, Корт уже стоит рядом с Куковеровым В его руке наган.
– Пустите, Куковеров, теперь я не промажу!..
Куковеров сполз с своего противника. Тот мешковато перевалился на бок.
– Ладно, ладно вы его… Этот «следователь» может нам очень пригодиться, – нехотя сказал Куковеров, отводя в сторону руку Корта.
Они вгляделись в незнакомца. Он лежал, уронив спутанные клочья волос на ступеньку. И из-под них, освещенная полоской света, медленно ползла пенистая беловато-розовая струйка.
* * *
Выписка из протокола:
«…При убитом неизвестном не обнаружено ничего, кроме пустого черного шагреневого портфеля. Предполагавшееся ранее тождество убитого с лицом, назвавшим себя Горбачевым и скрывшимся, не могло быть установлено. Тело помещено в мертвецкую при тюремной больнице…
«…Подследственная Елена Авдеевна Тычкина, но прозвищу Ленка-Вздох, скончалась от тяжких ожогов всего тела. В камере сгорела обстановка и обуглилась дверь. На железной кровати обнаружена закопченная плоская асбестовая коробка, в числе личных вещей заключенной, дотоле не значившаяся…
«…Подследственные Андрей Варнавин и Лука Иванович Иванов, по прозвищу Петька-Козырь, во время имевшего место пожара, скрылись в неизвестном направлении».
Придя к Струку, Куковеров был удивлен тем, что его встретил не тупой и, как известно, затейливо расчесанный парень, а дрожащий и согбенный управляющий, господин бывший барон Менгден. Господин бывший барон помог Куковерову снять пальто.
– На службу, Борис Самойлович? – шопотком спросил Менгден.
– Да. А что?
– Хе-хе-хе!.. Не реквизирую ли я у вас две-три минуточки на одно чрезвычайно бодрящее развлечение? Мой бывший патрон…
– А кто ваш бывший патрон?
Менгден отвел глаза в сторону.
– Злые языки говорят, что я… кхе! кхе!.. креатура бывшего посла Бахметьева. На самом деле – я протеже генерала Лебаб.
– Генерал Лебаб?
– Вы его не знаете? О, это известный гебраист. Правда, – Менгден понизил голос, – он начал с пустяков… с маленьких соляных спекуляций. Потом поймал судьбу за хвост, прошел в генералы и стал гебраистом…
– А вы что при нем делали?
– Я? Разве вы не знаете – я же гомеопат. Мой генерал с детства страдал зеленой отрыжкой… До крика…
– К чему вы это ведете? – спросил Куковеров.
– Кхе-кхе! Мой бывший патрон собирал открыточки, и когда… я хочу показать…
– Что? Открыточки? – крикнул Куковеров. – Сами смотрите ваши открыточки!
Менгден захлопал глазами и присел.
Куковеров помчался в свою рабочую комнату.
– Monsieur Куковеров, – окликнула его лиловая княгиня. – Я прочитала в газете сенсационную вещь: ее высочество потеряла на балу свой бриллиантовый аграф.
Куковеров уставился на лиловую княгиню.
– Какое высочество? – мрачно спросил он.
– Ее высочество.
– Ее?
– Да, потеряла аграф… какой ужас!
– Действительно, ужас, – откидывая со лба слипшиеся волосы, пробормотал Куковеров. – Где же вы это прочли?
Лиловые букли княгини Абамелек-Лазаревой обиженно тряхнулись.
– В газете, я же говорю – в газете!
– Если я не ошибаюсь, это – «Новое Время»? Прошу почтительно извинить меня, но у вас газета 1914 года.
– У всякой порядочной газеты дата проставлена старым стилем.
– Что??
– Я говорю, старым стилем. 1914 год, по старому стилю, 1927 год – по новому. Что же тут не понять-то, государь мой?
Княгиня вытащила из ридикюля коробочку мятных лепешек и предложила лакомство Куковерову.
Он поклонился и прошел в свой кабинет.
– Какой идиот доставил Струку таких безнадежных кретинов? Неужели для отвода глаз? И что это за ахинея с Бахметьевым и Лебабом? Впрочем…
Тут взгляд Куковерова упал на стол и он заметил, что каждая бумажка, каждая вещица лежат в неприкосновенном порядке, как он положил их, уходя от Струка.
– Что бы это могло означать? Слежка прекращена? Или было недосуг? Если так, то…
Куковеров закрыл глаза и, как на экране, вспыхивая в крупных планах молниеносного монтажа, перед ним замелькали лица обитателей струковского дома. Выплыло обрюзгшее лицо Струка, на мгновение повисли лиловые букли княгини Абамелек-Лазаревой, похотливо захихикал барон Менгден, проволочился неуклюжий и, как известно, затейливо расчесанный парень, вопросительным знаком мелькнула мисс Элита, и вот – разом освобождаясь от сомнений, точно зная, какую карту вытащить из колоды, Куковеров подводит итог и делает резкое резюме.
– Это парень!
Парня нет… беспорядка нет… барон Менгден – в швейцарах… кончено…
Глаза открыты:
– Это парень!
* * *
Берлога вскочил и осмотрелся.
Герой, если он вообще герой – лапидарен и смел. Каждый его шаг – событие, каждое слово – тезис.
Куда итти? Погибла целая ночь. Вырвавшись из коттеджа и побежав в город, Берлога в изнеможении упал на песок и проспал до утра. Нельзя было терять ни минуты.
Острый голод – хороший рулевой.
Резолюция: в квартиру Мигунова, милого Варвария Мигунова! К огнедышащей, роскошной Ефросинии!..
Ефросинья! Этот опыт, откованный на шестке, это олицетворение соусов и маринадов! Она стоит, прислонившись к косяку, и с умилением смотрит, как исчезают в пасти Берлоги жирные куски бифштекса. Она решается заговорить, когда вздох облегчения вылетает из потрудившейся глотки Берлоги.
– А вас тут с полчаса назад барышня какая-то спрашивала…
– Что же вы мне раньше не сказали? – взревел Берлога. – Где она?
– Хорошо, что не сказала! Убегли бы голодешенок, а ведь…
– Где-е она-а!
– Барышня-то? Славная, можно сказать, барышня; из теперешних. Поговорила, значит, о вас и притти наказывала…
– Притти? Куда?
– Да в это самое, как его? Бюльве, что ли, гостиница, в 23 номер, как будто…
Берлога был уже за дверью. Колючими пальцами он взъерошил лохмы волос и обтянул их кепкой, выхваченной на ходу из кармана.
Портье гостиницы Бельвю не успел открыть рта, чтобы предложить этому дикому человеку снять его невозможное клетчатое пальто и вытереть ноги.
Берлога взлетел по лестнице в бельэтаж, скользнул по голубой дорожке коридора, в каком-то тумане нажал ручку двери № 23, забыв даже постучать, и разом провалился в комнату, в два ярких окна, в насмешливо-сияющие глаза… мисс Элиты Струк, в просторечьи Дины Каменецкой, кино-актрисы, личной секретарши и внучки таинственного Струка.
– Добрый день, Берлога! – тихо сказала женщина и спрыгнула с дивана навстречу оторопевшему журналисту. Он неловко пожал ей руку.
······························
– Итак, я не могла дольше выносить. Роль содержанки была мне отвратительна. Я бежала от наших режиссеров и попала через Менгдена к Струку. Я сумела прибрать его к рукам, но это было не то: он оставался сильнее меня. Он мог запереть меня, мог заморить голодом. Впрочем, он не мог решиться на одно – выгнать меня. Я уже была ему опасна. Мы согласились на вооруженный мир, при чем я каждый час боялась за свою жизнь: им нужно было избавиться от меня, и они сделали такую попытку, послав меня на границу, якобы ждать там какого-то человека. Моим побуждением было выполнить поручение Струка, но – в вашу пользу, то-есть вернуться к вам. Перед отъездом меня решили проверить. Заметьте: никаких личных объяснений, – я не знаю, кто мной руководит. Обычно я получала приказания по почте или по телефону. Испытанием для меня были вы, – лишение вас свободы. Утром я получила письменный приказ, днем – разговор по телефону, – меня провоцируют…
– Я знаю этот разговор, – коротко сказал Берлога.
– Знаете? Тем лучше. Ну вот. Я посадила вас в сумасшедший дом и сама уехала. За свое возвращение я выговорила вашу жизнь.
– Да, но у меня ее хотели отобрать, – вставил Берлога.
– Нет сомнения. Под Минском было совершено нападение на дилижанс, выехавший незадолго до меня. Была убита девушка… страшно на меня похожая, я видела ее… то-есть… убитую, и немедленно бежала. Я поняла характер моей командировки.
– Вы врете, – грубо сказал Берлога и заходил по комнате. – Что за совпадение? Я ни секунды не верю в «убитую, страшно на меня похожую девушку»!! Никаких случайностей! Вы! Вот в чем вопрос! Кто вы сами? Авантюристка? Преступница? Психопатка? Сфинкс?
Элита съежилась и внезапно жалобно, как обиженный ребенок, заплакала.
– Берлога!.. Берло-женька!!! Да я и есть та самая убитая девушка, я только… чуть-чуть передернула!
– Что за чорт! Вы считаете меня ду-ра-ком? Н-ну, знаете…
Элита быстро встала и расстегнула платье на своем узеньком плече. Повернувшись к Берлоге, она показала ему длинный, чуть зарубцевавшийся шрам на левой лопатке.
– Думаете… мне приятно показывать эту гадость?.. – проговорила она через силу.
– Что это? Кто? – забормотал Берлога, вспыхнув и потянувшись к Элите, точно желая закрыть чем-нибудь ее плечо.
– Берлога, – грустно сказала Элита, – я знаю, что не могу рассчитывать на ваше доверие. Может быть, вам надо… ощупать этот безобразный рубец? Пожалуйста! Боже мой! Делайте, что хотите, я умоляю вас! – голос ее сорвался и перешел в отрывистый шопот, – делайте, что хотите, но я больше не могу! Я прошу вас! Берлога! Меня погубят, меня убьют, Берлога!.. Я сама наделала ошибок. Но я не виновата, Берлога. Эти противные лапы, которые тянулись за мной, за моей душой, за моим… Я сопротивлялась, меня запугивали, меня гнали, и, под конец, как негодной собаке, как опасной, строптивой твари – нож в спину!.. Берлога!..
Дина Каменецкая приближается к журналисту, кладет ему на плечи свои руки, заглядывает в глаза.
– Берлога! Мой славный, рыжий, веснущатый грубиян! Разве я не сдала всех своих преступных позиций? Разве…
Теплая волна ударила в лицо Берлоге.
Этот сухой блок-нот, эта черная вездесущая автоматическая ручка в клетчатом пальто, репортер, газетчик – разве он видел, слышал, переживал что-либо подобное?! Он чуть подался вперед и своими жесткими губами встретил пахучие, жирные от помады губы Элиты.
Тоска! Печаль! На этом месте никак нельзя замкнуть кольцо лирической американской диафрагмы… Голос скрипучий и резкий, как горящая букса, рвет сладкую концовку:
– Нет, гражданка! Вы еще не сдали всех своих преступных позиций.
В дверях стоял Куковеров.
Берлога бросился к нему.
– Вы с ума сошли!
– У кого что болит, тот про то и говорит, Берлога.
– Вы – дурак!
– А вы – арестованы!
* * *
Итоги и перспективы?
Вот приходо-расходная ведомость. Арестованная Дина Каменецкая, она же Элита, тщательно изолирована в камере Допра. Камера заботливо обита асбестовым картоном.
Берлога реабилитирован. Советы и пожелания серьезного Куковерова вынудили его законсервировать внезапную, как златогорские пожары, страсть к бедной Элите. Установлен регламент его свидания с Диной. Профилактический метод…
Затем открылись и сошли в окончательный расход два лица:
Первое —
Человек, убитый Куковеровым и погубивший за минуту до своей смерти Ленку-Вздох, был опознан Берлогой и оказался врачом сумасшедшего дома.
Второе —
Уединенный дом, в котором являл свою силу Берлога, был заботливо оцеплен милицией. Со всяческими предосторожностями прошли в кабинет. Медленно откидывается сидение дивана, и Куковеров видит труп похожего на себя человека. Грим, вероятно, стерся с его лица во время борьбы с Берлогой. Куковеров с секунду всматривается в лицо трупа, потом неторопливо сдирает ненужные более усы с губы мертвеца, и новое, несомненное сходство проступает полностью.
Затейливо расчесанный парень, простофиля и шляпа – швейцар и дворник Струковского особняка!
Враг хитрый, ловкий, организованный, начинал сдавать свои позиции. Но – как жалко! – мертвые молчат, мертвые всегда молчат.
С трудом Берлога узнает свою жертву, лишенную грима – человека, с которым он не так давно мчался в автомобиле. Счет сведен.
Да, счет сведен, но не пора ли увеличивать итоги? Ведь дело № 1057 спрятано где-то Ленкой? Почему погибла она? Не дикий ли бред – эта история с бабочками? Где Горбачев? Фальшивый ли, настоящий – где он? Где оба Горбачева, наконец? Где человек с бородавкой и шрамом на мочке уха?
Где, где они?!
Константин ФЕДИН
Н. ЛЯШКО
Глава XVI
«И страшные толки про красную свитку исчезли с появлением утра».
Гоголь

Ваня Фомичев совершил поступок, поразивший многие трезвые головы. Особенно ошеломлен был златогорский проповедник вольной любви, бывший мистик, ныне неврастеник и какой-то сверх-коммунист-индивидуалист, а по-нашему – просто «ист». Он позеленел от удивления, окутался туманом тайны и сказал:
– Не верю! Чтоб живой комсомолец, футболист, да так поступил? Это клевета на молодежь! Не верю!
И пусть не верят. Началось все с того, что Ваня прочитал в заводском клубе свою пьесу. Не ахти какая пьеса вышла у него, но драмкружок клуба ухватился за нее, долго репетировал, готовился. За два дня до спектакля один из актеров вывихнул ногу, и Ване пришлось заменить его.
На сцене он очутился в роли своего собственного героя-красноармейца, парня добродушного. Роль его невесты играла бывшая делопроизводительница союза металлистов, Сарочка Мебель.
В конце пьесы действие разворачивалось так: город окружили белые, герой-красноармеец отступил с полком, белые заняли город, в дом невесты красноармейца ворвался офицер, девушка понравилась ему, он начал увиваться за нею и давать волю рукам и губам… Насилие уже готово было встать в ряд бывших до него бесчисленных насилий. Но затрещали пулеметы, зацокали копыта, взрыв, – и на пороге красноармеец, т.-е. Ваня. Он вырвал из рук насильника невесту, т.-е. Сарочку Мебель. Он обнял ее и прижал к себе крепко, по-настоящему, как винтовку, и заговорил так, как надо было говорить, – вопреки пьесе и злому шипенью суфлера. Этой вольностью он спас и спектакль, и свою пьесу: вышло жарко, убедительно и хорошо… Зрители дрогнули, перестали быть зрителями и какую-то минуту не дышали…
Сарочка тоже волновалась, но была в миллионе верст от мысли, будто Ваня не жених ее, а олицетворение свободы и мести всех угнетенных… Наоборот, – она чувствовала, что Ваня обнимает ее, единственную, и обнимает так, как никто не обнимал, так, как она не мечтала. Она была в восторге, и ей чудилось, что зрители хлопают ей, что они радуются за нее: наконец-то, и к ней пришло счастье. О том, что до этой минуты она была несчастной, никто и не подозревал. Ей даже завидовали.
Роду она древнего и богатого. Папаша ее, Самуил Мебель, при царе имел в Златогорске мельницу и не завалящую какую – паровую, и лавки имел, и дом, и семью, и несколько гнездышек на стороне.
Доканала его национализация. Он плакал, дергал белеющую бороду и твердил:
– Берите, ваше, чтоб я так жил. Ваше, ваше, чтоб я так свет видел…
Побелел Самуил Мебель, согнулся, многострадальным Иовом бродил по городу, в скорби колотил себя в грудь волосатым кулаком и все и всех спрашивал:
– Кто я теперь? Кто теперь хозяин на земле? Скажите, чтоб я так жил… Или не моя мельница кормила вас?
Улицы молчали, люди отмалчивались, только Ленин щурился с дверей комитетов, комиссий, совещаний и по-хозяйски журил:
– Скулишь? Эх, ты-ы…
Старик отводил ненавидящий взгляд и скулил яростнее, семейка подскуливала ему, а Сарочка, – о, она такая умная! – она не скулила.
Бегала, бегала и выбегала местечко, и не где-нибудь – в союзе металлистов. Ага! Товарищи страшны, товарищи при революции стоят, да, но если умеючи походить вокруг них да кстати языком пошевелить, они и улыбнутся, и подобреют. Факт!
Покатилась Сарочка к заветному. Не быстро, но все-таки. Катилась и помогала себе глазками, губками, языком. Командировка уже вот, почти в руках. И вдруг – стоп! О, как глупо! Товарищи добрые, доверчивые, улыбаться могут, при революции стоят, с Колчаком, с Деникиным справились, а какой-то анкеты испугались. Сарочкина анкета корява, верно. Как ни гладь, как ни прихорашивай, а стоящей ее можно сделать только стажем. А какой у Сарочки стаж? Эх, опять надо впрягаться. И Сарочка впряглась, стала активной, инициативной… Катилась, катилась, опять командировка уже вот, в руках почти, а жизнь, как ахнет – хлоп! Крепко ударила – и не чем-нибудь, а самым милым, самым заветным – нэп'ом…
Ну, кто не ждал нэп'а? Замечательная же вещь! Мертвые, и те в пляс пошли: ага, товарищи, сдаетесь? Ага, свободочку даете? Ликование, а у Сарочки горе… Навалилось оно, правда, не сразу. С папаши пошло. Скинул он личину Иова и стал дельцом: было кое-что припрятано. Снял лавку на свое имя, другую – на имя жены, третью – на имя вдового сына. Во все лавки липовых родственников посадил – товарищество! – и принялся крутить-вертеть. Крутить он умел, а вертеть – попадись чей-нибудь палец в рот, и кости в муку превратятся…
На первых порах все шло тихо и незаметно, а как обросли лавки мануфактурой, ниточка Сарочкиного трудового стажа – хрусь! Где-то в каких-то бумагах покопались какие-то товарищества, узнали, что она опять дочечка, нэпманский отродыш – и чик: сократили.
Перестала Сарочка в союзе металлистов входящие-исходящие квасить, перестала по карточкам пером чирикать, и с тоски-печали начала искать у разных подходящих людей причала своему сердцу… Начала хорошо, как мама и тетя учили, по всем правилам: об искусстве говорила, ахала, глаза закатывала, об одиночестве пела. Подходящие люди слушали, зевали в сторонку, про себя посмеивались и норовили дойти до поцелуев и до прочего. А чуть доходили до прочего, впадали в скуку и сторонились, избегали. Было что-то в Сарочке… ну, отталкивающее, что-ли. И стройна, и телом не обижена, и голосом играть умела, и глаза ничего, но что-то было, что-то мешало причалиться. Может быть, усики на верхней губке? Кто знает!
С первыми любвями трудно было справиться Сарочке, после каждой мутило, тошнило, но удержаться от следующей не могла. Скука же, тоска. Ну, кто она? Дочечка 27 лет, мамина забота. Ах, эта мама, – она и теперь видит в ней маленькую. Такая глупая, а страшно: а вдруг ребенок? Проведает тетя, проведает другая, третья, а третья тетя сплетница – напишет в Киев, в Могилев, в Минск…
Холодела Сарочка и по книжкам хотела научиться, как любить так, чтоб приметы какой не вышло? Но что ж книжки? Даже они не могут научить этому. Мучилась Сарочка и, чтоб от тоски не тянуло к подходящим людям, начала в клуб ходить, в драмкружок вошла. Расчет был у ней верный: я, мол, интеллигентка, а рабочие неотесаны, хамоваты, с ними ничего такого не может выйти. Умная Сарочка, а жизнь опять по спине ее – на! И чем? Комсомольцем, молотобойцем Ваней Фомичевым… Она к нему, а он не глядит, строгость напускает… Злилась Сарочка: «Чтоб я, да унижалась перед каким-то паршивым рабочим? Фи!» Верно, не к лицу ей унижаться, но спектакль доканал, – перестала фикать. Подумает, и начнет распаляться: вот это мужчина, а сила, а рост… Дергалась губка с усиками, язык шарил по пересыхающему рту. Начала Сарочка встреч с Ваней искать, – нет его: то на собрании, то на кружке. Два раза письмами приглашала его чай пить, о пьесе потолковать.
Ваня не пришел, не ответил на письма и на Сарочку взглянул не вообще, а с точки зрения…
Деревянный хлам на заводе убран. Водопроводные трубы разбежались во все углы. Во всех отводах пожарные рукава. По ночам в цехах дежурные бродят. У проходной будки «трезвая тройка» маячит: чуть кто ногами ноты начнет писать и с белым светом обниматься, за рукав его:
– Товарищ, сыпь домой…
– Да я, товарищи, я же как следует, я…
– Дыхни… у-у, провонял. Единогласно же постановляли пьяных не пускать. Голосовал? Постановлял? Ну, и катись, катись…
Склад моделей оберегался день и ночь, в столярно-модельном цехе два раза в день до-чиста убирали стружки, обрезки, вечером взбрызгивали пол, осматривали окна и до утра посменно с четырех сторон охраняли его. В разбавленной светом фонарей темноте то и дело раздавалось:
– Эй-эй, не спи!
– Гляди, сам не засни!
– То-то же!
…В ночь, когда на море горела нефть, Ваня дежурил у склада моделей. Через город перелетали багровые сполохи и бились о стекла и крыши. По двору и за цехами метались тени столбов, будок и труб. На заднем дворе под ветром постонывали старые котлы, и в стоне их чудилось шуруденье подкрадывающихся со стороны степи шагов.
Ваня ходил от угла к углу, вглядывался в зыбкий мрак и костил ЗУР, милицию, исполком. Зевают, просиживают стулья, миндальничают, дурачье! Возьми партийцев, комсу, красноармейцев, распредели и налетай на все дома… Выверни их с требухой, – небось, найдутся поджигатели…
Сменщик пришел после полуночи. Ваня хмуро перекинулся с ним словами, отдал револьвер и пошагал на спадающее пожарище. За молом клочьями и кругами бегало по воде пламя. Море напоминало развороченную взрывом горячей вагранки литейную. Ветер взметал огонь и гнал его на город. Красные языки ударялись о грудь мола и взлетали над ним багровыми фонтанами, кольцами, кустами и россыпями звезд. Суда качались в отступившем мраке сгустками ожидания и тревоги.
Огонь, ветер и блеск воды, редеющая толпа и ее говор мутили Ваню. Люди казались глупыми, равнодушными. Он бродил среди них, на лету схватывал слова и стискивал в карманах руки. О чем стрекочут? Чего охают? Горит драгоценность, может быть, тут же ходят и посмеиваются поджигатели, а они переполаскивают языками разные случаи.
И он вот прибежал. А зачем? Чего ему тут надо? Не поможет же, не погасит…
– Ах, как красиво!
– Какой тут цыплятине красиво! – дернул он головою, но яркий свет и крики:
– Смотрите! Смотрите! О-о! – заставили его обернуться к морю.
С волн взлетела лохматая кровавая змея, на лету выросла, угрожающе поползла по молу и, отекая в воде, дрожа под ветром, чадно погасла.
– Красота! – вновь резнул Ваню голос, а над ухом раздался другой, почти задыхающийся:
– Товарищ Фомичев, какое несчастье, ужасное несчастье! Здравствуйте. Я положительно не могу успокоиться. И вы, вижу, извелись. Идемте отсюда. В такие минуты так поражает бессилие…
Сарочка пылко рассказала, где была, когда начался пожар, как кинулась в гавань, как ей перехватило дыхание. Потом запнулась и шепнула:
– Почему вы на мои письма не ответили?
Ваня поежился было, но тут же тряхнул головою и отрезал:
– Не пара мы с вами, товарищ Мебель, чтоб переписываться.
Сарочка возмущенно вскинула «живой мрамор» плеч и заволновалась:
– Стыдитесь, товарищ Фомичев! Разве соввласть не уравняла нас? Разве мы не равноправны с вами? Я не пара вам, это верно. Ну, кто я? А вы, вы талантливы. Ваша пьеса… она положительно даровита… в ней…
Ване было и неловко и приятно. Вот она какая Сарочка, а он-то, он, эх! С пьесы Сарочка перевела разговор на себя: она изболелась в мещанской среде, ее никто не понимает, в душе она больше коммунистка, чем иные с партбилетами, и ей так больно, в ней такой мрак, а, между тем, она же человек, ей хочется иной жизни, живого дела, мыслящих людей…
Сарочка говорила с чувством и незаметно управляла Ваней. Они уже шли по окраине, с прорезаемой вспышками нефти тьмы на них глядела чернота степи, забеленная вдалеке фонарями завода.
– В общем, стыдно сказать, устала я, ох, как устала. Давайте отдохнем вот тут…
Сарочка указала в темноту, и там, у косых ворот, как бы выросла скамейка. Надо садиться. Сарочка вспомнила, с кем раньше она сидела здесь, и начала дергаться, дрожать и осуждать себя за это:
– Я положительно не владею нервами. Всю трясет, а?
Ваня мялся, не зная, что сказать. Она взяла его руку, положила на себя, и он ощутил пальцами тепло плотного овала руки выше локтя.
– Слышите? – шепнула Сарочка. – Меня это положительно из себя выводит. Так хочется поговорить, а эта противная дрожь… Вы понимаете меня?
Ваня дакнул, отстранил руку, но Сарочка задержала ее:
– Нет, не отнимайте, прошу вас… Может быть, я так успокоюсь.
Ваня перекосил рот. – «Чего она крутит?» – и заговорил о пожарах, о том, что его и Величко выбрали на съезд, что он заедет в Москву, увидит там златогорских ребят и Ленина в мавзолее. Сарочка соглашалась, одобряла, а когда он умолк, подалась к нему и резко поймала другую руку:
– Давайте силами меряться. Подниму я вас или нет? Вот давайте…
– Да, что вы, товарищ Мебель, постойте, – запротестовал Ваня, но Сарочка обхватила его руками и, всхохотнув, задышала в щеку: – Нет, нет, боюсь, что не подниму… Вы такой сильный…
«Буза», – решил Ваня, порываясь встать. Сарочка удержала его, сдернула кепку, положила на его голову руку и удивилась:
– Да у вас мягкие волосы? Погодите, вам тоже холодно? Нет? Так чего же вы дрожите? О-о, вам холодно, но вы стесняетесь, погодите…
Сарочка обняла Ваню, прижала его к своему боку и, шепнув:
– Так теплее? – залепетала дразнящий вздор.
Лепетать она его умела не хуже пустых книжек:
– Забыться бы так, на миг улететь из этой жизни с ее дрязгами, стать богом. Ты такой, вы такой, мой…
Губку с усиками свела дрожь. Сарочка хищно вжала в свои губы Ванин рот и как-то чудно провела языком по его губам. Это ожгло Ваню. В руки его ринулась жадная цепкость, глаза ослепли, уши заткнул шум крови. Он уже прикипал к Сарочке и летел с нею в туман. Ему же начинало чудиться, что сейчас и он и она будут управлять и ветром, и вспышками пожарища, и далекими звездами, и чернотою ночи над степью, и далекими фонарями завода.
Сарочка прихватила зубами кожу на его шее, мыча и всхохатывая, схватила его руки и начала тискать их к своей груди, к бокам, Ваня потерял легкость, и в мозгу его встала дикая, едкая мысль о том, что рядом с ним веками выхоленная Сарочка, что в студне ее больших егозливых лопаток, в дрожи готовых выпрыгнуть наружу грудей, в набегающей в хохоток визготе, в остроте зубов, в юркости и запахе разнузданного языка таится какой-то яд. Мысль эта ошеломила его: он не будет управлять ветрами, звездами и тьмой. Он вспыхнул, как бы залил мозг туманом, обнял Сарочку и ухнул лицом к ее груди, в идущий из-под кофты одуряющий запах.
Сарочка взметнулась, взвизгнула, уронила шапочку, волосы и села ему на колени. Под ее тяжестью, от щекотного, торопящего шопота, дикая, едкая мысль вновь всклубилась в Ване и обдала его сердце оторопью. Он вдруг ощутил, что рядом огонь, что он вот-вот вспыхнет и от него останется место, куда будут плевать. Он резко дернулся, столкнул с колен Сарочку, перешагнул через нее и, приподняв руки, как бы пробиваясь сквозь пламя, чад и дым, побежал на огни фонарей.
* * *
Земля под ногами вдруг стала золотой, мрак прыгнул с нее к горизонту, и ослепленный Ваня, как днем, увидел завод, рабочий поселок в мачтах радио и метлы тополей дачного поселка. Ощущение рук Сарочки, запах ее рта вмиг слетел с него: «Опять пожар?» Не успел он понять, в какой части города горит, как из ближайшей улицы с похожим на заливчатый лай набатом донеслись крики:
– А-а-а! Держи! Забегай! Га-га-га!
Ване представилось, что он сейчас увидит бегущую Сарочку, но, вместо нее, из улицы выбежал мужчина и метнулся в степь. Полы его не то пальто, не то плаща развевались, падавшая от него на багровую землю огромная тень, казалось, подвывала набату. Он подпрыгивал и за ручку на отлете держал небольшой ящик. Ваня ринулся ему наперерез. Пожарище застлал дым, степь покрылась тьмою, и высыпавшая из улицы погоня ослепла и рассыпалась вдоль крайних домов. Ваня махал руками, звал, но набат и ветер отбрасывали его крики, и он с досадой: «Уйдет, пока буду свататься», погнался один.
Затихающее дымное пожарище гнало на степь толпы теней. Убегавший пропадал в них, но Ваня вновь и вновь находил его и радостно стучал сердцем: «Врешь, догоню». Ему уже рисовалось, как с завода выбегут дежурные, как убегающий метнется назад, на него, как он схватит его, поведет в контору завода, вызовет ЗУР и сдаст:
– Нате, черти волосатые.
Убегавший, должно быть, рисовал себе, как Ваня сдаст его агентам ЗУР'а, и неожиданно повернул к задней стороне завода. «Ах, ты хитрюга!» – ахнул Ваня. Задний заводской двор пуст, за углом завода заросли бурьяна и полыни, в зарослях рвы, за ними ямы, за ямами балка. А пожар уже тускнел, угасал, тьма плотнела. «Уйдет, уйдет»…
Ваня вогнал в бег последние силы, но угол забора был уже вот, почти рядом. Ваня в ярости поднял повернувшийся под ногу камень, закричал: – Стой! Стой! – кинул его и попал в ящик.
Ящик зарокотал, оглушающе охнул и Ваню швырнуло назад. Кружась, он хватался за землю и, теряя сознание, похолодел: в воздухе кружилось пальто убегавшего, из-под пальто роями выпархивали ослепительные огни, неслись на угол заводского забора и тот ярко, как бумага, вспыхнул.








