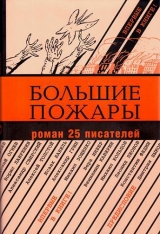
Текст книги "Большие пожары"
Автор книги: Александр Грин
Соавторы: Алексей Толстой,Вениамин Каверин,Михаил Зощенко,Исаак Бабель,Леонид Леонов,Алексей Новиков-Прибой,Борис Лавренев,Вера Инбер,Лев Никулин,Владимир Лидин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Теперь возвращайтесь, Берлога, обратно, – сказал Куковеров. – Завтра утром я буду у вас и проделаю все формальности, необходимые для освобождения. Вы мне будете нужны, очень нужны. Согласны вы со мной хорошо поработать? Но только условие – первое и основное: никакой болтливости, никаких сенсаций. Вы вернетесь к газетной работе только по окончании этого дела. До этого момента я оплачиваю вам ваш месячный заработок. Откуда и кто я, кроме того, что я инженер Куковеров, – вы узнаете вскоре.
– Я сделаю все, что вам понадобится от меня, – сказал Берлога искренно.
Они пожали руки друг друга. Служитель больницы, изрядно насладившись в пивной, дожидался внизу. И тот же фаэтон повез его и Берлогу обратно. Куковеров вышел на балкон и смотрел, как сели они в экипаж. Очень тепло и нежно ночь приникала к лицу. Было совсем черно, и огромные звезды взбухали на темном небе. Потом он заметил, что розоватый туман как бы от огней главных улиц туманно пронзает ночь, розоватый туман окрылил эту ночь огромным и нежнейшим крылом, и розоватый туман беспечно и рыже прозмеился вдруг далекими языками огней. Гул старинного и провинциального набата где-то на окраине низкой гаммой сопровождал розовеющий этот полет ночи.
Вл. ЛИДИН
И. БАБЕЛЬ
Глава IX. На биржу труда!

Куковеров приехал в Златогорск двадцать второго августа. Двадцать пятого, в восемь часов вечера, он стучался у ограды особняка Струка. Ограда эта, как известно, напоминала сплетение лиан в тропическом лесу или сцепившихся хвостами окаменевших загипнотизированных змей. При ближайшем рассмотрении она оказалась решеткой из деревянных прутьев, окрашенных серебристой краской. Куковеров со страхом ждал мгновения, когда стебли ограды – лианы и змеи – зашевелятся и раздвинутся. После этого, т. е. после того, как загипнотизированные змеи раздвинутся, в ограде должен, как известно, образоваться проход, или, вернее, аллея, заканчивающаяся автоматической дверью без всяких дверных ручек, но из орехового дерева. Дверь эта в свою очередь заканчивалась в пылком представлении Берлоги ущельем, облицованным никому неизвестным синим камнем с красными прожилками. Но, вместо облицованного ущелья, перед Куковеровым вырос затейливо расчесанный парень в бумазейной рубахе на выпуск и в больших скрипучих, казенного образца, сапогах. На протянутой руке парня болтался, как на штанге, пиджак. В другой руке он держал пузырек с бензином. Парень, очевидно, выводил бензином пятна на пиджаке. В этом не могло быть никакого сомнения.
– Что надо? – сказал парень.
– Гражданин, – торжественно произнес Куковеров, – сегодня в 6 ч. 9 минут я отправил мистеру Струку телеграмму-молнию. В этой молнии содержался вопрос – может ли мистер Струк принять меня в восемь часов?
– Они, кажись, в кухмистерскую выходили, – сказал парень, плюнул на пиджак и затер плевок тряпочкой, смоченной в бензине, – а может, и дома… Заскочите на лестницу, повернетесь вправо, потом возьметесь прямо, все прямо…
Дверь открылась, и Куковеров вступил в вестибюль. Здесь, как известно, высоко вверх уходила металлическая, сияющая медью, лестница.
– Голубчик, да ведь она сама едет… – сказал инженер со страхом.
Но парень, вместо ответа, с жадностью посмотрел на папиросу, которую закурил Куковеров.
– А не накажу ли я вас на одну папиросочку, гражданин, – пробормотал он и, получив папиросу, пустил дым изо рта, из ноздрей и вроде как бы из глаз…
– Еще третьего дня ездила, – сказал он, увенчиваясь дымом где-то возле ушей, – да вчерась сдохла… Полотер в нее упал, она и прикончилась… Теперь не ездит, да и хозяин приказывал, чтобы стояла. Пускай, говорит, самосильно стоит, я теперь, говорит, жене полотера обязан соцстрах платить, и союз меня по судам затаскает, я, говорит, в свои года взошел, мне обидно полотерке платить, меня, говорит, таким манером из денег враз вытрясут…
Парень оказался отменным словоохотливым курильщиком. Куковеров едва спасся от него, взбежал по лестнице, неутомимо сиявшей медными частями, пробежал коридор, уставленный разбитыми кадками из-под субтропических растений, и влетел в круглый зал, имевший, как известно, три сажени в поперечнике. Это был тот самый зал, в центре которого пенился некогда и прихотливо играл струями маленький фонтан. На этот раз он был безмолвен, не хуже любого фонтана, пережившего гражданскую войну. Неподалеку, за ломберным столиком, сидела морщинистая старуха в пышном бархатном облачении. Морщины ее были запудрены лиловой пудрой, а волосы выкрашены фиолетовой краской.
– Могу ли я, сударыня, – с достоинством начал Куковеров, но старуха прервала его и с улыбкой, полной величия и покоя, протянула ему анкету, написанную по-французски.
– Сначала заполните анкету, – сказала она тоже по-французски, – цель прихода, подписку о неимении фотографического аппарата и о неразглашении тайны…
– Ко всем свиньям, – раздался тогда за спиной Куковерова мелкий, неразборчивый, обиженный тенорок, – вы опять крутите людям голову с этими анкетами?..
Инженер обернулся. Перед ним стоял бритый старик в хорошем костюме, с рыхлым животом и большим носом.
– Меня здесь черти хватают, – закричал старик с укоризной, собрал рот в горькие детские складки и едва не заплакал, – а вы торчите с Доннером целый месяц в Москве… Меня здесь черти хватают, – прокричал старик и опять едва не заплакал.
– Мистер Доннер задержался, – сказал озадаченный Куковеров и поклонился, – он все хлопочет в Главконцесскоме.
– Главконцесском, Главконцесском… – пробормотал Струк, прослезился и погрозил вдруг кулаком фиолетовой старухе. – К всем свиньям, княгиня, – прохрипел он плачущим своим тенором, – вы мне жизнь сократили, – и побежал в свою комнату. Он семенил большими, старыми своими ногами, и живот его вяло раскачивался на ходу, как флаг в безветренный день.
* * *
Три часа длилась беседа Куковерова с миллионером. Через три часа он вышел из кабинета – секретарем мистера Струка. Дело в том, что инженер привез с собою рекомендацию от Доннера, председателя русско-американской торговой палаты. За эти три часа Куковеров узнал, что Струк происходит из мещан г. Белостока, Гродненской губ., состояние свое нажил в Америке на военных поставках и получил в концессию пока только пуговичную фабрику в Москве. Что же касается Алтая, то он ничего об Алтае не знает и интересуется исключительно тракторным заводом в средней полосе Союза. Тракторы – это вам не пуговицы! Смеется советская власть над людьми или не смеется? Пуговицы – это вам не тракторы! Еще узнал Куковеров, что Бахметьев, бывший царский посол в Америке, составил несчастье жизни мистера Струка. Старик имел неосторожность перед отъездом в СССР рассказать Бахметьеву о своих планах. Бывший посол посоветовал ему взять в управляющие бывшего барона Менгдена, в секретарши – бывшую княгиню Абамелек-Лазареву и в архитекторы – бывшего военного инженера генерала Духовского. И вот бывший военный инженер, который, оказывается, был безработным с октября 1917 года по май 1925 г. и за это время не видел в глаза монеты крупнее десяти рублей, получив на постройку двести пятьдесят тысяч рублей, быстро выстроил на эти деньги фонтан с загипнотизированными змеями и самодвижущуюся лестницу, – что «меня черти хватают, когда я вижу этот особняк, я поседел от него»… Бывшая же княгиня Абамелек-Лазарева, почувствовав себя обладательницей ломберного столика и телефона, немедленно облачилась в старинный бархат, выкрасилась в лиловый и фиолетовый цвета и заказала анкеты на французском языке. Что же касается управителя, бывшего барона, то он с возложенными на него поручениями справился следующим образом: в качестве «личной секретарши» он привел к Струку из кино-студии Дину Каменецкую. Девица эта, получив на первое обзаведение 25 червонцев, прозвала себя Элитой, купила туфли металлического цвета и шоферский костюм, вытравила себе персидской какой-то мазью волосы на всем теле за исключением головы, объявила себя невинной и стала убеждать старика в том, что ему следует терзаться высшим сладострастием – сладострастием неутоления… «В мои годы, в мои больные годы!» Внезапно Дина уехала в Армавир сниматься в драме-утопии, действие которой происходит в 2000 году в стране чудовищно индустриализованной. Таков был первый шаг бывшего барона, второй же его шаг был связан с пустяковой одной историей о пустяковой одной бумажке… В Америке такая бумажка стоит 25 рублей – и концы в воду, но бывший барон… – о горе, о горе!..
И поэтому, «my dear Куковеров, наймите мне людей на Бирже труда, людей, которые, начиная с октября 1917 г., ни одной минуты не были безработными, ни одной минуты»…
* * *
Восемь да три будет одиннадцать. Это скучно, конечно, что не двенадцать, но и число одиннадцать удовлетворяет совершенно. Поэтому ровно в одиннадцать Куковеров распрощался со Струком и быстро зашагал по направлению к гостинице. По дороге он вознамерился купить себе персиков в фруктовой лавке, потому что Златогорск, как известно, в осенние благодатные дни бывает полон густого тепла и персикового дыхания, фруктовые же его лавки завешаны всегда виноградом и дышат диким волнующим запахом овощей. Но, увы, в фруктовой лавке ничего, кроме сушеного чернослива, не оказалось. Ничего, ровно ничего.
И. БАБЕЛЬ
Феоктист БЕРЕЗОВСКИЙ
Глава X. Предчувствие

То ли это была старая привычка, то ли от отца унаследовал Пантелеймон Иваныч, Кулаков сам никогда не мог толком разобраться. Кутил неделю, иной раз пропадал из дому недели на две, а затем на несколько дней захватывало покаянное настроение, клещами впивалась в грудь тревога, терзала тоска.
Так случилось и в последний раз. После получения телеграммы брата Ивана наскоро уладил в Москве дела фирмы, вернулся в Златогорск, устроил Сонечке скандал и на две недели закрутил. Сначала носился на автомобиле с Элитой Струк по загородным притонам; а после ее отъезда из города кутил с приятелями в ресторанах, в пивнушках и на дачах – в обществе артисток, цыган и проституток. Отсыпался в номерах и у холостых друзей.
А теперь вот третий день бродил по своей квартире – в туфлях и в шелковом туркестанском халате с бело-зелеными полосками, перебирал пухлыми пальцами серенькую бородку, поглаживал такую же серенькую каемку волос на голой и розово-блестящей голове, точно хотел удостовериться в целости остатков былой шевелюры; тяжело вздыхал, шевелил побелевшими тонкими губами и, время от времени, крестился.
История Сонечки с Прейтманом оказалась измышлением больной фантазии брата Ивана, который не без содействия Пантелеймона Иваныча попал в сумасшедший дом. Пантелеймон Иваныч прекрасно понимал, что Сонечка сколь ни пофыркает, а простит его, и жизнь войдет опять в старую, наезженную колею. Немножко тревожила крупная недоимка по налогам. Но ведь мистер Струк хвастался новым секретарем, который «все может». Пантелеймон Иваныч тосковал и тревожился. Мучился непонятными предчувствиями. Ждал какой-то беды.
Вспомнил покойного отца – старого кряжистого сибиряка, который пил «мертвую» по месяцу; а потом вставал с похмелья, как ни в чем не бывало, осушал жбан огуречного рассола, часа четыре парился в бане и прямо с полка раза три бултыхался в снег. И с новой силой, без всяких терзаний, ворочал миллионными делами.
Вспомнил Пантелеймон Иваныч старика и умилился. Ведь если бы не он, никому не пришло бы в голову ликвидировать дела во время смуты и перевести почти всю наличность в заграничные банки. Вся семья была бы теперь нищей. А вот выдержал покойник свою твердую линию, получил последний переводный банковый билет, перешагнул через порог номера одной из московских гостиниц и грохнулся, багровый, на пол. Да так и не встал.
Пантелеймон Иваныч остановился перед маленькой иконкой в серебряной оправе, висевшей в переднем углу столовой, уставленной дубовой мебелью, перекрестил свое розовое и морщинистое лицо и громко, со вздохом, сказал:
– Помяни, господи, во царствии небесном… раба твоего Ивана… не зачти ему…
Точно обваренный розовый рак, обернутый в полосатую шелковую тряпицу, ползал по комнатам, шурша туфлями по паркету; снова возвращался к размышлениям о налогах и о большом деле, связанном с концессиями; вспомнил разговоры домашних о последних днях брата Ивана, проведенных в обществе газетчика Берлоги; вспоминал Элиту Струк и свое недавнее деловое знакомство с Ленкой-Вздох. Почувствовал, что снова охватывает тревога, снова тоска сосет сердце. Бродил по пустой и притаившейся квартире и, озираясь, шептал молитвы, которые заучил еще в бытность свою старостой кафедрального собора.
Зашел в свой кабинет. Поправил коптившую неугасимую лампадку перед раззолоченным киотом. Выдавливая из груди тревогу, а из головы грешные картины, пал на колени. Размашисто закрестился. Припадал лбом к холодному паркету. И шептал:
– Господи и владыко живота моего… дух праздности, уныния… не даждь ми…
А в голову настойчиво лезли: Элита, цыганки, с которыми куролесил две недели.
За дверью послышались шаги. Пантелеймон Иванович сорвался с пола и, узнав по стуку каблуков жену, приготовил ласковую улыбку. Но Сонечка перестала уже сердиться. Раздвинув тонкими и длинными руками портьеры, она шагнула и кабинет и, остановившись около шведской конторки, деловито сказала:
– К тебе какая-то женщина… фамилии не говорит… Скажите, говорит, просто Елена… по делу, касающемуся Пантелеймона Ивановича и мистэра Струка…
Кулаков вздрогнул. Опустил глаза. Хмурясь и пошевеливая прыгающими пальцами пепельную бородку, пробормотал:
– Пусть Маша скажет: нету меня… после, мол, будет… в другой раз.
Сонечка стояла около двери (словно большая жердь, на которую накинули розовый шелковый балахон, похожий на греческую тунику), стояла и чего-то еще ждала.
Пантелеймон Иваныч понял, что неприязнь к нему у жены прошла. И раздраженно крикнул:
– Ну… скажи там… как-нибудь!.. Не могу я… не примаю я… поняла?.. Пусть под вечер придет…
Сонечка смерила серыми глазами полосатую фигуру мужа, на момент остановила взгляд на его розовом лице с морщинами и мешками и, круто повернувшись, молча вышла из кабинета.
А Пантелеймон Иваныч зашлепал туфлями из кабинета в коридор, оттуда в голубую гостиную. Шел и ворчал про себя:
– Мистир Струк, мистир Струк… дерьмо собачье… Стал бы я с тобой дружить… кабы не мильёны твои американские…
Остановился перед репсовым диваном и, подавляя опять нахлынувшую тревогу, вздохнул:
– О, господи… кто не грешен… прости… владыко многомилостивый!.. Тоже – политика…
Плюхнулся на голубой репс. И долго сидел, подавляя тревогу и раздумывая о большом и сложном деле – об Алтае и о Струковских концессиях.
Надвигался вечер.
Хотя погода стояла все еще теплая, но окна в квартире были закрыты.
Изредка из города прилетал в гостиную отдаленный и глухой грохот трамваев. А из ограды доносился ленивый голос мальчика:
– Вот грюши жарени… Сахарни грюши жарени…
Через гостиную прошла Валентина Петровна.
Охваченный тоской, тревожными предчувствиями и страхом, Кулаков сиповато крикнул ей вслед:
– Валентина… пошли-ка Сонятку мне…
Не оборачиваясь, она коротко бросила на ходу:
– Хорошо…
Минуты тянулись долго и томительно жутко.
Наконец, послышался дробный стук каблучков. В гостиную вошла гордо-прямая и плоская, как доска, Сонечка, и спросила:
– Ну?.. Что?..
– «Ну, што», – сердито передразнил ее Пантелеймон Иваныч, окончательно убедившийся в примирении жены. – Накрывать надо… на стол-то… Фома Струков, гляди, нагрянет…
– Успеем, не твоя забота, – также сердито отрезала Сонечка. – Мистэр Струк не чужой человек…
Чтобы доказать свое культурное превосходство над мужем, Сонечка во всех иностранных словах, вместо е, произносила э.
Пантелеймон Иваныч понимал, что злоба у Сонечки – только для фасона.
Он посмотрел на окна, в которые ползли фиолетовые южные сумерки, и тем же сердито-деловым и хриплым от перепоя голосом приказал:
– Оборудовай там…. балычку… нежинских огурчиков… грибков… Добудь там у меня… в кабинете… знаешь… Бутылочку коньяку… французскова…
Сонечка удивленно подняла накрашенные брови:
– Да ведь мистэр Струк не пьет…
– Ну и чорт с ним… пусть не пьет… сам выпью…
Сухое лошадиное лицо Сонечки мгновенно так побледнело, что из-под пудры выступили веснушки, а с карминных губ сорвался испуг.
– Опять?!..
Пантелеймон Иваныч прятал от жены глаза, захлопывал полы полосатого халата и успокаивающе бормотал:
– Не скули… для спокою выпью… не обожрусь рюмкой-то…
Он отвернулся к окну и продолжал бормотать:
– Тоска у меня… тревога какая-то чорт!..
Помолчал. И, не оборачиваясь, спросил жену:
– Как Иван-то… не слыхала?
– Профессор сказал, что прогрессивный паралич, – ответила Сонечка. – А доктор говорит, что у него психоз… который может пройти…
Пантелеймон Иваныч оторвался от окна и, ругаясь, забегал по гостиной:
– Прикидывается дурачком, сволочь!.. Подлецам и образованье не впрок… Мы с тятенькой капиталы наживали… в люди его, мерзавца, выводили… а он… на-кось!.. Весь, говорит, свой класс буду изобличать… пакель не сотрется он со всей земли…
В этот момент где-то около дома зафыркал автомобиль. А из передней прилетела трель электрического звонка.
Сонечка метнулась из гостиной в коридор и понеслась дальше, в переднюю.
Слышно было, что из кухни туда же бежит прислуга.
Пантелеймона Иваныча охватил необъяснимый страх.
Дрожащими руками он захлопывал то одну, то другую полу халата, стучал губами, смотрел круглыми глазами на дверь, через которую должна была войти в дом катастрофа. Напряженно ждал беды.
Но, вместо беды и катастрофы, в передней весело загудел низкий, вибрирующий голос Сонечки:
– Пантелеймон!.. Пончик!.. Встречай дорогого гостя… Мистэр Струк приехал…
* * *
Хотя не было еще и семи часов, но Златогорск окутан был такой черной тьмой, что небо над городом казалось низким и вымазанным смолой. По тротуарам, во всех направлениях, шатались пестрые и возбужденно гудящие толпы. В пивнушках с открытыми окнами пискливо верещали скрипки.
Дом, в котором жили Кулаковы, стоял на косогоре, из столовой виден был весь центр города, казавшийся теперь огромной сковородой, по которой рассыпаны были до-бела раскаленные уголья.
Давно покончены были деловые разговоры. Давно Пантелеймон Иваныч и мистер Струк перешли из кабинета в столовую и, болтая с дамами, уничтожали обильную снедь, запивая кто чем мог: Струк – кофеем, Сонечка – мадерой, а Валентина Петровна и Пантелеймон Иваныч контрабандным французским коньяком.
Пантелеймон Иваныч сидел принарядившийся – на нем была крахмальная сорочка и черный костюм. Он опрокинул уже третью рюмку. Но чувствовал, что все попусту. Тоска, тревога и какое-то странно-тяжелое предчувствие не покидали его.
– Н-да-а… краля она у тебя. Я т-те да-а-ам! Имя-то, имя-то какое, шельма! С похмелья не выговоришь… ей-бо!..
Он повернулся к жене.
– Как бишь ее, Сонятка… ну-ка выговори?.. Ну-ка!?..
Сонечка подставляла старику Струку кофе и простые сухари, без которых он не садился за стол, и, жеманясь, говорила низким грудным голосом:
– Ну, что тут особенного… имя как имя… Элит – прекрасное и звучное имя…
Желая уколоть мужа и польстить нахохлившемуся над столом долгоносому старику, она игриво прибавила:
– Кому нравится – Элит… а кому… Пан-те-лей-мо-о-он…
– Ишь ты… уела! – так же игриво отгрызался Пантелеймон Иваныч. – Дура!..
– Не болтай, – деловито остановил его Струк, похрустывая сухарями и прихлебывая из чашки кофе. – Люди могут подумать про меня, старика, бог знает что. Ведь это моя, по документам, внучка.
Сонечка и Валентина Петровна многозначительно переглянулись и друг другу улыбнулись.
А Пантелеймон Иваныч, прислушиваясь к звукам нараставшего пения, продолжал:
– Нет, ей-бо Фома… выбор твой я одобряю… девка – огонь!.. Ежели дальше будет так работать она… да выгорит дело в Москве, загремим мы не то што по есесерии… по всему миру заголосят об нас…
Пантелеймон Иваныч понизил хриплый голос:
– А как твой новый секретарь? Этот самый Куковеров?
– Работает прекрасно.
– А ты хорошо узнал, што он инженер? Веришь ты ему?
Старик отодвинул от себя чашку, выдернул из-за крахмального воротничка салфетку и, откидываясь на спинку стула, твердо ответил:
– Теперь я доверяю Куковерову, как самому себе… Его технические познания проверены специалистами… в Москве он все входы и выходы знает, а его политическая преданность прощупана со всех сторон… на этот счет я не беспокоюсь…
Мистер Струк помолчал. Прислушался к отчетливо гремевшему где-то недалеко пению огромной толпы. И еще более уверенно добавил:
– На-днях, вероятно, все-таки подпишем концессию… Тогда и отошлем его.
Пантелеймон Иваныч покрутил головой:
– Ох, Фома!.. Не мне тебя, старика, учить… Оба вы с покойным моим тятенькой учены были хорошо… А все ж таки, гляди в оба!.. Дошлая порода большевицкая… Сквозь всю землю неприметно проходит… не то што в душу человечью…
Голос Кулакова дрогнул и оборвался. В столовой стало тихо.
А в окна рвался грохот тысячи ног, дробивших тяжелыми шагами мостовую.
Мистер Струк переводил взгляд глубоко сидевших стеклянных глаз то на Кулакова, то на дам; видел на их лицах испуг и тревогу и не мог понять, в чем дело.
У Сонечки опять веснушки выступили из-под пудры. Валентина Петровна хрустела ломающимися пальцами. А у Пантелеймона Иваныча на розовой лысине выступили капельки пота, посинело лицо и стали круглыми глаза.
– Что такое, господа? – растерянно спрашивал мистер Струк. – В чем дело?
Но ему никто не ответил.
Точно по команде, все стали из-за стола, кинулись к окнам и, упираясь руками о подоконники, смотрели со второго этажа вниз, в тьму улицы, по которой из-за угла двигалась тысячная толпа рабочих.
Над передними рядами в отблесках желтых полос из окон колыхалось багровое знамя, на фоне которого взвивался громкий юношеский тенорок:
Вот и-и о-ко-о-пы-ы,
Тре-щат пу-у-ле-ме-еты,
Их не-е бо-я-тся-а крас-ны-ы-е ро-ты…
Ночная тьма, пропитанная удушливой прелью опавших листьев и осенним запахом спелых овощей и фруктов, разорвалась ревом сотен крепких глоток:
Сме-ло-о-о мы в бой пой-де-е-ем
За власть со-ве-то-ов
И ка-ак о-дин ум-ре-о-ом
В борь-бе-е за э-тооо…
Черная громода с колебающимся знаменем быстро двигалась мимо кулаковских окон, дробно отбивая шаг. Казалось, что люди не сапогами выстукивают мостовую, а дробят густыми залпами из винтовок.
Склонившийся над подоконником Пантелеймон Иваныч чувствовал, что его треплет лютая лихорадка.
С пересохших губ его срывался и падал в тьму улицы шопот:
– Вот оно… началось!.. Рабочие… с нашей фабрики… железнодорожники… стругалевцы… все!.. Сволочи!.. Поднимутся ватагой… рухнут все планы… все пропадет… все…
Шопота его никто не слыхал.
Когда поющая толпа прогромыхала мимо и стала удаляться, спускаясь к центру города, в опустевшую улицу из-за угла мелькнула черная тень женщины в коротенькой юбочке, в пальто, оттороченном мехом, в шляпке и с зонтиком в руках. Она прыгнула на парадное кулаковского дома и скрылась в темном коридоре. Вверху остановилась перед квартирой Кулаковых и быстро принялась давить кнопку электрического звонка.
Из-за двери Маша спросила:
– Кто здесь?
– Это я, – ответила Ленка-Вздох. – Я, Елена…
– А-а, – протянула Маша и щелкнула затвором.
Распахнув дверь, Маша пропустила вперед себя Ленку, приговаривая:
– Пожалте… дома они… велели принять… Мириканец тоже здесь…
Феоктист БЕРЕЗОВСКИЙ








