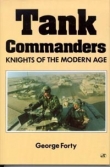Текст книги "Ночное солнце"
Автор книги: Александр Кулешов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Ему вдруг страшно захотелось позвонить отцу, поделиться радостью. Потом сдержался – отец хоть и молчит, но наверняка следит за его продвижением на этой «специальной полосе препятствий», как абитуриенты окрестили экзамены.
Следующим «препятствием» была математика – устная.
После завтрака роту построили, привели в класс, который располагался рядом с экзаменационной аудиторией, и стали по четверкам вызывать. В связи с «убылью в живой силе», по выражению Синицына, они с Петром попали в третью четверку.
Открыв дверь, Петр четко промаршировал к столу, за которым сидели преподаватели, и доложил:
– Абитуриент Чайковский прибыл для сдачи вступительного экзамена по математике! – и протянул свой зачетный лист, в котором против математики письменной уже жирнела пятерка.
– Берите билет, абитуриент Чайковский, тринадцатый номер, – предложил сухой человек средних лет в очках, видимо главный, и нельзя было понять, звучит в его голосе строгость или скрытый юмор.
Но тут случилось нечто такое, что вызвало улыбку у всех присутствующих. Петр закрыл глаза, на мгновение задержал растопыренные пальцы над белым веером билетов и решительно схватил крайний.
– Билет номер тринадцать, – громко доложил он. И сам улыбнулся.
– Тринадцать в квадрате, – пошутил кто-то.
Петр отправился к одному из столиков и стал читать вопросы. Их было три. И, как порой бывает на экзамене, тревожное чувство – что за вопросы? знает ли ответ? – сменилось ощущением огромного облегчения, радости – он отлично знал все три ответа! Ура!
Он еще раз закрыл глаза, посидел так минуту, сосредоточиваясь, потом склонился над тетрадью.
– Абитуриент Чайковский к ответу готов! – Он потратил на подготовку лишь несколько минут.
В зачетном листе ниже первой появилась еще одна пятерка. Второе препятствие на этой десантно-экзаменационной полосе преодолено.
Пятерку получил и Виктор Синицын.
– Ну что, Чайковский, по-моему, хорошо дела идут, осталось два. Слушай, как сдадим последний, махнем в ресторанчик, а?
– Нет уж, – решительно заявил Петр, – напивайся сам!
– Почему «напивайся»? – удивился Синицын. – А что, просто нельзя посидеть, пива выпить или кофе?
– Это можно, – согласился Петр, ему стало неловко за излишнюю резкость.
Действительно, почему нельзя просто поужинать? Обжегся на молоке, вот и дует на воду.
– Значит, пойдем. А пока смотаюсь на почту телеграмму дам, – сообщил Синицын. После каждого экзамена он спешил сообщить невесте радостную новость.
Третий экзамен, устная физика, стал повторением второго. И зачетный лист Петра украсила еще одна пятерка.
Последним было сочинение. На него отводилось шесть часов. Давалось три темы. Петр выбрал вольную. Он долго сидел, подперев голову рукой, устремив взгляд куда-то далеко за стены этой комнаты. Потом стал быстро-быстро писать.
Тема была: «С чего начинается Родина». Некоторое время Петр рассеянно смотрел в окно. Потом перевел взгляд на лежавший перед ним чистый бумажный лист. Не спеша написал заглавие. Потом первую фразу. Он строчил все быстрее, отрешившись от всего, не обращая внимания на знаки препинания, времени впереди было много – он успеет переписать сочинение набело.
«Я не понимаю, – писал Петр, – что значит: с чего начинается Родина? Родина не может начинаться и не может кончаться. Она просто существует. Я бы мог не быть, а она есть всегда. Она была задолго до меня и навсегда после меня останется. Наверное, поэт хотел сказать: с чего начинается наше познание Родины, с чем первым мы знакомимся, познавая ее. Конечно, в стихах так не напишешь. Но я думаю, что для нас Родина начинается с того, что мы здесь рождаемся. Мы еще ничего не понимаем, не говорим, не видим, не знаем, но мы уже на Родине. Поэтому, наверное, правильно было бы сказать, что Родина для каждого из нас начинается с родильного дома. Это не так красиво звучит, как в стихах, но зато верно. Раз уж я так написал, то скажу, что, по-моему, кончается Родина для любого человека только на кладбище. Даже если его забросит на чужбину, он в душе не расстается со своей Родиной до могилы.
Есть такие, кто предал нашу Родину, кто воевал против нее, и они, конечно, уже не имели права считать себя ее сынами. Но, живя далеко и умирая далеко от нее, они все равно тосковали по ней и, наверное, не раз проклинали себя за свое предательство. Родина может быть только одна, и дороже ее ничего нет. Когда человек еще маленький, он уже любит свою Родину, как любит свою мать, хотя еще не понимает, что значит слово „любить“.
Только много позже он задумывается, за что любит. Но, по-моему, есть вещи, любовь к которым объяснять бесполезно, например, любовь к Родине, матери, девушке.
Я могу ответить, за что люблю армию, особенно воздушно-десантные войска, могу ответить, за что люблю борьбу дзюдо. Могу ответить, почему люблю море, или моего тренера, или моего инструктора парашютного спорта…
Но как ответить, за что я люблю мать? Люблю отца, сестру?..
Потом в песне говорится, что, быть может, Родина начинается с картинки в букваре, со старой отцовской буденовки. Это образ. Поэт хочет показать, как мы постепенно Родину познаем. Конечно, есть миллион вещей и событий, с которых начинается это познание. И тут трудно сказать, что важнее, а что менее важно, что познается раньше, а что позже.
Я расскажу о себе.
Я, наверное, почувствовал любовь к Родине через отца. Когда я понял, что ничего не жалко, что можно отдать все и саму жизнь за Родину. А этого никто не знает лучше военных. И нигде так хорошо не поймешь, как в армии.
Я понимаю, что для процветания и благополучия нашей страны работают все советские люди. Каждый, как может, на своем участке.
Но ведь, не будь армии, все бы пропало. Любой агрессор все, что создали, уничтожил бы в одну минуту. Вот почему, мне кажется, нигде так не чувствуешь любовь к Родине, необходимость все отдать за нее, как в армии. А я ведь родился в военной семье. Мой дед погиб в боях за Родину, мама, хоть и отдала жизнь не в бою, но ясно же, что отдала она ее как солдат. Отец мой кадровый военный, и вся его жизнь посвящена защите Родины. Таким буду и я.
Поэтому, если уж воспользоваться образом из той же песни, – мне ближе всего буденовка, а если перевести на современный язык – воздушно-десантные войска…»
Заканчивалось сочинение так:
«…Поэтому я пришел к выводу (и наверное, не делаю открытия), что не то что в одной фразе, а и в тысячах томов не ответишь на вопросы: „С чего начинается Родина? Что такое Родина? За что мы любим Родину?“
А уж если пытаться ответить, то я знаю только один ответ: за то, что она есть!»
Дописав, он еще долго сидел молча, устремив взгляд в пространство. Потом спохватился, заторопился, начал все переписывать, тщательно проверять. И сочинение сдал одним из последних. Медленно вышел из аудитории. Он так устал, словно провел многочасовую тренировку на татами. А преподаватель собрал листы, отнес в учебную часть, где один из офицеров сотрет написанную вверху листа фамилию абитуриента, поставив вместо нее шифр, отдаст на проверку.
Проверяющие не будут знать, кто писал сочинение – сын ли известного десантника-генерала, командира дивизии Чайковского, или ничем не примечательный выпускник десятого класса Синицын. Им все равно. Им важно, что написано и как.
Все в равном положении. И уж если ты потомок десантной династии и для тебя дело жизни поступить в училище, так будь любезен честь этой династии поддержи и соответственно экзамены сдай. Так-то.
Экзамены кончились, и, казалось бы, наступила самая волнительная пора – кто же зачислен? Но все так устали от напряжения, что ходили вялые, говорили тихо и неспешно. Выложились на дистанции, финишировали и теперь ожидали, пока судьи объявят результат.
– Ну, как? – то и дело задавали друг другу один и тот же вопрос. – Как думаешь?
Каждый раз звучал один и тот же ответ:
– Посмотрим.
Синицын ходил озабоченный.
– Понимаешь, – объяснял он Петру, – последнюю телеграмму послал, что последний экзамен сдал. Теперь должен послать, что зачислен. Так? А если не зачислят?
– Зачислят, – вяло успокаивал друга Петр, – ты же все сдал, все решил, все написал – три пятерки, четверка.
– Тебе хорошо, у тебя все пятерки, а средняя по аттестации четыре с половиной, а у меня аттестат хромает, телеграфировать не буду, прямо поеду, свалюсь ей как снег на голову. Объясню, что-нибудь придумаю.
– А зачем придумывать, – Петр недоуменно пожал плечами, – ну, не приняли, что ж, вешаться из-за этого?
– Э, тебе не понять! – досадливо махнул рукой Синицын.
Но Петр подумал, что уж если кто и сможет понять товарища, так именно он, Петр. Он постарался, как мог, подбодрить друга.
Их вызвали на мандатную комиссию.
Это было едва ли не решающим испытанием. Петр отлично понимал, что хотя после каждого экзамена число абитуриентов сокращается, но все равно успешно сдавших будет больше, чем сможет принять училище. И из числа этих успешно сдавших все экзамены тоже придется кого-то отсеивать, а кого-то выбирать. Все решит мандатная комиссия. В нее входили начальник училища в качестве председателя, начальник политотдела, заместитель по учебной части, командиры батальонов, начальники кафедр, врач, представитель комсомольской организации, представитель штаба ВДВ и другие, столь же авторитетные люди. Решение мандатной комиссии никаким обжалованиям пе подлежало.
И вновь с бьющимся сердцем вошел Петр в большую комнату, остановился перед длинным столом, покрытым красным сукном, и срывающимся голосом доложил:
– Товарищ генерал-лейтенант, абитуриент Чайковский на мандатную комиссию прибыл!
Первым долгом у Петра попросили предъявить комсомольский билет. Посмотрели зачетный лист, где красовались одни пятерки. Потом начали задавать вопросы. Собственно, члены комиссии уже познакомились раньше с абитуриентами. С помощью «предмандатных подкомиссий», как в шутку называл их начальник училища. Члены комиссии расходились по подразделениям, беседовали с группами, а порой и с отдельными абитуриентами. Беседы были дружескими, уж никак не официальными. И разумеется, комиссия тщательно изучила все личные дела поступающих.
На собеседовании задавали самые разные вопросы.
– Вы ведь поступаете второй раз? – спросил Петра один из членов комиссии в гражданской одежде. – Почему?
– Так точно, второй, – нахмурился Петр, ему неприятен был этот вопрос. – Прошлый раз не все было в порядке со здоровьем.
– А что именно? – не унимался гражданский.
За Петра ответил врач:
– Дистония была, перетренировался. Но сейчас все в порядке, поработал над здоровьем. Жалоб нет. – Врач улыбнулся.
– У кого нет? – подозрительно спросил въедливый член комиссии.
– Ни у кого. Ни у него, ни у нас, – сказал врач.
– А каким спортом занимаетесь? – задал вопрос один из командиров батальона.
– Парашютизмом, дзюдо, имею разряды. Плаваю, хожу на лыжах, стреляю, играю в баскетбол, футбол, волейбол, еще…
– Хватит. Ясно. Почему значки не носите?
Петр пожал плечами. Действительно, почему? Хотя бы парашютный.
– Все не наденешь… – заметил он неопределенно.
– Надо носить, – серьезно сказал начальник училища. – Как получите форму, сразу же все надеть!
– Есть, товарищ генерал-лейтенант! – бодро ответил Петр, усмотрев в словах начальника училища скрытую уверенность в его успехе.
– Почему решили к нам в училище поступать? – спросил полковник, начальник политотдела. – Раз второй раз пришли, значит, решение твердое.
– А как же иначе? – под общий веселый смех ответил Петр.
– У вас кто-нибудь из близких в ВДВ служил или служит? – спросил сидевший с краю майор.
– Ответ на мой вопрос, – сказал начальник политотдела, – вытекает из ответа на ваш: абитуриент сын комдива генерала Чайковского, внук майора Сергея Чайковского, чей портрет висит у нас в музее.
Члены комиссии одобрительно зашумели.
Петр помрачнел. Начинается… Отец, дед. А сам, значит… Но начальник политотдела, угадав его мысли, весело воскликнул:
– Воздушно-десантная династия! Чайковские! Куда ж ему идти, как не в Рязанское? А поблажек он не ищет. Первый раз не получилось, второй пришел. Какие отметки – сами видели. Так что, думаю, все ясно.
– Что ж, Чайковский, поздравляю, в училище вы приняты, – сказал начальник училища и пожал Петру руку.
Их выстроили на плацу. День был на редкость солнечным, небо синим, вся природа праздновала праздник, будто радовалась вместе с десантниками. Да, теперь уже те, чьи фамилии прозвучат сейчас на этом плацу, имеют право считать себя десантниками. Конечно, будет еще время молодого солдата, присяга, но все же они наденут форму с голубыми петлицами, тельняшку, голубой берет. Их будут называть курсантами.
Перед строем вышел командир батальона. Он казался особенно торжественным. Медленно, неторопливо вынул из красной папки несколько белых листков, оглядел застывшие шеренги строго и неожиданно громко воскликнул:
– Зачитываю приказ начальника училища… Успешно прошли конкурсные испытания и зачислены курсантами Рязанского воздушно-десантного дважды Краснознаменного училища имени Ленинского комсомола… Антипов, Аравик, Атлантов, Ашугов.
Он перечислял фамилии. Порой слышался горестный вздох: сменялась буква, а человека не назвали.
– …Чайковский… – услышал Петр и сам удивился, с каким спокойствием воспринял эту весть.
Вот он и курсант.
Стало реальностью то, к чему он так долго и непросто шел. На пути встретил столько препятствий…
Он десантник. Как дед, как отец.
Путь его в жизнь лежит теперь перед ним, широкий, прямой и ясный. И пусть на этом пути будут трудности, заботы, препятствия – это светлый путь солдата. А есть ли большее счастье?..
– Поздравляю вас, товарищи курсанты! – донесся до него зычный голос командира батальона. – Поздравляю! – повторил он и после паузы негромко добавил: – Товарищей, не зачисленных в училище, командирам рот представить на беседу к начальнику училища.
Петру было искренне жаль непопавших. Особенно он почему-то сочувствовал тем, кто еще заранее, до экзаменов, остриглись наголо (чего, кстати, в училище не требовалось), стремясь подчеркнуть этим свою принадлежность к армейской семье. Теперь жди, пока волосы отрастут…
Зачислили и Синицына, и он тут же помчался отправлять традиционную телеграмму.
Петр тоже послал телеграммы, целых три. Первая была отцу: «Зачислен. Обнимаю», вторую он адресовал Лене Соловьевой: «Приняли. Жаль, нет тебя рядом. Целую. Твой Петро». Наконец, в третьей, в адрес Руты, было написано: «Приняли. Спасибо вам за все: за парашютную науку и многое другое».
Так закончился для Петра этот самый радостный день в его жизни.
Глава XIX
На свои телеграммы Петр вскоре получил ответные послания.
Илья Сергеевич откликнулся тоже телеграммой: «Иначе и быть не могло. Ведь мы Чайковские. Не урони фамильной чести. Отец». Ленка прислала открытку, на которой был изображен Ленинград. Открытка пришла с опозданием, поскольку сестра уехала в этот город на соревнования. Текст гласил: «Дорогой брат, рада, как будто сама поступила. Желаю тебе всего, что сам желаешь, а главное – успешной учебы и скорых офицерских погон. Твоя Ленка». Внизу было мелко накорябано: «Перед отъездом видела Л. С., она замечательная, обидишь ее – убью. Она ж тебя любит». Под Л. С. следовало, разумеется, понимать Лену Соловьеву, а приписку – как строгое указание на тему дальнейшей жизни. Одновременно с Ленкиной пришла из Ленинграда открытка с изображением бескозырки, увитой гвардейскими лентами. В ней стояло: «Дорогой Петр, искренне поздравляю Вас с принятием (слово „принятием“ было заштриховано и заменено „поступлением“) в Рязанское дважды Краснознаменное воздушно-десантное училище имени Ленинского комсомола и желаю успехов в воинской службе. Всегда ваш Рудик».
Петр улыбнулся, представив, как Ленка выбирала открытку с мужественным символом, как втолковывала затюканному Рудику, что писать, и, наверное, ругала за не то написанное слово.
Рута прислала короткое письмо, в котором благодарила за телеграмму, сообщала последние аэроклубовские новости. Заканчивалось письмо так: «Ну что ж, Петр, вот и исполнилась твоя мечта – ты стал десантником. Не сомневаюсь, исполнятся и все остальные. Будешь и мастером спорта, и офицером, и генералом. У такого отца, как твой, другого сына и не могло быть. У него и у Зои. Уверена, что, когда представится возможность, ты обязательно побываешь в аэроклубе, где тебя всегда встретят как своего. Так что не „прощай“, а „до свидания“. Мне будет не хватать тебя. Рута».
При чтении этого письма у Петра почему-то кольнуло сердце. Он погрустнел. Рута была для него и старшей сестрой, и советчиком, в чем-то и второй матерью.
Петр уже привык получать в эти дни разные поздравления, ведь помимо отца, Руты, Ленки телеграммы или открытки прислали ребята из бывшего класса, друзья из аэроклуба, из спортивной секции, приятели по дому. Поэтому он не удивился, обнаружив на столике очередной заклеенный телеграфный бланк. Он взял его по дороге на завтрак и прочел во время короткого перерыва перед выходом на занятия.
Прочел и застыл, охваченный вихрем противоречивых чувств. «Если можешь, приезжай в Москву. Если нет, приеду к тебе. Все здесь осточертело. Ты нужен мне как воздух. Ради бога, приезжай. Неужели все забыл. Вычеркни все плохое, прости. Как прежде, твоя Нина». И обратный адрес до востребования.
Угасшая любовь, тоска, ревность, обида, злость, удивление, радость, растерянность…
Какие только чувства не испытал Петр в эти минуты! Откуда узнала адрес? Почему телеграфировала именно в этот момент? Теперь уже заведомо зная, что он на четыре года связан с училищем, на всю жизнь с армией? Зачем приезжать? Кто и почему ей осточертел? Что все это – минутный каприз или подлинное чувство, заслоненное доселе чем-то и кем-то другим?..
Сто вопросов, и все без ответа. Отвечать? Не отвечать?
Петр колебался. Не ответить – значит показать себя трусом, мелочным. Наконец, это просто не «по-джентльменски» (любимое Нинино слово). Он долго размышлял над текстом ответа. (А может быть, над его существом?) Медленно, задумчиво написал, перечитал, смял и выкинул, снова написал, снова выкинул.
Телеграмма, которую он послал, была короткой: «Ни вычеркнуть, ни простить не могу. Прощай».
Он неторопливо порвал квитанцию, аккуратно бросил ее в урну и покинул почту.
Он думал, что надолго Нинина телеграмма отравит ему его радость. Это была как сердечная боль – на мгновение сжала, кольнула и исчезла.
Но ведь это и была сердечная боль!
Ему вдруг стало легко на душе, спокойно и радостно. И немного пусто.
Самое длинное письмо пришло, конечно, от Лены Соловьевой. Написано оно было четким, крупным, ясным почерком.
Лена, откровенная в своих чувствах, когда говорила с ним, в письме написала все, как есть.
«Я люблю тебя, Петро, – писала она, – это не секрет, ты давно об этом знаешь. А теперь получай письменное подтверждение. Мне не стыдно об этом писать. С тобой я самолюбие и стыдливость в карман прячу. Уж так! Хочу тебе сказать, что не представляю своей дальнейшей жизни без тебя. Теперь же начну хлопотать и бегать, чтоб переехать в Рязань. Я уже узнавала – берут преподавателем физвоспитания в школу. С жильем устроюсь. Сможешь, если захочешь, приходить ко мне по воскресеньям или когда будет увольнение. Буду ждать.
Я вообще тебя буду ждать, сколько скажешь. Четыре года, так четыре, десять, так десять. Хоть сто.
И теперь главное: если это все мои бабские мечты, напиши мне! Дай слово, что напишешь! Или телеграфируй. Два слова: „Не приезжай“. И клянусь тебе, никогда ничем тебя не обеспокою. Просто буду ждать, сколько придется…
Целую, очень тебя люблю. Твоя Лена Соловьева».
Петр улыбнулся, перечитал письмо, еще раз перечитал. Перестал улыбаться. Он вдруг понял, что это уже не игра, не детские увлечения, а жизнь, человеческие судьбы, что Лена не девчонка, а он уже не школьник, завтрашний офицер. Что прошла для него пора поцелуев украдкой, прогулок в парке и танцев на вечеринках. Что он уже взрослый, и Лена взрослая, и хотя они очень молоды, но уже имеют право, да нет, пожалуй, обязаны думать о самостоятельной жизни, о правах своих, а главное – обязанностях. И что, ответь он ей сейчас «Приезжай», он не просто напишет слово, а сделает важный жизненный шаг, будет отвечать уже не только за себя…
Он долго сидел задумавшись, потом решительно встал, подошел к окошку и протянул телеграфный бланк с единственным словом «Приезжай».
Но не только у Петра состоялись в то лето радостные и печальные встречи с прошедшим. У Ильи Сергеевича тоже, и отнюдь не эпистолярные.
После учений ему удалось вскоре съездить в отпуск. Он не поехал в Прибалтику, где они так любили бывать с Зоей.
Именно поэтому.
Там все – и безбрежный золотой пляж, по которому прошли они, гуляя, небось не одну сотню километров, и поросшие соснами дюны, в которых укрывались от упрямых балтийских ветров, и маленькие бары, кафе и кондитерские, где сиживали за чашкой кофе или бутылкой пива, – все кругом будило бы в нем воспоминания, до сих пор не прошедшую боль.
Когда из жизни уходит любимый человек, особенно тоскливо, особенно тягостно вспоминать счастливые, радостные минуты, которые ты провел с ним. Безоблачных отношений не бывает даже у самых близких существ, на самом светлом пути мелькают тени, но, потеряв любимого человека, о них не вспоминаешь. Тени бесследно исчезают. Остается лишь память о хорошем. И когда попадаешь в места, с этим хорошим особенно близко связанные, охватывает чувство невыносимой тоски, отчаяния от невозвратимости утраты.
Илья Сергеевич был-очень сильным, но и он не хотел подвергать себя этому испытанию. Он уехал в Сочи.
Сочи прелестны весной, когда еще не наступил сезон и толпы приезжих еще не заполняют безнадежно плотно кафе и рестораны, пляжи и парки, скверы и улицы, превращая курорт в самую страшную пытку – пытку толпой.
Все расцветало, опьяняюще пахли южные приморские цветы, кусты, деревья, море.
Илья Сергеевич гулял по зеленым свежим аллеям, по пустынным набережным, ходил пешком в горы, исправно ездил на экскурсии – на Ахун, на Рицу, в Ботанический сад.
Купался. И хотя купальщиков в эти пока свежие дни было немного, он являлся на пляж и, погревшись на весеннем, уже припекающем солнце, уплывал в море.
Плавал он превосходно. Ритмично работая руками безупречным кролем, он отплывал на несколько сот метров, а затем бесконечно долго, неторопливо плыл вдоль берега, любуясь его зеленым силуэтом, белоснежными громадами прибрежных зданий, беспрерывным полетом чаек, стремительным скольжением «метеоров» и катеров, величественным движением уходящих за горизонт теплоходов – всем тем, что здесь успокаивает твои нервы и на невозможном языке врачей называется психотерапией, или терапией пейзажа. Илья Сергеевич мало с кем общался из отдыхавших с ним в санатории, он не любил «тихие» игры, а волейболистов и теннисистов не находилось.
По вечерам, сидя с книгой на балконе своего номера, Илья Сергеевич читал. Но порой, отложив книгу, устремлял взгляд к горизонту, где готовилось ко сну умытое, румяное солнце. Внизу тихо перешептывались пальмы, лениво шелестели волны, переливаясь, сверкала морская парча…
Зоя так мечтала съездить Как-нибудь в Сочи. Они много поколесили за свою кочевую военную жизнь, а в Сочи так и не попали.
– Ты знаешь, – говорила Зоя, – у меня такое чувство, что, как только я туда приеду, как улягусь на песок, так и не встану…
– В Сочи нет песка, – приземлял ее мечты Илья Сергеевич, который сам знал об этом лишь понаслышке.
– Как это нет? – протестовала Зоя. – Море есть, а песка нет? Не может быть! Ну, все равно, входила бы в воду, она там небось теплая как парное молоко, и не вылезала…
– Вода там теплая, как суп, как полуостывшие щи, – дразнил ее Илья Сергеевич.
– Фу! Как неромантично! – набрасывалась на него Зоя. – «Суп»! Нет в тебе чувства прекрасного…
– Потому я и женился на тебе, – перебивал ее Илья Сергеевич.
– Ну знаешь…
Так дурачились, шутили, дразнили друг друга…
Прекрасные, счастливые, навсегда ушедшие дни…
Солнце, раскинув алые руки, приближалось к воде, готовясь окунуться. Весь горизонт розовел, золотился, лиловел. Море светлело, и еще ярче вспыхивали на нем серебристые всплески. Вечер заставлял пальмы, цветы глубже дышать, и их ароматное дыхание крепчало, заполняло все вокруг.
Илья Сергеевич снова брал книгу в руки и устремлял на страницы невидящий взгляд.
Но вскоре опять переводил его к морю, к горизонту.
Несправедливо все-таки! Так погибнуть, как Зоя! Он был генералом, военным человеком, пусть не воевавшим, но вся профессия которого, все действия, все мышление так или иначе были связаны с гибелью людей, очень многих людей. Казалось бы, мысль о смерти трагической привычна ему. «Нет, – размышлял он, – к мысли о смерти нельзя привыкнуть никогда, даже в девяносто, даже в сто лет трагедия, когда человек умирает. А в двадцать, в тридцать? Человек ведь хрупок. Как искусно, на грани волшебства, работают врачи – над глазом, над зубом, над каким-нибудь пустяковым фурункулом, какие многочасовые сложнейшие операции проводят, чтобы спасти нарывающий палец, обожженную руку, сломанный нос… И спасают, вылечивают.
Совершеннейшие больницы, операционные, реанимационные, барокамеры, хитроумнейшие приборы, установки, лекарства – все для того, чтобы спасти одну-единственную жизнь, а то и один орган тела».
Илья Сергеевич размышляет о нелепости смерти, о случайности рока. Он всегда возвращается к этой мысли, думая о Зое и ее гибели.
Потом он думает о другом – пять больниц, десяток операционных, кабинетов, родильных домов можно построить на деньги, что стоит один «Поларис», два бомбардировщика «Боинг», три истребителя «Фантом».
Как ни совершенны и хитроумны сегодняшние изобретения, предназначенные спасти людей, куда хитроумнее, увы, те, что назначены их убивать. Это уже не рок, это злая воля. Злая воля иных безответственных правителей, без конца усиливающих гонку вооружений за счет того, что действительно необходимо людям.
Илья Сергеевич встряхивается, встает, подходит к перилам балкона.
Теперь на Сочи опустилась густая южная ночь. И не различишь, где море, где небо. Только помигивает маяк у входа в порт, цепочки огней повисли на набережной, да вдали слабо мерцают, медленно движутся фонари на палубах какого-то теплохода.
Отпуск пролетел быстро. Но с пользой. Илья Сергеевич, немало расходующий здоровья и нервов на работе, чувствовал, что отдохнул. Он безошибочно определил это, ощутив нетерпеливое желание снова окунуться в работу. Он уже беспокоился: как там в дивизии, закончен ли ремонт понтонов, достроен ли психологический комплекс, уехал ли на учебу капитан Оничкин из второго батальона и удалось ли Логинову примирить майора Иванова с женой? Словом, тысячи вопросов, с которыми он сталкивался ежедневно, которые надо было решать всегда быстро и всегда правильно и о которых он здесь первое время не думал.
А сейчас уже не мог без этого.
«Интересно, – размышлял он, – вот если человек привык к определенному режиму питания или дня, а его раз и на другой – это ведь вредит здоровью. Почему же комдив, да, наверное, и директор завода, председатель колхоза, которые с утра до вечера на ногах, в делах, для которых их постоянное напряжение нервов, мысли – норма, вдруг, отправляясь отдыхать в санаторий, не страдают от этого?»
Ну там несколько дней – понятно. Но целый месяц! Илья Сергеевич считал, что уже вторую половину отпуска был мысленно в дивизии, жил ее заботами, делами, проблемами, даже купаясь, загорая, сидя на балконе.
Видно, пора возвращаться. С радостным и в то же время беспокойным чувством садился Чайковский в машину, которая должна была отвезти его на вокзал. Он лишь досадовал, что придется болтаться там добрых полчаса до отхода поезда – машина отвозила еще одного генерала, а у того поезд уходил немного раньше. Ну да ладно, не беда.
Илья Сергеевич посадил в вагон коллегу, помахал на прощание рукой, дождался, пока подали его состав, занес чемодан и вышел на перрон подышать оставшиеся четверть часа сочинским морским воздухом, в котором, честно говоря, море не очень-то чувствовалось.
В это время к другому пути перрона медленно, почти бесшумно, подошел поезд дальнего следования, тот же, на котором месяц назад приехал в Сочи и он. С рассеянным любопытством наблюдал Илья Сергеевич за обычной суетой прибытия: откидывающимися ступенями, проводниками, протирающими поручни, подбежавшими носильщиками с тележками, встречающими, рвущимися в вагоны, и прибывшими, спешащими на перрон…
Внезапно взгляд его привлек смутно знакомый силуэт. Стройная женщина в брючном костюме с небольшим чемоданом в руке неторопливо, позже всех, спускалась с подножки мягкого вагона.
Еще не веря глазам, радостно и изумленно смотрел он на приближающуюся женщину.
Но сомнений быть не могло – это же Бирута Верникова, Рута! Подруга юных лет!
С появлением этой шедшей к нему, но еще не заметившей его молодой женщины в его памяти возникли веселые лейтенантские дни, залитые солнцем парашютодромы, вечерние танцы в Доме офицеров, ушедшие времена. Он вспомнил их дружбу втроем, ее жалкое, горькое признание в любви тогда, в его холостяцкой холодной комнате, свое смятение. Все, что было потом… Рута, Рута! Будто яркую быструю ленту прокрутила перед его мысленным взором память.
– Рута! – сказал он громко.
Она огляделась. В сутолоке перрона не так-то просто было определить, откуда исходит возглас. Наконец она увидела его, когда он уже почти подошел к ней.
Она уронила чемодан, на лице ее молниеносно сменялись выражения удивления, растерянности, радости, печали, смущения.
– Здравствуй, Рута! – Он крепко обнял ее, застывшую неподвижно, поцеловал в обе щеки. – Здравствуй! Сколько лет, сколько зим!
– Здравствуй, Илья. – Она улыбалась.
– Где ты пропадала? Ни привета, ни ответа, – говорил он, разглядывая ее.
Годы почти не коснулись Руты. Пожалуй, наоборот: из лихой, веселой, хорошенькой девчонки она превратилась в женщину зрелой, спокойной, неброской красоты.
– Столько не виделись, столько порассказать надо, а мой поезд уходит через восемь минут. – Он нахмурился. – А Зоя…
– Я знаю, – перебила Рута, – я ведь живу в твоем городе, – она улыбнулась, – я не раз тебя видела. Да, Зоя… Узнала, не поверила, Илья.
– В моем городе? – Он внимательно посмотрел на нее. – А почему никогда не зашла, не позвонила?
– Сначала трудно было, еще больно, – она невесело усмехнулась, не опуская глаз, – потом не хотела вам мешать. Потом… Потом не хотела мешать тебе. Но я все о тебе знала, – в глазах ее мелькнул веселый огонек, – мне Петр рассказывал.
– Петр? – теперь уже Илья Сергеевич ничего не понимал.