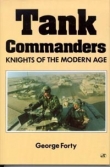Текст книги "Ночное солнце"
Автор книги: Александр Кулешов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– Ну, сработала та ситуация в подсознании, – удивляясь непонятливости комдива, объяснил Волохов, – и выдала правильное решение. А уж откуда все взялось, это я потом вспомнил, когда анализировал…
Конечно, сейчас, в бою за станцию Дубки, ситуация была проще с точки зрения тактической, но и здесь генерал наблюдал у Волохова ту же уверенность, мгновенную реакцию, подсказывавшую наиболее правильные и простые решения.
Бой за железнодорожный узел Дубки был коротким, но трудным. Десантники понесли значительные потери. Так или иначе приказ был выполнен – важнейший железнодорожный узел оказался в руках «северных». И теперь, выполняя последующую задачу, подразделения под командованием капитана Волохова двинулись дальше, на север, на соединение с гвардейцами капитана Ясенева, чтобы, заняв заранее намеченные позиции, не допустить подхода резерва «южных».
«Убитый» подполковник Круглов чувствует себя действительно убитым. Потирая впалые, обросшие жесткой щетиной щеки, он печально смотрит на радостную суету победителей, следит за уверенными действиями своего комбата. Его раздирают противоречивые чувства. Он гордится своими гвардейцами, своими офицерами, которых он воспитал, научил побеждать, он счастлив их успехом. И в то же время ему горько, что он не участвует во всем этом, невыносимо положение стороннего наблюдателя. Не он привел их к сегодняшней победе, не он поставил точку под завершающим этапом боя. Ну, а если быть честным, он вообще не очень-то здорово проявил себя на этих учениях. Подполковник Круглов привычным жестом сгребает в горсть свой длинный нос и тонкие губы и тяжело вздыхает.
А генералы возвращаются на КП дивизии.
КП дивизии генерал Чайковский решает теперь перенести в район железнодорожного узла, поближе к местам, где, как он уже предвидит, развернутся скоро серьезные события.
На КП комдива встречает полковник Воронцов. Он уже успел побриться. Бессонная ночь, напряженная работа не оставили никаких следов на его лице.
– Разрешите доложить обстановку, товарищ генерал-майор, – как всегда официально, начал начальник штаба.
– Минутку, товарищ полковник, дайте очухаться. – Генерал Чайковский довольно улыбался.
Сейчас очухается и доложит командующему, что приказ выполнен – аэродром захвачен, «противник» в заданном районе уничтожен, мост, а теперь и железнодорожная станция в руках десанта, десантники Круглова вышли на рубеж село Высокое, аэродром, где и закрепляются. И все это выполнено на час раньше срока. Вот так. Есть что доложить. Эх, сейчас бы чайку!
Словно угадав его мысли, из-за спины возникает прапорщик Евдокимов, адъютант комдива. Молчаливый и незаметный, но удивительно «эффективный», по выражению полковника Воронцова, и обладающий прямо-таки сверхъестественной способностью угадывать желания своего начальника. «Не Евдокимов ты, а Вольф Мессинг», – смеется полковник Логинов. Прапорщик молча улыбается в ответ. Вот и сейчас он быстро и ловко расставляет на свежеобструганном, пахнущем сырым деревом столике плексигласовые чашки, термосы, раскладывает бутерброды и словно растворяется в воздухе.
Генерал Чайковский приглашает к столу Мордвинова, Воронцова («Благодарю, товарищ генерал-майор, – отказывается начальник штаба, – я уже откушал»), поднимает чашку обжигающего чая:
– За победу, за успех!
Завтрак комдива продолжается неполных пять минут. Из небытия возникает прапорщик Евдокимов, мгновенно убирает все со стола, словно невзначай оставляет на краю электробритву на батарейках. И исчезает.
На столик кладутся карты, и пока генерал Чайковский бреется, то задирая, то поворачивая голову, начальник штаба подробно докладывает обстановку, подводит итоги.
Когда наблюдаешь, как работает, творит, сражается, устанавливает рекорды человек, то видишь ловкие, сильные, быстрые, искусные движения его рук, ног, тела, выражение лица, блеск глаз, улыбку.
Мозг не видишь.
А ведь, повинуясь именно его воле, работают все органы, все части тела человека, повинуясь его воле, они борются и побеждают.
И мы восхищаемся, наблюдая эту борьбу, следя за работой тела. Работу мозга видеть не дано.
Офицеры штаба не ходят в атаки (хотя и это бывает), не врываются с криком «ура» в расположение врага, не водружают знамя победы над поверженными крепостями. В лихорадке боя они не строчат из автоматов, не мчатся на танках и боевых машинах. Они не руководят боем непосредственно с НП, не отдают приказов в пылу сражения…
Они спокойно и невозмутимо колдуют над картами и документами, сводками и донесениями в тиши далеких от передовой кабинетов, хорошо укрытых блиндажах, бывает, и в наскоро отрытых ячейках. Все зависит от ранга.
Но не было бы без них ни громких побед, ни блестящих операций, ни сложнейших хитроумных маневров и передвижений, ни остроумных ловушек, ни сюрпризов врагу. И наконец, того военного искусства, что веками восхищает человечество и отнюдь не только специалистов, неувядающие образцы которого навечно оставили в истории великие полководцы и армии всех времен.
Чего это стоит штабистам!
Кто тратит больше нервной энергии, кто изнашивает себя больше? Хоккеисты в яростном спортивном единоборстве, мечущиеся по площадке, или их тренер, обреченный лишь стоять у бортика, засунув руки в карманы? Он не может пробить по шайбе, задержать в воротах ее полет, перехватить нападающего соперника или избежать его защитника.
Во всех красивых, молниеносных, восхищающих зрителей комбинациях, которые разыгрываются сейчас на льду, он не участвует. А между тем все, что делается на поле, все забитые голы, все удачи – это его творчество, его усилия, его мысли, решения, задумки, воплощенные его командой. За один матч тренер тратит нервов, наверное, не намного меньше, чем все игроки команды, вместе взятые.
Штабисты не имеют права на лишние эмоции. Их оружие глубокие знания, ясный ум, умение анализировать, сопоставлять, делать выводы.
От точности их оценок, быстроты соображения, глубины анализа зависит решение командира. Времена Ганнибалов и Цезарей прошли. Ныне самый гениальный полководец беспомощен без множества данных, которые необходимы ему для принятия решения. И если данные эти ошибочны, неточны, недостаточны, если поступили они несвоевременно, плохо обработанными, неполными, то, будь полководец семи пядей во лбу, он вряд ли сумеет принять правильное решение. Без отличной работы штаба невозможно отличное управление войсками, а без управления какая же может быть победа!
При всех своих человеческих недостатках полковник Воронцов был хорошим начальником штаба. Он и помощников подобрал себе способных и умных. Они проделали немалую работу, и на каждом этапе действий командир дивизии всегда имел все необходимые данные для принятия решения.
Сухой, неизменно подтянутый, полковник Воронцов не только сам отличался незаурядной работоспособностью, но умел заставить работать своих подчиненных с предельной отдачей. Не успев приземлиться, он едва дождался, когда ему будет приготовлено место, и сразу же приступил к работе.
На большом, наскоро сколоченном из досок столе лежали карты, графики, таблицы, стояла портативная пишущая машинка.
Поблизости за другими столиками, в отрытых ячейках, просто на чурбаках сидели штабные офицеры. Несколько телефонов то и дело звонили. Входили и выходили люди, докладывали командиры и начальники штабов частей. По соседству гремел бас начальника связи дивизии подполковника Дугинца. Его хозяйство было одним из самых сложных, важных и ответственных. Без связи и комдив и его начштаба как без рук, без глаз, без языка – словом, без всего, что требуется для функционирования живого организма. А дивизия разве не живой организм?
Да, решения, которые должен принимать командир дивизии генерал-майор Чайковский, существенно отличаются от решений комбата капитана Волохова, не говоря уже о командирах рот и взводов.
В бою принимать едва ли не ежеминутно решение должен каждый. И боец и генерал. Разница в масштабах и мере ответственности. За ошибку бойца расплачивается один человек, за ошибку генерала – тысячи.
И хотя конечное решение принимает командир части или соединения, но в определенной степени это решение коллективное, поскольку отработать все необходимые для него данные командир взвода или роты может сам, а командир дивизии – нет. Ему эти данные подготавливает штаб, который тоже не имеет права на ошибку.
Комдив Чайковский держит в голове множество данных, собственно, весь район боевых действий он может представить своим мысленным взором. Сейчас, глядя на карту, он анализирует создавшуюся обстановку.
На левом фланге удачливый капитан Ясенев быстро выполнил поставленную перед ним задачу. Но это не значит, что его и без того не такие уж значительные силы можно распылять, открывая путь для действующих на своем правом фланге «южных». А на его, Чайковского, правом фланге что происходит? Теперь вроде бы все в порядке. Дубки взяты. И, таким образом, весь полк Круглова выходит на линию, где сможет остановить опасно приблизившихся «южных». Вот именно, опасно приблизившихся. Долго, слишком долго возились, хоть и справились раньше установленного срока, а надо было еще быстрее. Вон «южные» вышли во фланг капитану Кучеренко раньше, чем ожидалось. Да, Кучеренко засиделся. На разборе этому эпизоду надо будет уделить особое внимание. Что-то здесь не предусмотрели – и Кучеренко, и подполковник Круглов, да и подполковник Сергеев (мог бы побольше узнать про болото), и конечно же он, комдив Чайковский.
А что в районе моста? Мост в руках десантников, но вряд ли «южные» так просто с этим смирятся. Они что-то предпримут. Что? Чайковский сосредоточенно перебирает в памяти все данные, подготовленные штабом, снова смотрит на карту. Как бы поступил он на месте «южных»? Наверное, все же атаковал мост, атаковал Зубкова любыми средствами. Запросил авиацию, а еще лучше вертолеты. Выбросил вертолетный десант. Где? Пожалуй, вот здесь, где овраг. Совершат какой-нибудь отвлекающий маневр, а ударят здесь. Сначала будут штурмовать, а потом высадят десант. Что думает об этом начальник штаба?
Выясняется, что начальник штаба считает подобное предположение маловероятным.
– Если предпримут вертолетную атаку, то на Ясенева, товарищ генерал-майор, – задумчиво глядя на карту, говорит полковник Воронцов и тут же поправляется, – скорее всего, на Ясенева.
– Вот что, товарищ подполковник, – поворачивается комдив к Сергееву, – приказываю выяснить все, что можно, о вертолетных силах «южных».
– Есть, – отвечает подполковник Сергеев и уходит.
– Не будут они замахиваться на Зубкова, товарищ генерал-майор, – замечает полковник Воронцов. – По всем канонам не должны. Слишком велики будут потери, а успех проблематичен.
– Что-нибудь постараются придумать, – усмехается комдив, – не мы одни с тобой головы ломаем, у «южных» тоже серое вещество есть. – И он снова устремляет взгляд на карту.
Глава XI
Последний школьный год выдался для Петра столь трудным, столь насыщенным событиями и делами, что, вспоминая его потом, он не раз дивился, как смог все это выдержать.
В начале сентября, выглаженный, аккуратно причесанный, сверкающий, «как рояль» (по выражению Нины), он стоял в школьном зале и слушал короткую речь начальника районного отдела милиции.
Потом полковник в отставке, Герой Советского Союза, вручил ему паспорт – сверкающе-красный, с золотыми буквами.
– Получай, сынок, – громко сказал ветеран, пожимая Петру руку, – и береги. Это почетный документ. Он – к тому, что ты гражданин Страны Советов. А большего почета и быть не может. – Потом, заглянув в паспорт, негромко добавил: – Чайковский Петр Ильич, сын, значит, Ильи, внук Сергея. Служил я с твоим дедом. Тоже ведь в десантники пойдешь?
Петр молча кивнул, у него комок подкатил к горлу, стало трудно говорить.
Ветеран похлопал его по плечу, улыбнулся и еще раз пожал руку.
– Служи, сынок. Как дед служил. Как отец служит.
Столь важное событие, как совершеннолетие и получение паспорта, Петр отметил дважды. В первый раз дома. Они собрались вечером за празднично накрытым столом – Илья Сергеевич, Ленка с сопутствующим ей теперь неотступно и непостижимым образом сумевшим обскакать всех других ее поклонников Рудиком и Петр с Ниной.
Все было очень торжественно. Ленка постаралась: лично испекла абсолютно несъедобный пирог, который все старательно хвалили. Пили шампанское. Произносили короткие тосты, речей не было – никто из присутствующих не умел и не любил их говорить.
Илья Сергеевич старался скрыть грусть. Эх, не видит Зоя сына таким! Ленка, наоборот, стараясь отвлечь отца, все время смеялась, острила, рассказывала разные веселые пустяки. Рудик, пребывавший у нее прямо-таки в рабском подчинении, старательно и не всегда впопад поддакивал и, поймав Ленкин укоризненный взгляд, в страхе застывал с открытым ртом.
Нина, как всегда, была серьезной, в меру смеялась, произнесла тост в честь Ильи Сергеевича. Петр, немного растерянный в этой неясной обстановке, старался быть на высоте.
Куда лучше чувствовал он себя на втором торжестве, происходившем у Нины и на котором они с Ниной только и присутствовали. Бабушка, накрывшая сказочный стол, как всегда, тут же бесследно исчезла.
Им было хорошо.
Сверхсовременный квадрофонический, многоколоночный проигрыватель наполнял комнату тихой музыкой, Нина надела новое, очень красивое платье, и сама она была красива, как никогда. И весела. И нежна. И влюблена. Она несколько раз повторила ему это. Ничто не предвещало грозы. И казалось, этот столь чудесно начавшийся вечер должен был так же прекрасно окончиться.
Но вышло иначе.
Они выпили совсем немного. Бутылку шампанского, да и то не всю. Какого-то заграничного, привезенного ее родителями в их последний приезд. Впрочем, выпила, скорее, Нина, потому что Петр, через силу влив в себя пару фужеров, чувствовал, что и это много. Пить он не любил, не умел, не хотел. Но что поделаешь, его же праздник!
Неожиданно Нина села к нему на колени, обняла, прижалась щекой, ласкаясь, попросила:
– Разреши мне кое-что, Петр. Пожалуйста, разреши.
– Что? – насторожился он.
– Не спрашивай. Ну разреши, что я хочу. Можешь ты мне раз в жизни разрешить то, что я хочу, не спрашивая? А? Можешь? Ну, Петр. Пожалуйста.
Есть минуты, когда тает даже самое твердое мужское сердце. Предчувствуя нежеланное, Петр уступил. Нина радостно поцеловала его в щеку и, убежав в соседнюю комнату, вернулась с сигаретой в зубах.
Петр помрачнел. Он последнее время догадывался, что Нина покуривает, и даже делал ей всякие грозные намеки, но она горячо протестовала. А как известно, не пойман – не вор. Сейчас было поздно возражать. Данное слово для Петра было свято.
– Ну не дуйся, Петр, пожалуйста, – говорила Нина. – Ты же видишь, я просто балуюсь. Разве это называется курить? Ты знаешь, как Танька курит, как паровоз, и Инга.
Она азартно называла имена одноклассниц, пока Петр не убедился, что все девчонки школы чуть не с пятого класса смолят, как матросы парусного флота, и только она, Нина, иногда, раз в неделю, позволяет себе побаловаться сигаретой, да и то когда ей очень плохо или очень хорошо…
– Как сейчас, – добавила она и снова села к Петру на колени.
– Лучше бы у тебя все шло ровно, – кисло сострил Петр.
– Шампанского больше нет! – неожиданно воскликнула Нина, и Петр с удивлением обнаружил, что бутылка действительно куда-то исчезла со стола. – Будем пить коньяк. Отец привез…
– Ну нет, – решительно заявил Петр, – этого еще не хватало!
– Петр, – Нина неодобрительно посмотрела на него, – тебя никто не просит напиваться, но мы же не можем не поднять тост за твоего отца, за… Зою Сергеевну. В конце концов, без них тебя бы не было. У тебя же совершеннолетие!
Петр молчал, не зная, что сказать, а Нина тем временем принесла из кухни приземистую бутылку и громадные пузатые бокалы. Петр испугался, но она налила ароматную жидкость цвета крепкого чая лишь на дно и, вертя бокал в ладонях, пояснила:
– Это нарочно такие, в них согревают коньяк и вдыхают аромат. – Она поднесла бокал к носу. – Мне папа показывал. Это не все знают. Те ребята в Москве тоже так пьют. – Она отхлебнула большой глоток.
И началась ссора.
– Чему еще полезному научили тебя «те ребята» в Москве? – спросил Петр. Глаза его потемнели.
Нина не спеша отхлебнула еще глоток и неожиданно грубо ответила:
– Что только дураки лезут из-за пустяков в бутылку.
Петр был уязвлен.
– Я смотрю, ты и без пустяков не прочь заглянуть в бутылку.
– Раз мужчины ведут себя, как девчонки, то нам, девчонкам, только и остается, что вести себя, как мужчины, – отпарировала Нина. Она не лезла за словом в карман.
Налив еще коньяку, она разом выпила его.
– Судя по твоим московским дружкам, для тебя мужчины те, кто курит, пьет, мотается по ресторанам и…
Он не закончил фразы.
– Да, да и «и» тоже. А для тебя и «и» не существует, – Нина встала, щеки у нее пылали, лоб повлажнел, выпитое явно начинало действовать. – Для тебя ведь, кроме парашюта и твоей дзюдо, ничего на свете нет.
– Перестань, Нинка, – он взял себя в руки, хотя и не понимал, что с ней происходит, – мы здесь, право же, не ссориться собрались, а…
– А для чего? Для чего? Обсудить твои жизненные планы? Поцеловать друг друга в лобик? Решить, на какой фильм завтра пойдем? Для чего?
Она смотрела на него с непонятной злостью, на глазах выступили слезы. Она торопливо налила еще коньяку.
Петр решительным движением вырвал у нее бокал, вылил коньяк на пол.
– Я пойду, Нина, ложись спать. Ты же напилась. Стыдись.
– Уходи, сейчас же уходи. Я знаю, что мне делать. Не учи меня, пожалуйста. Уж я-то знаю! А ты уходи! – Она неверным шагом подошла к серванту, достала сигареты, закурила. – И не смей мне больше указывать, слышишь! «Не кури, не пей…» Что хочу, то и делаю. Хоть ты и совершеннолетний, я на сто лет старше тебя. Петр Чайковский – десантник, чемпион, железный человек, образец добродетели. Ох, не могу! От смеха можно умереть!
Она действительно повалилась на диван, громко хохоча, закрывая лицо руками. Неожиданно вскочила, сверкая глазами:
– Уходи, учитель, уходи, слышишь!
Петр некоторое время молча смотрел на эту раскрасневшуюся, растрепанную пьяную девчонку, ничего общего не имеющую с его холеной, воспитанной Ниной, и, повернувшись, вышел в переднюю. Нина не провожала его.
Три дня они не разговаривали.
На четвертый день Нина первой подошла к нему в школе на перемене, сказала тихо:
– Нам надо поговорить, дождись меня.
Он дождался ее, и они вместе пошли домой по осенне холодным, унылым улицам.
Долго шли молча. Потом Нина сказала:
– Не сердись, Петр. Я вела себя как дура. Больше не буду. Просто у меня горе.
Петр, готовившийся произнести назидательную речь и потребовать клятвенных заверений, что она больше не будет ни пить, ни курить, ни… вспоминать своих московских знакомых, сразу забыл обо всем.
– Горе! Какое горе, Нинка? Что случилось?
Нина выглядела несчастной. Щеки побледнели, а нос на осеннем холодном ветру покраснел, она теребила поясок пальто. Шла опустив голову.
Петру стало ее жгуче жалко. Все-таки он свинья. Действительно, не мужик, а баба какая-то. Права Нинка. Он для нее опорой должен служить, а вместо этого занят только собой. Ее делами совсем не интересуется. Вот у нее горе, а он ничего не знает.
– Петр, – она подняла на него взгляд, в котором затаилась печаль, – родители, папа с мамой, возвращаются. Совсем.
У Петра отлегло от сердца. И только-то? Конечно, лучше без них. Но, в конце концов, не могут же они всю жизнь жить за границей. Ну, будут с Нинкой встречаться у него, в парке, в кино, на улице, наконец. А он-то думал…
– Какое же это горе, Нинка? Как не стыдно! Это ж твои родители, ты должна радоваться, что они возвращаются. Они нам не помешают, – добавил он простодушно.
– Ты не понимаешь, Петр, – грустно сказала Нина. – Они возвращаются в Москву… Я вчера получила письмо.
– Как в Москву? – сначала он даже не понял.
– Папа получил назначение в министерство. Большое повышение. Мы будем жить в Москве. Я уеду.
Нина всхлипнула и, повернувшись, уткнулась ему носом в грудь.
Петр стоял потрясенный. Он только сейчас сообразил, что все это значит. Нина уедет! Они расстанутся. На сколько? И хотя оба знали, что рано или поздно ее родители вернутся и, скорее всего, будут жить в Москве, и ей придется переехать к ним, но все это казалось таким далеким, не скорым, таким нереальным…
И вдруг как гром среди ясного неба.
– Что делать, Петр? – Нина смотрела на него заплаканными глазами.
Она шмыгала еще более покрасневшим носом, губы распухли. Была она сейчас такая беспомощная, растерянная, горестная, что Петр сам чуть не расплакался.
Но это длилось секунды.
– Надо что-то делать, Нинка. Срочно. Когда они приезжают?
– На Новый год должны быть в Москве. Уже квартиру получили. Где-то на улице Горького.
– Слушай, Нинка, а нельзя ли им написать, что здесь, в школе, тебя все любят, ты отличница. Не бросать же на середине? А? Черт его знает как там в новой сложатся отношения? Столько училась, а когда две четверти останется, вдруг уйдешь? Нет, – теперь он говорил твердо и решительно, – надо им объяснить! Пусть директор тоже напишет. Хочешь, я к Марии Николаевне пойду? Она меня послушает. Ей все, Нинка, можно сказать. Про нас…
– Ты думаешь? Действительно, глупо за две четверти… Там, в Москве, неизвестно еще, какая школа, какие учителя. А здесь-то я все на «отлично» сдам, – Нина приободрилась.
– Слушай, – горячо продолжал Петр, – это главное! Ты должна их убедить, что здесь наверняка кончишь с золотой медалью. И тебя там без звука в любой институт примут. В какой, кстати?
– А, – Нина досадливо отмахнулась, – не все ли равно. Но ты прав: сегодня же напишу. Прямо сейчас. Подумаешь, несколько месяцев еще прожить здесь с бабушкой! Столько лет жила! На зимние каникулы съезжу к ним. Мама же вообще может сюда мотаться сколько хочет. Да и папа наверняка отпуск подучит. Нет, – подумав, добавила она, – отпуск пусть лучше в Сочи проводят. Я здесь и одна не умру. Словом, до конца экзаменов останусь здесь! Все! А там видно будет.
А там видно будет. А там – это через девять-десять месяцев. То есть через сто, тысячу лет. Это все снова уносилось в такую даль, что и думать о ней нечего.
Какая долгая жизнь, какая бесконечно долгая жизнь у шестнадцатилетних!
Уже весело болтая, обсуждая текст письма, они шли, тесно прижавшись друг к другу, под начавшимся мелким холодным дождем, не замечая ни капель, ни серых низких туч, ни сырого ветра.
В тот же день Нина написала письмо, и они вместе отнесли его на почту.
И снова настали в их отношениях мир и радость. В школе у Петра тоже все обстояло благополучно. Отличником он не был, но и троек почти не имел. Он был твердым, как когда-то выражались, «хорошистом», и особых опасений экзамены ему не внушали. Ладилось и в занятиях дзюдо. Были, правда, осечки, связанные с переходом в следующую весовую категорию. На первенстве города он занял третье место и к концу сезона мог рассчитывать на второй взрослый разряд. Однако главным для Петра оставался, конечно, аэроклуб.
В последней декаде декабря предстояли зачеты, а в самом начале января наконец-то осуществление мечты – первый прыжок с парашютом! Прыжок с парашютом! Первый! Первый из многих сотен, а может быть, и тысяч, которые он еще совершит.
Петр занимался ревностно. И Рута не могла нахвалиться им.
На занятиях он порой ловил на себе ее спокойный, внимательный взгляд, в котором ему чудилась затаенная грусть. Он быстро, смущенно отводил глаза.
Рута была одинаковой со всеми своими курсантами, и самыми способными, и самыми неумелыми. Но все же Петр интуитивно ощущал с ее стороны особое отношение, которое и сам не мог определить.
Зачет он сдал на пятерку. Это было 30 декабря, накануне Нового года. Новый год семья Чайковских встретила весело, но по отдельности. Илья Сергеевич, по традиции, в Доме офицеров, Ленка со своим Рудиком в какой-то спортивной компании, а Петр с Ниной у одного из школьных приятелей.
У Петра было особенно хорошее настроение – позади зачет, впереди прыжки, начало каникул.
Они возвращались домой свежие, веселые, словно не было шумной бессонной ночи, танцев, песен, веселых тостов. Нина выпросила у Петра разрешение покурить, он от избытка радостных чувств уступил. Покурить превратилось в сплошное курение, и Петр с тревожным удивлением убедился, что потерявшая бдительность Нина в течение вечера не успевала погасить сигарету, как зажигала новую. Для него стало ясно, что Нина курит постоянно, и ей, наверное, нелегко приходится проводить с ним долгие часы без сигарет. Еще больше огорчила его та легкость, с какой Нина пила все, что оказывалось на столе, не сдерживая себя.
И все же вечер удался. Уж слишком радостное у него было настроение. Да и Нина была особенно нежной.
Первый день наступившего года выдался сухой и бесснежный, но морозно-колючий. Резкий ветер бил в лицо, кусал щеки. Заметно опьянев к концу вечера, а вернее, к утру, Нина сразу же пришла в себя, зябко ежилась, кутаясь в модную дубленку, присланную родителями в качестве новогоднего подарка. Родители задерживались еще на месяц, и это тоже являлось причиной хорошего настроения Петра.
Было уже совсем светло, когда они добрались до дому. На улицах народу хватало – в новогоднюю ночь мало кто спит.
Они долго прощались в ее подъезде, вспоминая смешные эпизоды прошедшего вечера, смеялись. Но постепенно Нина становилась все молчаливее, перестала смеяться, крепче обнимала его, горячей целовала.
В какой-то момент, оторвавшись от Петра, с трудом переводя дыхание, она прошептала:
– Пойдем ко мне… Бабушка наверняка спит… Пойдем. Она не услышит… Петр.
Петр почувствовал неожиданно огромную, безотчетную радость, которая так же внезапно сменилась чувством необъяснимого страха.
– Поздно, Нинка, – пробормотал он, – вернее, рано. Словом, пора по домам. Отоспимся, ты…
– Ты прав, пора спать, – тусклым голосом сказала Нина, пожала ему локоть и торопливо взбежала по лестнице.
– До завтра, – крикнул ей вслед Петр, но она не обернулась.
Он отправился домой. Радостного настроения как не бывало. Он испытывал чувство непонятного унижения, стыда, вины; он ощущал себя дураком, подлецом, мальчишкой-первоклашкой… Он ведь поступил благородно и тем не менее стыдился своего поступка. Ему казалось, что теперь Нина будет презирать его, посмеиваться над ним, хотя ей следовало бы испытывать к нему благодарность.
Он попытался разобраться в своих чувствах. Петр, конечно, не был мальчишкой-первоклассником, он был десятиклассником, ему стукнуло шестнадцать, и он прекрасно разбирался, что к чему. В его классе были ребята, уже познавшие то, что он еще не ведал. И хотя его мысли об их с Ниной будущем тонули в туманной дымке далекой неопределенности, однако никаких иных отношений с ней, кроме тех, которые связывали их сейчас, он на сегодняшний день не представлял.
А может, он действительно ведет себя не как мужчина? Вон Ренат или Алешка уж те б не растерялись. Они рассказывали… Впрочем, мало ли что они рассказывали. Врали небось!
Но сколько так может продолжаться? Особенно его беспокоило, что инициатива исходила от Нины. И не первый раз…
Мучимый противоречивыми мыслями, он наконец заснул. И проснулся, когда на дворе уже опускались сумерки.
Вскочил, бросился под душ, тихо выпил чаю – Лепка, вернувшаяся позже него, еще спала, а отец уже ушел – и помчался к Нине.
Ему открыла бабушка.
– Ниночка ушла, – сообщила она, – куда – не сказала.
Он забегал к ней еще несколько раз и наконец застал ее часов в десять.
– Задержалась у подруги, – уклончиво объяснила она свое исчезновение.
Нина была вялой, хотя и ласковой, как обычно. Она спокойно, на этот раз без всяких оправданий, закурила. Он не посмел мешать ей.
У Нины разболелась голова, так что домой он ушел рано.
Первый прыжок, официально он назывался «ознакомительный», был назначен на пятое января – середину каникул.
Позади остались теория, зачет, «наземная отработка элементов прыжка». Теперь предстоял сам прыжок – упражнение № 1. Вернее, три прыжка. Еще: «с принудительным раскрытием парашюта и имитацией ручного раскрытия» – упражнение № 2 и, наконец, упражнение № 3 – прыжок со стабилизацией падения. Ребята, не подлежавшие призыву в армию, могли заменять третье упражнение вторым. Однако никто на это не соглашался. До аэродрома ехали на электричке, преувеличенно бодро и громко смеялись, шутили, скрывая волнение. Рута была в этот день особенно весела, часто улыбалась, но Петр заметил, как внимательно следит она за каждым, оценивая настроение, «психологический настрой». Прибыли на место. Подали стартовый завтрак: рисовую кашу, молоко, шоколад. Съели все подчистую, наверное, потому, что есть никому не хотелось. Прибыл начальник аэроклуба.
Наконец погрузились в автобус, в том же порядке, в каком займут места в самолете. Это тоже некая наука – первым прыгает тот, кто потяжелее, есть и другие признаки, по которым определяют очередность прыжка. Но признаки эти секрет инструктора.
Прибыли к пузатенькому Ан-2. По аэродрому мела колючая, мелкая поземка, хотя особенного ветра-то и не было. А может, это от волнения им казалось, что холодно? И вот, уже пофыркав, самолетик начинает свой неспешный полет в белое зимнее небо.
Сказать, что Петр не волновался, было бы, конечно, неверным. Он волновался. Но его не беспокоил, тем более не пугал сам прыжок. Он думал, как выполнит его. Ему хотелось сделать этот безупречно, так, чтоб казалось, что он прыгает не в первый раз, а в сотый.
Цель упражнения – «приучить обучаемого преодолевать психологические барьеры, встающие перед человеком, выполняющим прыжок впервые», как сказано в программе по парашютной подготовке ДОСААФ, – была им достигнута уже давно.
Так, по крайней мере, ему казалось.
Наконец самолет достиг заданной высоты, развернулся и стал приближаться к полю, на которое совершались прыжки.
Вначале опытные спортсмены сделали пристрелочные и показательные прыжки, после чего Рута уточнила, как ориентироваться с учетом ветра. В первый самолет она посадила своих лучших курсантов. Их было четверо – Петр, Володя Пашинин, Лена Соловьева и еще одна девушка. Рута летела с ними.
Оказалось, что самая тяжелая среди них Лена Соловьева. Петр был возмущен: «Вот корова, – ворчал он про себя, – девчонка, а больше меня весит». Так бы честь открыть этот «парашютный фестиваль», как выразился Пашинин, выпала ему.
Петр сосредоточенно, как гимнаст перед упражнением, зажмурив глаза, мысленно повторял каждое свое движение.
Сигнал Руты застал его врасплох.
А потом все произошло так быстро, что Петр и опомниться не успел. Зазвучала сирена, Рута открыла дверь, шум ветра и мотора заполнил кабину, зажглась желтая, потом зеленая лампа, и Лена Соловьева исчезла за обрезом двери. Через две секунды, повернувшись лицом к хвосту самолета, Петр «солдатиком» ушел в пустоту. Не прошло и трех секунд, как над ним вырос большой белый купол его ПД-47. Он даже не почувствовал толчка.