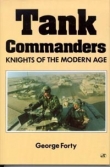Текст книги "Ночное солнце"
Автор книги: Александр Кулешов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Он тренировался увлеченно, упрямо разучивал приемы, повторяя их без конца, пока они не становились автоматическими. Он надеялся стать мастером.
Его огорчало только, что отец не уважал дзюдо. Они часто азартно спорили о сравнительных преимуществах этих схожих видов борьбы – дзюдо и самбо…
Так было.
А сейчас, в лагерях, все вдруг стало наоборот.
Он предпочитал атлетизм. Без конца поднимая тяжелые «блины», гантели, гири, он уносился мыслями в неопределенность, словно задавливал свою тоску этими огромными весами, этим однообразным занятием, не требовавшим мыслей и в то же время не дававшим думать о том, о чем он думать так не хотел. Дзюдо же требовало сосредоточенности, постоянного внимания, остроты реакции, которые давались ему сейчас с трудом. Он часто погружался в какой-то, как сам выражался, «интеллектуальный полусон», тоскливую апатию. Это проходило, да и длилось недолго. Но полноценным занятиям мешало.
Он боролся яростно, зло, стараясь отогнать все лишнее, сосредоточиться. И все же дзюдо занимался с неохотой, а к атлетизму тянулся.
В лагерях собрались молодые, здоровые ребята, спортсмены. Они тоже немало времени отдавали спорту, играм, в свободное время танцевали, пели. Словом, вели то, что принято называть «активным образом жизни». Так что Петр не привлекал к себе особого внимания.
Лишь двое заметили его состояние – Лена Соловьева и Рута.
Лена, обычно шумная и не привыкшая к особой деликатности, на этот раз вела себя сдержанно. Сначала неловко попыталась втянуть его в веселые компании. Потом насторожилась, притихла. Лишь изредка подходила, заговаривала, внимательно присматривалась к нему, словно врач, устанавливающий диагноз. Не замечая перемен к лучшему, отходила.
Она не понимала.
Все понимала Рута. Вначале обеспокоившись по чисто педагогическим соображениям, она вскоре убедилась, что прыжки Петр совершает нормально, даже лучше многих других. Успокоилась. Потом тоже стала присматриваться. И быстро разгадала, в чем дело.
Однажды, когда они сидели с Петром на траве, отдыхая после прыжков, она сказала ему:
– Знаешь, Петр, один французский писатель, не помню кто, сказал: «Если не находишь покоя в себе самом, бесполезно искать его в другом месте…»
– Это сказал Ларошфуко, – заметил Петр, – мне мама не раз повторяла этот афоризм.
– Да, и я узнала его от Зои, – задумчиво проговорила Рута.
– А почему вы его вспомнили? – Он подозрительно поглядел на нее.
И встретил в ответ ее, как всегда, спокойный, внимательный взгляд.
– «В другом месте» – это ведь относится ко всему – бесполезно искать в воздухе, на спортплощадке, на татами, всюду.
– Я ничего не ищу, – отвернувшись, пожал плечами Петр.
– Ищешь, – с несвойственной ей сухостью сказала Рута, – а надо по-другому.
– Как? – простодушно спросил Петр.
– Разные, наверное, есть способы, – неторопливо рассуждала Рута, – для каждого свой, подходящий. Могу поделиться личным опытом.
Петр вопросительно посмотрел на нее.
– Надо честно и трезво, обязательно честно и трезво все обдумать, принять решение. Это главное – принять решение. А уж приняв, проводить его в жизнь. Твердо.
– Легко сказать, – усмехнулся Петр.
Он разговаривал с ней сейчас как с самым близким другом и даже не задумывался, говорят ли они об одном и том же. И о чем вообще говорят.
– Знаешь, Петр, если я, девчонка, могла так поступить, то уж ты-то – парень, с твоим характером…
– Вы? А когда…
– Давно, давно, – перебила она. – Это было давно, но было. Вот делюсь опытом. Сначала трудно, потом проходит.
– Может быть, когда все ясно, – слабо возразил он, – а когда ничего не ясно?
– А тебе еще ничего не ясно? – задала Рута неожиданный вопрос. Это был жестокий вопрос. Петр даже не понял сначала. Но потом как-то сразу прокрутил перед мысленным взором этот короткий разговор и ужаснулся. Нет, не тому, что Рута все знала или угадала, говорила с ним о сокровенном, а он дал втянуть себя в этот разговор, но самому ее вопросу. Действительно, неужели не ясно, что между Ниной и им все кончено? Что у них теперь разные пути? И не важно, в конце концов, кто виноват.
Он встал и, так ничего не сказав, ушел к себе в палатку. Легче ему после этого разговора на душе не стало. Ясно или не ясно? Однако он дал слово Нине приехать. Может быть, вообще все будет хорошо, и все у них опять наладится? Да нет, не наладится.
Вскоре они возвратились из лагерей в город.
Петр имел на счету десятки разнообразных прыжков, второй разряд. Он стал опытным спортсменом. И мышцы накачал – будь здоров! Хотя порой он ощущал непонятное сердцебиение – часто-часто, как хвостик у собачки. Смех, да и только. Впрочем, порой он с тревогой вспоминал своего спортивного врача и разнос, который устроил ему тренер. «Уж не перетренировался ли я?» – спрашивал он себя.
Когда пришел вызов из училища, он сказал Илье Сергеевичу:
– Отец, есть разговор.
Илья Сергеевич немного удивился. Последнее время они об училище не говорили. Илья Сергеевич знал, с какой щепетильностью Петр воспринимает малейшее касательство отца к его поступлению в училище, как он все время боится, чтобы положение и имя отца не повлияли на отношение к нему, не давали бы какое-нибудь преимущество. Поэтому сам он не заговаривал на эту тему с Петром. Эту сложную дипломатическую ситуацию бестактно нарушала лишь Ленка, вмешиваясь в дела брата, задавая кучу неуместных вопросов и ему, и отцу. Но вот о чем-то хочет говорить сам Петр.
– Слушаю тебя, – просто сказал он.
– Отец, вот вызов, надо ехать в Рязань. Но у меня еще без малого две недели. Я хотел бы провести их в Москве. – Он вопросительно уставился на отца.
– Понял, – сказал Илья Сергеевич. Он действительно сразу все понял. – Ну что ж, поезжай. Выясни все для себя.
Петр молчал. Его поразила схожесть выражений – и Рута, и отец, по существу, сказали одно и то же.
– Да, отец, надо все выяснить, – сказал он решительно. – Так я поеду?
– Поезжай. Завтра позвоню Николаю (это был друг отца, тоже генерал, служивший в Москве). Остановишься у него. Когда думаешь ехать?
– Если не возражаешь, послезавтра.
– В добрый час, – сказал Илья Сергеевич, он хотел что-то добавить, но промолчал. Сентиментальность была ему чужда.
И через два дня скорый поезд мчал Петра в столицу. Настроение у него было смутное. Он думал, что отдохнет, хотя бы придет за это время в себя. А оказалось, что все по-прежнему, даже физически он чувствовал себя как-то не так. Словно на высокую гору вскарабкался.
– Ты на вокзале? – спросила Нина, едва он позвонил.
Свой телефон она сообщила в коротком, довольно сумбурном, беспорядочном письме, единственном, которое он получил от нее за это время.
– Нет, – сказал Петр, – я у друзей отца. Я у них остановился.
– Так тебя не надо устраивать? – задала она новый вопрос, и в ее голосе послышалось ему облегчение.
– Если это единственное, что тебя интересует, то не надо. – В нем росло раздражение: могла бы встретить его и другими словами.
Но Нина не заметила или не захотела заметить его тона.
– Ты знаешь, где на улице Горького Центральный телеграф?
– Найду.
– Только не спутай. Центральный телеграф не Центральный почтамт, тот на Кировской. Я буду там в семь. Жди.
– Хорошо…
Вот и весь разговор. Петр был немного растерян, мысленно он представлял себе самые различные варианты этого первого московского разговора, но только не такой, какой-то деловой, торопливый.
Друзья отца приняли его хорошо, предоставили отдельную комнату – сын-студент был на практике, – пообещали достать билеты на разные концерты, стадионы, выставки.
«Не для этого я приехал, – невесело размышлял Петр, – не до выставок мне, а уж ходить по ним, так с Ниной. Может, она сама захочет показать мне столицу».
Но, судя по всему, Нина была далека от подобных мыслей.
Петр едва узнал ее. Она пришла в сногсшибательном платье, ресницы и губы слегка накрашены. Выглядела повзрослевшей, незнакомой. Они и поздоровались как малознакомые. Не бросились друг другу в объятия, не поцеловались, даже не улыбнулись. Просто подошли друг к другу. Вглядывались, будто двести лет не виделись.
«И месяца не прошло, и трех недель, – с горечью подумал Петр, – а изменилась, будто годы минули».
– Тебя не узнать, – сказал он, – может, подходить не надо было. Ты мне когда-то сказала: «Увидишь такой – не подходи, значит, это не твоя Нинка, а чья-нибудь чужая». Помнишь?
– Все это глупости, – отмахнулась она, – детство. Твоя, чужая, чья-то! Я своя, Петр. Я – моя. Расскажи, где ты остановился, как дела, что вообще происходит?
– Остановился у старого друга отца, устроился отлично, дела нормально. В конце месяца сдаю экзамены. Вот и все, что происходит. У тебя как?
«Дурацкий какой-то разговор, словно анкеты заполняем».
– Нормально, – в тон ему ответила Нина, – приняли. Буду учиться на филфаке МГУ. Квартиру мы получили шикарную. Шумновато было, все же улица Горького, но папа уже сделал специальные прокладки на окнах. Придешь – увидишь.
«Нет, так дальше этот разговор продолжаться не может, это бред какой-то», – Петр ничего не понимал.
– Я дал тебе слово приехать, вот я здесь, – сказал он.
Они медленно поднимались к Пушкинской площади. Навстречу шли люди, обгоняли их, беспрерывный поток машин мчался по широкой улице. В воздухе стоял неумолкающий шум, составленный из тысячи шумов огромного города.
– Спасибо. Я знаю, ты всегда держишь слово, – подтвердила Нина. – Хочешь мороженое? Зайдем сюда.
Она неожиданно свернула в какую-то дверь. И Петру ничего не оставалось, как последовать за ней. Нина по-хозяйски прошла в дальний конец длинного зала, выбрала столик, заказала пломбир и два бокала шампанского.
– Не захочешь, я твое выпью, – сказала она.
– Слушай, Нинка, – Петр наконец окончательно пришел в себя, – в чем дело? Что изменилось? Ты разлюбила меня? Почему ты ведешь себя так, будто не рада нашей встрече, будто не сама требовала, чтобы я приехал?
– Не говори глупостей. – Она положила свою руку на его. И он отметил яркий маникюр на ее ногтях – тоже нечто новое. – Ты прекрасно знаешь, что я рада. Просто закрутилась. Ты не представляешь, что тут было. Все эти дурацкие собеседования, новая квартира, папа с мамой, набросившиеся после долгой разлуки на любимую дочку. Ах, ох, словом…
Она избегала его взгляда и говорила, говорила… Рассказывала, видимо, важные для нее, но совершенно несущественные и неинтересные ему новости.
И вдруг взгляд ее обратился на дверь, в нем мелькнула досада, тревога. Петр обернулся. Между столиками шли двое элегантных парней, его ровесников, и две красивые девушки. Завидев Нину, они радостно замахали ей, с любопытством посмотрели на Петра и уселись за один из свободных столиков.
– Прости, Петр, одну минуту, – озабоченно сказала Нина и торопливо подсела к вновь прибывшим.
Она что-то настойчиво объясняла им, наверное, говорила о Петре, потому что те то и дело бросали взгляды в его сторону.
Наконец она вернулась. Лицо ее выражало досаду.
– Никуда не денешься от знакомых, – прошептала она.
– Это те, – спросил Петр, – или новые?
– Новые, – ответила Нина. – В каком смысле «те»? – спохватилась она.
– Скажи, Нинка, мы сможем повидаться вдвоем, – задал он новый вопрос, – я имею в виду наедине. Так, чтобы я мог поцеловать тебя, чтобы мы могли говорить, не оглядываясь?
Она не успела ответить – официантка поставила перед ними бутылку шампанского и многозначительно посмотрела в сторону Нининых друзей.
Петр нахмурился. Как быть? Послать им две? Встать и уйти? Поблагодарить? Он поступил по-мальчишески: наполнил свой бокал, выпил, вновь наполнил и выпил еще.
Нина с тревогой смотрела на него. Петр не любил пить, не пил обычно. А тут сразу полбутылки и еще наливает.
– Хватит, слышишь, Петр, хватит! – Она попыталась отнять у него бутылку.
– Почему? Они же прислали, чтоб мы пили. Или это только для тебя? Так пей! Иначе обидятся. Пей! – Он слегка повысил голос, у него шумело в голове, пот выступил на лбу.
Нина торопливо налила свой бокал, выпила. Друзья ее весело смеялись, дружески приветствовали их издалека.
– Пойдем! – решительно сказала Нина и, взяв Петра за руку, потащила к двери.
Они уже прошли половину улицы, когда Петр сообразил, что не расплатился.
– Нинка, надо вернуться, я не заплатил, – сказал он.
– Да неважно. Меня там знают. Идиоты! С этой бутылкой. Петр, ты стал здорово пить! – Она улыбнулась едва ли не впервые за это время. – В тебе просыпается мужчина.
– Это как понимать? – Он обиженно посмотрел на нее. – Значит, до сих пор я был бабой?
– Да нет, – уже снова равнодушным голосом сказала она, – до этого ты был мальчишкой, вьюношей, а ныне муж.
– Это по здешним понятиям я мужчина? Потому что полбутылки выхлебал? Скажи, Нинка, а вот эти твои пижоны, они когда-нибудь в глаза парашюты видели?
– Парашюты не видели, – резко ответила Нина, – а вот Женеву видели, они только что оттуда, со стажировки. Так что интереснее?
– Как я понимаю, для тебя – они, а для них – пол-литра…
Нина остановилась, пристально посмотрела на него.
– Нет, ты определенно стал мужчиной – уже хамишь, скоро, наверное, ударишь меня.
Ему стало стыдно. Нина права.
– Прости. Это твое шампанское. Или твои друзья. Или все эти последние дни. Уж больно много на мою долю досталось.
– А я при чем? – холодно спросила она.
– Ты больше всех при чем, – пробормотал он.
Нина посмотрела на часы.
– Ты извини, Петр, меня папа просил к девяти быть. Должны прийти гости. Ох, надоели эти гости! Но папа очень просил. Ты когда завтра свободен?
– С утра до вечера свободен, – усмехнулся Петр, – мне ведь здесь делать нечего, кроме как с тобой встречаться.
Нина молчала в нерешительности. Казалось, она хотела что-то сказать, что-то важное. Но так ничего не сказала. Просто предложила:
– Тогда завтра там же, тоже в семь?
Она помахала ему рукой, сделала знак проезжавшему мимо такси и торопливо вскочила в него.
Эту ночь Петр почти не спал. Его мутило от выпитого. Болела голова. Он без конца вспоминал эту встречу с Ниной, «проигрывал» целые эпизоды ее, придумывал разные реплики, хлесткие слова, ядовитые шутки. Он ворочался с боку на бок, пил воду, прислушивался к ночным шумам города.
Утром, не сделав обычной зарядки, долго плескался под душем. Но все равно бессонная ночь сказалась. Есть ему не хотелось. Чтобы не обидеть хозяев, он, давясь, проглотил яичницу.
Весь день он бесцельно бродил по улицам, посмотрел какой-то фильм, даже не запомнил какой. Два раза набрал Нинин номер, один раз никто не подошел, второй – она. Но он повесил трубку.
К Центральному телеграфу он подошел полный надежд.
Однако надежды его не оправдались.
Нина была какой-то скучной, озабоченной. Казалось, ее все время что-то тревожит. Они погуляли, зашли в кафе. На этот раз Нина заказала себе кофе с коньяком, а ему шампанское, словно он всю жизнь только и делал, что пил его. «Это становится привычкой», – усмехнулся про себя Петр, исправно выпивая бокал за бокалом.
На третий день все повторилось снова.
И только в конце недели, когда уже приближался день его отъезда, состоялся у них разговор, с которого им следовало начать.
На этот раз Нина повела его в Парк культуры и отдыха имени Горького. Они прокатились туда на речном трамвае. Нина, каждый раз приходившая в новых заграничных платьях, и сюда явилась, несмотря на жару, в чем-то невообразимо элегантном. Она была очень красива, и все заглядывались на нее.
А на него не олень. Между тем Петр тоже был красив. Но сейчас он потускнел. Бессонница по ночам, это дурацкое шампанское, которое неизвестно почему («чтобы выглядеть мужчиной») он пил на их свиданиях, непроходившее чувство тревоги, раздражения, ревности, боязни чего-то, сопровождавшее его нынешние отношения с Ниной, их неопределенность, невозможность остаться вдвоем, ее упрямые уходы от серьезных разговоров – все, вместе взятое, настолько подавляло его, что, увидь сейчас Петра отец, Ленка, они бы не узнали его.
Отсидев с Ниной в уже осточертевшем кафе и проглотив традиционное шампанское и мороженое, они поднялись на Ленинские горы, в сад, нашли уединенную скамейку, откуда открывался вид на реку, на заречную Москву, на стадион в Лужниках, и наконец (наконец-то!) остались одни. Петр даже осмотрелся, нет ли поблизости других скамеек или, может, кого-нибудь за кустом, на траве, на тропинке? Нет, они действительно были наедине.
– Я скоро уезжаю, Нина, и перед отъездом нам надо поговорить, – сказал он решительно.
– Ты прав, – печально отозвалась она, – наверное, это надо было сделать раньше…
– Наверное. – Вдруг Петр почувствовал себя собранным, уверенным, как перед прыжком с парашютом. Он понимал уже, что ему предстоит нелегкое испытание, и был готов к нему. – Когда я приехал, то задал тебе вопрос, Нина. Все это время ты избегала отвечать. Ответь теперь: ты любишь меня?
Она долго молчала, а потом спросила сама:
– Петр, ты веришь в любовь с первого взгляда? Я знаю, это звучит по-детски, пошло, по-девчоночьи, старомодно – словом, смешно звучит, но ты скажи – веришь?
– Не знаю, – ответил он, – а почему ты спрашиваешь?
– Ты не догадываешься?
– Ты кого-нибудь так полюбила? – Он говорил спокойно, у него было ощущение, что всю эту сцену он наблюдает со стороны.
Она молча кивнула.
– Словом, ты любишь другого? Так?
– Ты должен понять меня, Петр! – теперь она говорила горячо, вцепившись в его руку, заглядывая в глаза, так, как делала это та, прежняя Нина. – Я тебя очень, ну поверь, очень любила, я тебя и сейчас люблю, по-другому, но люблю, ты мне очень дорог, очень близок. Поверь, – она говорила все быстрее, все путанее, – но что я могу поделать? Я приехала, тебя так ждала, а тут папа, мама, все эти дела, эти гости, новые люди, новые компании, и он… И вся эта наша с тобой неопределенность. Ведь, Петр, у нас же ничего не ясно. Ты там, я здесь. Как дальше? Я видела, как живет Илья Сергеевич. Он замечательный, Петр. Но как он живет? Он всегда в казармах, не ночует, уходит чуть свет, приходит ночью. Верно? Нет, ты скажи, я вру? То учения, то походы, то лагеря… Может быть, твоя мама могла… Она тоже была парашютисткой. Но я… Я не смогу так жить. Ты скажешь – «дура, мы не муж и жена». Но, Петр, мы уже взрослые, в старое время в мои годы замуж выходили. Ну что нам в прятки играть, надо думать, что же дальше. Не все же время целоваться по подъездам… А тут встретился он… Он знаешь какой! Ах, неважно, для тебя это неважно…
– Почему? – услышал он свой спокойный голос. – Мне небезразлично, кого ты мне предпочла.
– Не надо, Петр, прошу тебя. Мне и так трудно. Поверь. Какая тебе разница. Ну, студент, со мной поступил. Нет, он не парашютист и не дзюдоист, у него другие достоинства. Да разве это важно? Познакомились и… Вот влюбилась и…
– И он?
– И он. Надеюсь, хоть этому-то ты не удивишься, – с невеселой усмешкой сказала она. – Ты знаешь, Петр, он хуже тебя, ты чистый, искренний. А может, это потому, что мы со школы с тобой… Он – другой. Вот так… Ничего не могу поделать. И не подумай – это не потому, что он, как мама говорит, «перспективный». Ты меня знаешь, мне на это наплевать…
– Нет, – сказал Петр.
– Нет, наплевать!
– Я не о том. Я о том, что я тебя не знаю. Думал – знал. Теперь вижу, что не знал…
– Неправда, Петр. Зачем ты так говоришь! Я понимаю, я стерва, я по-свински поступила, я причиняю тебе боль, я все понимаю. Но что делать? Скажи, что мне делать? Ну раз так получилось. Что делать?
Наконец она замолчала. В глазах ее стояли слезы, она подобрала сухой прутик и чертила им круги на земле.
– Скажи, – спросил Петр тихо, – ты с ним…
Он крепко взял ее за плечи, повернул лицом к себе. Нина отворачивалась, вырывалась. И вдруг резким движением вскинула голову и, глядя ему прямо в глаза, выдохнула:
– Да! Да!
…Вот этим словом, которым она обычно начинается, закончилась их любовь.
Сделав свое страшное признание, Нина убежала, а Петр еще долго сидел на скамейке, глядя на утопавшие в знойном мареве силуэты огромного города, на серебристую чешую реки, которую стремительно бороздили белые теплоходы, на зелень прибрежных садов, на светлую чашу стадиона…
Он чувствовал, как кровь то приливает к голове, то отливает, у него стучало в висках, внутри словно дятел поселился.
На следующий день Петр уехал в Рязань. Он не позвонил Нине перед отъездом.
В Рязань он приехал совершенно разбитый. Ему все было безразлично, все утомляло, раздражало. Он угрюмо молчал, односложно отвечал на вопросы других вызванных на экзамены ребят, без конца обсуждавших предстоящее им испытание.
Проделывались обычные формальности, сдавались документы, шел инструктаж. Их собирали, им что-то объявляли, о них хлопотали. А он словно стоял в стороне. Сначала все должны были пройти медкомиссию. Их отправили делать анализы. Ребята шутили с молоденькими сестрами, те краснели, отшучивались. Дальше рентген, кардиограмма.
Петр лежал на топчане, словно распятый, устремив взгляд в потолок, тело холодили резиновые присоски. Высокий врач в очках колдовал над кардиографом, сестра перемещала датчики. В какой-то момент врач поцокал языком, недоверчиво покачал головой.
– Вы каким спортом занимаетесь? – спросил он.
– Парашютизмом, – равнодушно ответил Петр.
– А еще?
– Дзюдо.
– А! Много тренируетесь? С утяжелениями?
– Да нет, не очень. – Петру было лень отвечать.
– Странно. Ну ладно, одевайтесь.
«Чего они пристали, – раздраженно думал Петр, – утяжеления? Ха! Вот Нина это да. Это такая тяжесть, что не всякий выдержит. Нокаут. Болевой прием. На сердце. Бывают же болевые приемы на руки, на ноги в самбо. Почему не может быть на сердце? Ах, оно запрятано. Его не достанешь! А вот она достала…»
Потом был окулист. Один парень, у которого неважно было со зрением, хотел обмануть врачей. Да попался. Он заранее у себя дома достал и выучил наизусть всю таблицу, а оказалось, что они все разные. Врач сердился, кричал, сестры прыскали в кулак, ребята хохотали, сам обманщик что-то бормотал.
Но Петра все это только раздражало. «Не хватает здоровья, не лезь в десантники?» – подумал он.
Сам он обладал великолепным зрением.
– Тебе, друг, биноклем работать, – пошутил кто-то из ребят.
Потом пошли к ушнику, как его называли, поскольку никто не мог выговорить «отоларинголог». Когда Петр оказался у терапевта, тот бесконечно долго выслушивал, выстукивал его, щупал живот, мерил давление, потом заставлял приседать и снова мерил. «Черт-те что, – бормотал врач, маленький, лысенький толстяк. – Ничего не пойму. Не понизилось, а повысилось! Черт-те что, ну-ка еще раз».
Петр покорно выполнял все, что ему говорили, ворча про себя на всю эту ненужную канитель. Пока врач записывал диагноз в тетрадь, он иронически улыбался, поглядывая на розовую лысину, на пухлые пальчики, водившие пером по тетради. «Уж ты-то с парашютом не прыгнешь», – подумал он. И немало удивился, когда заметил на вешалке китель врача, украшенный парашютным значком с трехзначной цифрой. Но еще больше удивился он и уж никак не улыбался, когда его положили в стационар для обследования. Он пытался выведать что-нибудь у врачей, у сестер. Но те неопределенно молчали в ответ или пожимали плечами. А он боялся, что, валяясь здесь, опоздает на экзамены. После обследования его вызвал председатель военно-врачебной комиссии, немолодой подполковник медицинской службы, и сказал:
– Должен тебя огорчить, Чайковский. По здоровью в училище непригоден. Увы. Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу. Название мудреное. То ли режим ты нарушал, не пил, случайно? То ли что-то со сном, с нервами… А может, в спорте переусердствовал. Тебе виднее. Увы.
Петр стоял как громом пораженный. Все он мог ожидать, неудачный экзамен, конкурс, что-то еще, но не пройти по здоровью!
– Как же теперь? – Он едва не плакал.
– Дело поправимое, – подполковник дружески обнял его – он понимал состояние Петра, – занимайся спортом, только без перегрузок, нормально, по-человечески, не пей, не кури, не переедай, соблюдай режим. Воздуха побольше, отрицательных эмоций поменьше. Знаю, в аэроклубе занимаешься. Продолжай. Вообще учти, с твоим здоровьем и десантником можешь служить и парашютистом. В училище нельзя. Увы. Здесь требования, сам понимаешь, особые. И не горюй, не горюй. Дело, говорю, поправимое. У тебя какой год рождения? Шестьдесят первый? Вот видишь! Поправишь за год здоровье, и милости прошу опять к нам. А сейчас ничего не поделаешь. Увы.
…Петр возвращался домой. Он совсем упал духом. Этот удар доконал его. Какой страшный год! Все его мечты, все, чем он жил, пошло прахом. Он просто не знал, что теперь делать. И вдруг им овладело непреодолимое желание скорее увидеть отца. Все рассказать, спросить, как жить. Скорее, скорее домой! Уж отец знает, что делать. Он все поставит на свои места. У отца не бывает ни сомнений, ни безнадежных положений. Он всегда поступает правильно, найдет выход и теперь.
Петру казалось, что поезд стоит на месте, он ворочался на жесткой полке, вздыхал, вставал пить, будя соседей по купе.
С вокзала помчался домой. Он не посылал телеграммы, не звонил, не знал, как сообщить.
Отца не оказалось дома, он был в штабе.
Но на столе в столовой под салфеткой был оставлен обильный завтрак, а рядом лежала короткая записка отца: «Все знаю. Не вешай носа. Мы ведь Чайковские. Вечером обсудим».
Петр присел к столу, долго держал записку в руках. Ему хотелось реветь. Но он сдержал себя: «Мы ведь Чайковские».
Да. Год был тяжелый. Так ведь сколько лет впереди. Все можно исправить. Было бы только желание и упорство. А вот это уж зависит только от него самого…