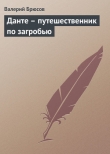Текст книги "Герои Пушкина"
Автор книги: Александр Архангельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
ЛЖЕДИМИТРИЙ
ЛЖЕДИМИТРИЙ (Григорий, Гришка, Димитрий, Самозванец) – беглый инок Григорий Отрепьев, объявляющий себя убиенным царевичем Димитрием и захватывающий власть в Москве. Литературно-сценический образ русского самозванца существовал и до Пушкина (см.: М. П. Алексеев. Борис Годунов…); однако поэт не был знаком с опытами Лопе де Вега и Шиллера; известная ему трагедия А. П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» не могла служить примером. Главный исторический источник – 10-й и 11-й тома «Истории государства Российского» H. М. Карамзина. Подхватывая карамзинскую версию событий (временное торжество Самозванца предопределено злодейским убийством юного наследника-царевича по приказу Годунова), Пушкин «переобосновывает» образ. При этом он изображает Лжедимитрия I, оставляя за рамками сюжета проблему «Тушинского вора», Лжедмитрия II.
Его Лжедимитрий – не романтический гений зла и не просто авантюрист; это авантюрист, спровоцированный на авантюру; это актер, блестяще сыгравший чужую роль, которую оставили без исполнителя. В момент создания драмы (через два года после смерти Наполеона) такой образ не мог не ассоциироваться с наполеоновским типом; связующим звеном между ними для Пушкина служил Генрих IV в изображении Шекспира (с Генрихом IV он неоднократно сравнивал своего Лжедимитрия). Лжедимитрий Пушкина вызван к жизни внутрироссийским грехом – и только использован врагами России, поляками и иезуитами, во вред ей. В момент запоздалой (1831) публикации пьесы возник другой ассоциативный ряд. Тема Смуты (отчасти благодаря спискам драмы и литературным слухам, с оглядкой на пушкинский опыт) была разработана историческими романистами – от М. Н. Загоскина до Ф. В. Булгарина (роман «Димитрий Самозванец», 1830): для последнего Самозванец не более чем перчатка на руке иезуитов, затеявших католический заговор против России. (Пушкин подозревал Булгарина, имевшего возможность прочесть в архиве III Отделения полный текст «Бориса Годунова», в краже сюжетных подробностей.) Образ Лжедимитрия, предложенный Пушкиным, вступал в непредусмотренную замыслом полемику с образами, созданными позже, но предъявленными публике раньше.
Сюжетная роль. Лжедимитрий введен в действие лишь в 5-й сцене («Ночь. Келья в Чудовом монастыре»), когда уже ясно, что Борис Годунов – злодей и узурпатор власти. Больше того, именно в этой сцене мудрый летописец Пимен (чьим келейником изображен будущий Лжедимитрий, девятнадцатилетний инок Григорий, из галицкого рода бояр Отрепьевых, постригшийся «неведомо где», до прихода в Чудов живший в Суздальском Евфимьевском монастыре) окончательно разъясняет и зрителю, и самому Отрепьеву нравственно-религиозный смысл происходящих событий:
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
Выведав у Пимена подробности угличского убийства, Григорий (которого бес уже мутит сонными «мечтаниями») решает вставить свою физиономию в готовую историческую прорезь. В сцене «Корчма на литовской границе» Григорий появляется в обществе бродячих чернецов; он на пути к своим будущим союзникам – полякам. Один из монахов, пьяница и балагур Варлаам, явно напоминающий Фальстафа, бросает на Отрепьева шекспировскую тень. Являются приставы; грамотный Григорий по их просьбе читает вслух приметы беглого инока Отрепьева; вместо своих собственных черт («ростом <…> мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая») называет приметы пятидесятилетнего жирного монаха Мисаила, сидящего тут же; когда же Варлаам, почуяв неладное, по складам пытается прочесть бумагу, Григорий «стоит потупя голову, с рукою за пазухой».
Причина проста: за пазухой кинжал; но куда важнее, что это общеизвестная наполеоновская поза. Все значимые для Пушкина литературные и исторические параллели проведены; образ взят в плотное кольцо ассоциаций; приходит пора испытать героя.
В 11-й сцене («Краков. Дом Вишневецкого») Лжедимитрий кажется себе и зрителю хозяином положения: ведет себя как настоящий политик, обещая каждому именно то, о чем тот мечтает. (Иезуитскому pater'y Черниковскому – «католизацию» России в два года; литовским и русским воинам – борьбу за общее славянское дело; патриотическому сыну князя Курбского – примирение с отечеством всего рода славного изменника; опальному боярину Хрущову – расправу с Борисом; казаку Кареле – возвращение вольности донским казакам). Но уже в 12-й сцене («Замок воеводы Мнишка в Самборе») в диалоге отца прекрасной Марины и Вишневецкого, чьим слугою был Григорий, прежде чем «на одре болезни» объявил себя царевичем, проброшен намек на несамостоятельность, «орудийность» авантюрного героя, его зависимость от Марины: «<…> и вот / Все кончено. Уж он в ее сетях».
В следующей сцене («Ночь. Сад. Фонтан») во время свидания с Мариной это неприятное открытие вынужден сделать и сам Лжедимитрий. На мгновенье исполнившись духом Димитрия, он чуть было не решается сойти со страшной политической стези в незаметность обыденной жизни. Любовь к Марине ставит его перед выбором: быть ли обладателем польской красавицы по глобальному историческому праву, или ее счастливым возлюбленным по праву частного человека. Он готов предпочесть второе:
Что Годунов? во власти ли Бориса
Твоя любовь, одно мое блаженство?
Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно
На трон его, на царственную власть.
Твоя любовь… что без нее мне жизнь,
И славы блеск, и русская держава?
В глухой степи, в землянке бедной – ты,
Ты заменишь мне царскую корону,
Твоя любовь…
Но едва Григорий решается на полный переворот всей своей жизни, как тут же обнаруживает, что не может вырваться из тупика, в который сам себя загнал.
Марина
А если я твой дерзостный обман
Заранее пред всеми обнаружу?
<…>
Самозванец
<…> Но решено: заутра двину рать.
Выясняется, что Лжедимитрий обезличен и в переносном (как всякий самозванец), и в прямом смысле:
Димитрий я иль нет – что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Отныне Лжедимитрий – именно предлог, повод; человек, по собственной воле занявший место, лишившее его собственной воли. С дороги, избранной им, ему теперь не дадут свернуть.
Эта сцена ключевая, кульминационная для сюжетной линии Самозванца. Точно так же, как для сюжетной линии Бориса Годунова (см. ст. о нем) кульминационной окажется 15-я сцена («Царская дума»). И там и тут беззаконным властителям – будущему и нынешнему – сама судьба указывает на решение, которое может остановить кровавый ход событий. Достаточно Лжедимитрию отказаться от власти ради любви, а Борису принять предложение Патриарха и перенести мощи убиенного царевича из Углича в Москву – Смута уляжется. Но такое решение для них уже невозможно – по одной и той же причине. Покусившись на власть по собственному произволу, они не властны освободиться от безличной власти обстоятельств.
Конечно, мистическая вера в себя и свое предназначение, в «счастливую звезду» не покидает Лжедимитрия и после разговора с Мариной. В сценах 18-й и 19-й («Севск» и «Лес») Лжедимитрий изображен истинным вождем: сначала он уверен в победе, несмотря на абсолютное неравенство сил; затем – совершенно спокоен после тяжкого поражения. Самозванца более огорчает потеря любимого коня, чем потеря войска, так что его воевода Григорий Пушкин не в силах удержаться от восклицания: «Хранит его, конечно, Провиденье!» И все-таки нечто важное и нечто трагически-неразрешимое в характере и судьбе Лжедимитрия после 13-й сцены появляется. Он не в силах избавиться от мысли, что ведет русских против русских; что в жертву своей затее, в оплату годуновского греха приносит ни больше ни меньше, как родное отечество. Об этом он говорит в сцене 14-й [ «Граница Литовская (1604 года, 16 октября)»)] с кн. Курбским-младшим. (Вообще образ Курбского, уверенного, что идет умирать за святую Русь, за «своего надежу-государя», и счастливо заблуждающегося до самой смерти, служит резким контрастом Лжедимитрию, который ведает, что творит.) О том же свидетельствует его финальное восклицание после одержанной победы в сцене 16-й [ «Равнина близ Новгород-Северского (1604 года, 21 декабря)»)]: «Довольно; щадите русскую кровь. Отбой!» И закончит Лжедимитрий (которого после 19-й сцены читатель/зритель более не видит) тем же, чем некогда начал Годунов: детоубийством, устранением законного наследника престола, юного царевича Феодора и его сестры Ксении. (Действует Лжедимитрий руками приближенных во главе с Мосальским, но и Борис Годунов тоже действовал руками Битяговских.)
Следующая за тем финальная ремарка трагедии («Мосальский <…> кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! Народ безмолвствует») может быть истолкована различно – и как свидетельство народного отрезвления, и как очередное проявление народного равнодушия. (В первом варианте финал был принципиально иным – народ приветствовал нового царя, как некогда приветствовал воцарение Годунова.) В любом случае это молчание означает, что Лжедимитрий лишился главного источника своей силы – поддержки мнения народного, на которое до этого один из персонажей, москвич Пушкин, указывал Басманову, убеждая того взять сторону Отрепьева (сцена «Ставка»).
Однако проблема «мнения народного» (ключевая для Пушкина – и непосредственно связанная с образом Лжедимитрия) не имеет в драме однозначного решения. Неужели минутное торжество Самозванца, за которым неизбежно последует кровавое поражение, предопределено грехопадением Годунова – и только?
Посвятив свою драму памяти Карамзина, Пушкин в то же самое время оставил еще одно указание, не менее важное: «Вот моя трагедия, <…> я требую, чтобы прежде чем читать ее, вы пробежали последний том Карамзина. Она наполнена славными шутками и тонкими намеками, относящимися к истории того времени, как наши киевские и каменские обиняки. Надо понимать их – это непременное условие» (набросок предисловия к «Борису Годунову», 30 января 1829 г.; подлинник по-французски). Над любимой им «Историей…» Пушкин вообще подшучивал непрестанно. Вспомним знаменитый пассаж, которым открывается 10-й том «Истории государства Российского»: «Первые дни по смерти тирана (говорит римский историк) бывают счастливейшими для народа: ибо конец страданий есть живейшее из человеческих удовольствий». Теперь откроем пушкинские «Отрывки из писем, мыслей и замечаний», относящиеся к тому же году, что и цитированный набросок предисловия к трагедии: «Стерн говорит, что живейшее из наслаждений кончается содроганиями почти болезненными. Несносный наблюдатель! Знал бы про себя; многие того не заметили б». Торжественный зачин «нового Стерна» Карамзина накладывается на обстоятельства александровского царствования, его начало и конец. В «Борисе Годунове» не найти столь резких иронических «остраннений»; здесь все изысканнее, мягче, но самое отношение ко «мнению народному», как его изображают и летописцы, и Карамзин, – то же. Насмешливое, а подчас и горькое. И большая часть этих «шуток и намеков» касается до «мнения народного», над неразрешимой проблемой которого нервно бьется ехидная пушкинская мысль.
Вот великий историк живописует сцену на Девичьем поле, последовавшую наутро за торжественными словами Патриарха Иова: «Глас народа есть глас Божий».
«<…> все бесчисленное множество людей <…> упало на колена с воплем неслыханным: все требовали царя, отца Бориса <…> Патриарх спешил возвестить дворянам, приказным и всем людям, что Господь даровал им Царя. Невозможно было изобразить всеобщей радости. Воздевали руки на небо, славили Бога; плакали, обнимали друг друга <…>».
Может показаться, что речь современного повествователя неотделима от речи его исторических «персонажей», что их точки зрения совпадают. Если Ирина Годунова восклицает: «<…> возьмите у меня единородного брата на царство, в утоление народного плача», то и Карамзин торжественно вторит соборному свидетельству: «Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их крика». Если летописец использует готовые формулы церковной риторики, то так же поступает и Карамзин: «Народ, восклицая „Да здравствует царь с верными боярами“ – мирно разошелся по домам <…> Народ молчал или славил правосудие царя… Все слушали в тишине безмолвия <…>». Молчание народа и здесь, и там не означает тайного осуждения, равно как народные клики не свидетельствуют о действительной поддержке «низов»…
Но ведь русская царица, подобно Патриарху – и подобно охотно цитируемому Карамзиным летописцу, – действительно верует, что в невидимой наднебесной реальности стоит плач Народа Русского, Народа Божьего. И потому совершенно неважно, точно ли совпадает грандиозный тайнозримый образ с сиюминутной, заведомо искаженной земной «картинкой». Для нее – и для них – плач и коленопреклонение толпы на Девичьем поле суть не столько «душевные» переживания горя и радости, сколько явные подтверждения истинности принимаемого решения, его соответствия Божественному предызбранию. Причем предызбранность царя не означает его непогрешимости; она может быть – и часто бывает – небесным наказанием, бичом Божиим. И, значит, торжественность минуты не в том заключена, что трон достается «хорошему человеку», но в том, что в земной юдоли совершается великая встреча Избрания и Предопределения.
Историк Александровской поры, не имеющий своего мистического опыта и не слишком доверяющий чужому, поступает прямо противоположным образом. Пересказывая эпизод из Утвержденной Грамоты Земского собора 1598 г., где написано: «<…> от горести сердца и от многаго сетования жены сущих своих младенцев на землю слезным рыдание и пометаху» – он дает «земную», снижающую, сентиментальную расшифровку соборной формулы. По Карамзину, сцена с гуттаперчевыми младенцами доказывает: «Искренность побеждала притворство; вдохновение действовало и на равнодушных, и на самых лицемеров!». Для автора «Бедной Лизы» опорные слова здесь – «искренность» и «вдохновение». Пушкин, однако, как бы выхватывает другие – «притворство», «равнодушных», «лицемеров»; выхватывает – и строит из них свою расшифровку соборной версии событий. Ибо – хотя он тоже не приемлет позицию Патриарха, не верит в то, во что верит Ирина, – ясно видит, в какой логический просак загоняет себя Карамзин.
Если глас Божий – это и впрямь глас толпы, стоящей на Девичьем поле, то как тогда объяснить роковую ошибку русского народа, возведшего на монарший трон цареубийцу? Если «искренность» была немнимой, а «вдохновение» несомненным, то как общенародный плач мог привести к плачевному результату? Если же народ не ведал, что творил, если его обманули, если с его мнением не посчитались, то почему и за какие такие прегрешения на его несчастную долю выпали впоследствии тяжкие испытания? Это несправедливо, это нелогично!
А коли так, то все происходило иначе, чем виделось с царского крыльца или из кельи летописца. Долг историка – спуститься вниз, смешаться с толпой, увидеть трагикомическую изнанку золотого шитья. Карамзин этого не сделал, не сошел с боярского возвышения – и потому решил, что «глас народа» впервые зазвучал в полную силу во время годуновского правления, когда, имев время отдохнуть от тирании Грозного, русские граждане уже принимали живое участие в делах общественных. А как было на самом деле?
В поисках ответа Пушкин отправляется на «площадь»; точнее – на то самое Девичье поле возле Новодевичьего монастыря. И что же он видит? Что слышит? Не что иное, как воплощенное в лицах исполнение цинических пророчеств Шуйского:
Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоет и поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница над чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там – а там он будет нами править
По-прежнему <…>
«Гласа Божьего» в толпе на Девичьем поле не слышно; здесь царит общенародное равнодушие, умело скрываемое за торжественными жестами и кликами. Карамзину кажется, что народ осознанно участвует в событии, волнообразно падая ниц, рыдая и смеясь; Пушкину видно и слышно иное. Рухнувшие на колени мужики шепотом вопрошают друг друга: «О чем там плачут?» – «А как нам знать? то ведают бояре, / Не нам чета!»
Один
Все плачут,
Заплачем, брат, и мы.
Другой
Я силюсь, брат,
Да не могу.
Первый
Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.
Второй
Нет, я слюнёй помажу.
Что там еще?
Первый
Да кто их разберет?
Сразу после этого следует восторженный выдох толпы:
Народ
Венец за ним! он царь! он согласился!
Борис наш царь! да здравствует Борис!
Ирония обжигающая. Из тронного зала Карамзину чудится, что народ действительно охвачен священным безумием и бросает невинных младенцев, словно изображая жертвоприношение. Пушкину, однако, видна другая картина:
Баба (с ребенком)
Ну, что ж? Как надо плакать,
Так и затих! вот я тебя! вот бука!
Плачь, баловень!
(Бросает его об земь. Ребенок пищит.)
Ну, то-то же.
Всю меру пушкинской язвительности можно оценить, лишь опознав в реплике этой не слишком чадолюбивой женщины – «Агу, не плачь, не плачь; вот бука, бука / Тебя возьмет! агу, агу!.. не плачь!» – автоцитату из богохульных «сказок», написанных в форме французских сатирических рождественских куплетов – «Noël» (1818):
Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
За ним и весь народ.
<…>
«Не плачь, дитя, не плачь, суд
а
рь,
Вот бука, бука – русский царь!»
Смешно, когда баба из средневековой толпы цитирует неподцензурные стихи преддекабристской эпохи; двусмысленны гавриилиадские параллели, при этом возникающие; злоязычны намеки на современность, над которыми будет «ржать и биться» узкий круг «своих», допущенных до непечатного слоя пушкинского творчества… Но главное не в этом. Главное – в том, кому отведена малоприятная роль «буки»; главное – в народе и в его царе.
В стихах 1818 г. плачущий народ ждет от «буки» сказочку, которой все равно не поверит; в сцене 25-го года народ сам, своими слезами, своим фальшивым плачем пролагает «буке» дорогу к трону. И, значит, совершает соучастие через равнодушие в делах безбожной власти.
Эта сцена будет зеркально отражена в финальных эпизодах трагедии, изображающих воцарение Димитрия. Вот Григорий Пушкин идет к Лобному месту, окруженный народом. Первая же реплика этого самого народа —
Царевич нам боярина послал.
Послушаем, что скажет нам боярин, —
заставляет вспомнить перешептывание мужиков на Девичьем поле: «<…> то ведают бояре. / Не нам чета». И, значит, ремарка «Шум народный», венчающая политическую проповедь адепта новой власти, – тоже обильно пропитана иронией. Та самая сила, которой поставляются земные владыки и которой они «сильны», – народ – вновь отрекается от своего права вершить собственную судьбу и становится силой – слепой. Вновь то, что летописец (и следующий летописцу Карамзин) именует «мнением народным», на пушкинскую поверку оказывается не более чем шумом, а точнее сказать – просто многократно усиленным и озвученным мнением боярина.
Что ж толковать? Боярин правду молвил.
Да здравствует Димитрий, наш отец!
Только если прежде, в годуновские времена, равнодушие было пассивным, то ныне оно оборачивается порывом разрушительной безличной энергии. Народу проще возбудиться от боярских слов и ринуться на Кремль, чем решить что-либо самостоятельно. Мужик на амвоне и толпа, несущаяся по сцене, – страшные в своем комизме символы этого активного равнодушия, яростного уклонения от ответственности, или, как сказали бы прежде, от гражданственности.
И только в самой последней сцене – «Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца» – возникает какой-то слабый намек на возможность появления гражданственности на Руси. Он заключен в разговоре двух людей из народа под окном плененных Ксении и Федора.
Один из народа
Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке.
Другой
Есть о ком жалеть? Проклятое племя!
Первый
Отец был злодей, а детки невинны.
Другой
Яблоко от яблони недалеко падает.
Здесь не бросают младенцев оземь, не вяжут и не топят «Борисовых щенков»; здесь человек из толпы впервые проявляет сочувствие к детям – не показное, а сердечное; здесь не слюнят глаза, а готовы заплакать настоящими слезами; здесь впервые затевается спор между людьми из народа, обнаруживается разногласие, не сходятся (и вообще проявляются) точки зрения. А где разногласия и спор, там нет места равнодушию, там зарождается личное мнение, которое может стать (а может и не стать; недаром спор прерван репликой Ксении: «Братец, братец, кажется, к нам бояре идут») основой мнения народного. И – между прочим – моральной основой самой власти, которой ныне принадлежит всё, но которая не принадлежит сама себе.
Автор и герой. При этом А. С. Пушкин относится к своему Лжедимитрию принципиально иначе, чем к Борису. Последнего он рисует одной краской и судит по новоевропейским, посленаполеоновским законам легитимности. Первому сообщает динамизм и противоречивость характера, судит с оглядкой на величественно-самозваный опыт Наполеона и русские народно-религиозные представления об «истинном царе» (подробнее см. ст.: «Борис Годунов»). Именно поэтому Лжедимитрий всякий раз именуется в ремарках по-разному. То – Григорием, то – Самозванцем, то – Лжедимитрием; но дважды автор называет своего героя Димитрием без унизительной приставки «лже», как бы удивленно признавая возможность преображения беглого инока Отрепьева в «настоящего» царевича.
В первый раз эта «обмолвка» происходит в сцене у фонтана, когда герой внезапно исполняется истинно царским духом и восклицает: «Тень Грозного меня усыновила, / Димитрием из гроба нарекла /<…>/ Царевич я. <…>». Второй – после битвы близ Новгород-Северского, когда победитель по-царски великодушно и милостиво приказывает трубить отбой и щадить русскую кровь.
ПИМЕН
ПИМЕН – монах-летописец, персонаж, в своем монологе задающий точку зрения вечности, без которой высокая трагедия невозможна; носитель позиции, независимой ни от власти, ни от толпы. Связан с образом «идеального» летописца Авраамия Палицына из 10—11-го томов «Истории государства Российского» H. М. Карамзина; в какой-то мере – и с «культурной маской» самого Карамзина.
Пимен появляется в единственной сцене – «Ночь. Келья в Чудовом монастыре». 1603 год. Летописец завершает «труд, завещанный от Бога»; рядом спит келейник Пимена, инок Григорий, будущий Лжедимитрий. Некогда Пимен участвовал в истории – воевал «под башнями Казани», «рать Литвы при Шуйском отражал», видел роскошь двора Иоанна Грозного. Теперь он отрешен от быстротекущей современности. Первым поняв причину Смуты – цареубийство, общенародное нарушение законов Божеских и человеческих («Владыкою себе цареубийцу / Мы нарекли <…>»), он раскрывает смысл происходящего не современникам, но потомкам:
<…> Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
<…>
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет.
Время, в котором, как в некоем физиологическом растворе, живет мысль Пимена, не есть настоящее, не есть прошлое, не есть даже собственно будущее, – хотя о каждом из этих измерений временного потока в его монологе сказано достаточно, особенно о минувшем. Его «внутреннее время» вненаходимо, внеположно Истории, очищено от страдательного залога; оно «безмолвно и покойно». Это время не протекшее, но постоянно протекающее, «объемлющее живо»; это время, совершающееся здесь и сейчас, но посвященное воспоминаниям; оно всегда возможно и никогда не будет дано. Именно поэтому Пимен уходит в свой труд ночью, когда итог одному дню с его бурями подведен, а начало другому дню не положено; когда История не прекращается, но как бы замирает; и недаром «последнее сказанье» должно быть завершено до наступления утра: «…близок день, лампада догорает <…>».
Но – и тут Пушкин как бы испытывает своего мудрого героя – рядом с Пименом дремлет тот, кто как раз и явится расплатой; тот, с кем будет связан ход ближайшей русской истории, – Отрепьев. И летописец, проникший мыслью в тайный ход вещей, не только не провидит в Григории лицо историческое; он не только невольно указывает новоначальному иноку на открывшуюся «царскую вакансию», но и поручает ему свой труд:
Брат Григорий,
Ты грамотой свой разум просветил,
Тебе свой труд передаю <…>
Очевидно, не случайно Пушкин вводит в монолог Пимена упоминание о «многострадальном Кирилле», который некогда жил в той же келье и говорил правду в лицо Иоанну Грозному; недаром вкладывает в уста Григория реплику:
Я угадать хотел, о чем он пишет?
<…>
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.
А в уста Бориса – слова:
В прежни годы,
Когда бедой отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли.
(Именно так будет решен образ Авраамия Палицына в романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский»; вообще присутствие монаха-летописца в наборе персонажей исторического романа о Смуте станет почти обязательным.)
Пимен не только не идет на битву; он не идет и в толпу народную; его знание о добре и зле – инакое, иноческое. В смысловой структуре драмы его образ контрастно соотнесен с образом Юродивого Николки.
ЮРОДИВЫЙ НИКОЛКА
ЮРОДИВЫЙ НИКОЛКА – второстепенный по своей сюжетной роли (участвует в одной сцене – «Площадь перед собором в Москве») персонаж трагедии, несущий огромную смысловую нагрузку.
Как большинство героев, образ «позаимствован» из «Истории государства Российского» H. М. Карамзина; но решен в противоположном ключе: великий историк с явным салонным недоверием описывал «площадного» героя («был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость: с распущенными волосами ходя по улицам нагой в жестокие морозы, он предсказывал бедствия и торжественно злословил Бориса; а Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или веря святости сего человека. Такие юродивые, или блаженные, нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного, человека укорять в глаза беззаконною жизнию и брать все, им угодное, в лавках без платы; купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяют, что современник Иоаннов, Василий Блаженный, подобно Николе Псковскому, не щадил Грозного и с удивительною смелостию вопил на стогнах о жестоких делах его»).
Подобно летописцу Пимену, Юродивый свидетельствует в драме о зле, царящем в мире. Но появляется он перед зрителем/читателем не в замкнутом пространстве кельи, а на открытом всем ветрам Истории пространстве соборной площади, среди людской толпы, за минуту до выхода Бориса Годунова, «диалог» с которым составляет суть сцены. Он ведает и жалость, и гнев; он то поет слезную песенку («Месяц светит, / Котенок плачет, / Юродивый, вставай, / Богу помолися!»), то сердится: «Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича». И недаром Юродивый почти прямо сравнивается с царем: («Чу! шум. Не царь ли? <…> Нет; это юродивый»).
Ему дана власть знать о преступлении и наказании и свободно, прилюдно говорить об этом:
Царь
Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. <…>
Юродивый (ему вслед)
Нет! нет! нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит.
Причем глас Николки – это действительно и непосредственно глас Божий, ибо юродивый действует не от себя, ему велит Богородица. А его бесстрашный разговор с властью земной от имени власти небесной есть образец идеального поведения «властителя дум» перед «земным властителем», по-своему повторяющий жест Кудесника в «Песни о вещем Олеге» (1822):
Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
<…>
«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе…»
По принципу контраста сцена с Николкой («Площадь перед собором в Москве») повторяет одну из начальных «народных» сцен, на Девичьем поле, где люди из толпы проливают ложные слезы и проявляют притворную радость при избрании «цареубийцы». Отзывается эта сцена и в последнем эпизоде («Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца»). Под окно Федора подходит нищий, просит милостыню, и стражник гонит его словами: «Поди прочь, не велено говорить с заключенными». Здесь спародированы слова Николки, некогда обращенные к Борису: «…молиться за царя Ирода – Богородица не велит»… Кого надлежит слушаться – власть земную или власть небесную? Пушкин дает прозрачный ответ, формально замыкая на сцену у собора и начало, и конец своей трагедии, так что она обретает статус композиционного и смыслового центра.
Позже он многократно отождествит себя со своим Юродивым; отождествит в шутку, но вполне настойчиво: «Хоть она (трагедия. – А. А.) и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (из письма к П. А. Вяземскому – ок. 7 ноября 1825 г.). И дело совсем не в сентябрьской пикировке с П. А. Вяземским, когда тот писал: «Жуковский уверяет, что и тебе надо выехать в лицах юродивого», а Пушкин подхватывал: «Благодарю от души Карамзина за Железный колпак, что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее» (из письма от 13 и 15 сентября 1825 г.). Дело в том, что лишь с двумя персонажами трагедии Пушкин связывал надежды на счастливый исход русской истории, на рождение отечественной гражданственности – с Пименом и с Юродивым. Но его личный идеал – не летописец, а Юродивый, в чьих репликах прямо предсказан категорический императив «<Памятника>»: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна…».
Литература:
Алексеев М. П. Борис Годунов и Димитрий Самозванец в западноевропейской драме // Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература / Под ред. Г. П. Макогоненко, С. А. Фомичева. Л, 1987.
Алексеев М. П. Ремарка Пушкина «Народ безмолвствует» // Пушкин: Сб. статей. Л., 1972.
Винокур Г. О. Комментарий // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7. <Л.>, 1935.
Непомнящий В. «Наименее понятый жанр…» // Непомнящий В. Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983.
Шервинский С. В. О наименовании действующих лиц в драмах Пушкина // Известия / АН СССР. Сер. лит. и яз. T. XXI. Вып. 4.
«Граф Нулин»
Стихотворная повесть
(стихотворная повесть, 1825; опубл. – 1827)
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА – молодая помещица, недавно вышедшая замуж и скучающая в деревне; героиня стихотворной повести, варьирующей «довольно слабую» (Пушкин) поэму Шекспира «Лукреция» (издана в 1594 г.), а также стихотворную «сказку» И. И. Дмитриева «Модная жена» (1791). Сюжетной основой для шекспировской поэмы послужил «Месяцеслов» Овидия («Фасты») и повествование Тита Ливия; до Шекспира к трагической истории верной римлянки обращались Чосер («Легенды о славных женщинах», XIV в.), другие английские сочинители. Фабула «Лукреции» (в изложении А. А. Аникста) такова: «Сын царя Секст Тарквиний, прослышав о красоте и добродетели Лукреции, жены Коллатина, загорается страстью к ней. Он покидает военный лагерь, где находится также и муж Лукреции Коллатин, и проникает в дом красавицы. Убедившись в справедливости рассказов о ней, охваченный страстью Тарквиний решает овладеть ею. Проникнув в ее дом, он пытается уговорить Лукрецию разделить его страсть, но, видя, что ни просьбы, ни угрозы не действуют, он прибегает к насилию. Обесчещенная Лукреция рассказывает о своем позоре мужу и друзьям, требуя, чтобы они кровью смыли нанесенное ей оскорбление, и после этого закалывается. Коллатин и римляне, возмущенные насилием Тарквиния, изгоняют его из Рима» (Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 8. С. 573). Дмитриевская героиня – молодая жена старого барина, Премила-Лукреция, отправив кривого мужа Пролаза в английский магазин и французскую лавку, наставляет ему рога с щеголем Миловзором: