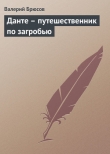Текст книги "Герои Пушкина"
Автор книги: Александр Архангельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
В трагедии две сцены. Моцарт дважды встречается со своим другом-антагонистом Сальери – в его комнате и в трактире; дважды уходит домой – первый раз: «сказать / Жене, чтобы <…> она к обеду / Не дожидалась», второй – чтобы, выпив яд, подсыпанный Сальери, уснуть «надолго… навсегда». Во время первой встречи он счастлив, во время другой – хмур. И оба раза причина его настроения – музыка: будь то игра слепого трактирного «скрыпача», которого Моцарт приводит к Сальери («Смешнее отроду ты ничего / Не слыхивал… /<…>/ Из Моцарта нам что-нибудь!»); этюд, сочиненный им ночью; счастливый мотив из оперы Сальери – Бомарше «Тарар»; Requiem, «недели три тому» заказанный «черным человеком», который так и не пришел за партитурой и с тех пор повсюду чудится Моцарту:
Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Впрочем, с тем же основанием можно сказать, что камертон моцартовского настроения отнюдь не музыка, а живая жизнь: «скрыпач» как таковой или «черный человек» сам по себе. В том-то и дело, что Моцарт (в отличие от Сальери) не отделяет «жизнь» от «музыки», а «музыку» от «жизни»; для него это два созвучия единой гармонии, полнота которой обеспечена соразмерностью счастья и горя, минора и мажора, творческим началом, пронизывающим бытие. Поэтому он может «позволить» себе быть «гулякой праздным», «бездельником», который как бы случайно, мимоходом создает шедевры. Моцарт (опять же в отличие от Сальери) ни слова не говорит о Боге, вере; но жизнеощущение его религиозно. И формула «Нас мало избранных» звучит в устах Моцарта как раскавыченная цитата из Евангелия. Не отделяя «жизнь» от «музыки», он резко отделяет добро от зла; быть сыном гармонии, счастливцем праздным, гением – значит быть несовместным со злодейством:
Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?
Сальери
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.
Моцарт
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?
САЛЬЕРИ
САЛЬЕРИ – герой-антагонист Моцарта. Оттолкнувшись от вымышленной истории об отравлении Моцарта знаменитым итальянским композитором Антонио Сальери (1750–1825), жившим в Вене (см. пушкинскую заметку «О Сальери», 1832), Пушкин создал образ «жреца, служителя искусства», который ставит себя на место Бога, чтобы вернуть миру утраченное равновесие. Именно это стремление восстановить справедливость миропорядка, а не «зависть» к Моцарту сама по себе толкает Сальери на злодейство, о чем читатель (слушатель, зритель) узнает из монолога, которым трагедия открывается: «Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет – и выше».
И монолог, и реплики Сальери в диалоге с Моцартом (который приводит с собою слепого «скрыпача» из трактира и заставляет его играть арию из «Дон Жуана», чем оскорбляет собеседника до глубины души) насыщены религиозной лексикой. Впервые музыка коснулась его сердца в «старинной церкви»; свой кабинет он именует «безмолвной кельей», дар – священным; Моцарта – богом; даже яд, восемнадцать лет назад подаренный ему «его Изорой», а ныне переходящий в «чашу дружбы», он называет «заветным даром любви». Это не случайные обмолвки. Сальери относится к музыке, как священник относится к церковному действу; всякого композитора считает совершителем таинства, обособленного от «низкой» жизни. Тот же, кто наделен (осенен) гением, но не слишком самоотвержен и «аскетичен», а главное – недостаточно серьезно относится к Музыке, для Сальери – отступник, опасный еретик.
Вот почему он так болезненно завидует Моцарту, хотя не был завистником, когда публике явился «великий Глюк» и перечеркнул весь его прежний опыт, заставил заново начать восхождение к вершинам славы. Не завидовал он и тогда, когда «Пиччини / Пленить умел слух диких парижан». Дело не в том, что Моцарт преисполнен вдохновения, а Сальери, «Звуки умертвив, / Музыку <…> разъял, как труп. Поверил / <…> алгеброй гармонию». В конце концов, ремесло он поставил лишь подножием искусству, и весь «алгебраизм» Сальери ничуть не мешает ему вкушать в миг творчества «восторг и слезы вдохновенья». Нет, он завидует Моцарту только потому, что великий дар достался человеку, этого не заслуживающему; что «Моцарт недостоин сам себя»; что беспечность, праздность, легкость оскорбляют величие жизненного подвига: «Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает Мадонну Рафаэля». Будь Моцарт иным – и Сальери смирился бы с его славой, как смирился он со славою Глюка.
От такой зависти один шаг до конкуренции с Небом. Наделив божественной гениальностью «гуляку праздного», оно как бы продемонстрировало свою «неразборчивость», а значит, перестало отличаться от земли. Чтобы восстановить нарушенный миропорядок, необходимо отделить «человека» Моцарта от его вдохновенной музыки: его – убить, ее – спасти. И поэтому второй монолог Сальери, в конце первой части, превращается в парафраз причастия. Прибегая к яду Изоры, он словно совершает священный акт: из «чаши дружбы» Сальери собирается причастить Моцарта – смерти. Тут прямо повторены многие мотивы монолога Барона из предшествующей «маленькой трагедии» «Скупой рыцарь». Недаром Сальери относится к Музыке с таким же религиозным трепетом, с каким Барон относится к Золоту.
Разрабатывая во второй части метафору «евхаристии», Пушкин окружает Сальери шлейфом библейских и евангельских ассоциаций. Прежде всего, обедая в трактире «Золотой Лев» и выпивая стакан с ядом, Моцарт возглашает тост «за искренний союз, / <…> / Двух сыновей гармонии». Т. е. косвенно именует Сальери своим братом. И невольно напоминает ему и читателю о первом убийце, сыне Адама Каине, лишившем жизни своего брата Авеля именно из зависти. Затем, оставшись наедине с собою, Сальери вспоминает слова Моцарта: «<…> гений и злодейство / Две вещи несовместные» – и вопрошает: «А Бонаротти? или это сказка /<…> и не был / Убийцею создатель Ватикана?» Чтобы понять религиозно-мистический смысл финальной реплики Сальери, нужно вспомнить, что легенда обвиняла Микеланджело не просто в убийстве, но в том, что он распял живого человека, чтобы достовернее изобразить Распятие.
При этом Пушкин вовсе не отрицает идею «служенья муз»; он вкладывает в уста Моцарта слова, отчасти рифмующиеся с размышлениями Сальери: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, / <…> / Единого прекрасного жрецов». Трагедия Сальери в том, что он обособил поток творчества от потока жизни – и попался в худшую из смысловых ловушек. Презирая жизнь, он служит ее презренной пользе («Наследника нам не оставит он. / Что пользы в нем? <…>»), равно как Моцарт, погружаясь в жизнь, пренебрегает пользой – и остается праздным счастливцем, который служит только Гармонии и безусловно верит в правду. Не случайно первые же слова Сальери отрицают саму возможность правды – «Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет – и выше», а едва ли не последнее восклицание Моцарта содержит уверенность в незыблемом существовании правды: «Не правда ль?» (курсив наш. – А. А.).
Литература:
Булгаков С. Н. Моцарт и Сальери // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1990.
Гаспаров Б. М. «Ты, Моцарт, недостоин сам себя» // Временник Пушкинской комиссии: 1974. Л., 1977.
<3>
«Каменный гость»
(1830; при жизни поэта не публ.)
ДОНА АННА
ДОНА АННА де Сольва – героиня третьей из цикла «маленьких трагедий», написанной на «бродячий» сюжет о Дон Жуане (Гуане). Дона Анна действует в опере Моцарта «Дон Жуан», упомянутой во второй трагедии цикла и послужившей Пушкину ближайшим сюжетным источником.
Пушкинская Дона Анна – не символ соблазненной невинности и не жертва порока; это типичная «оперная вдова». Она верна памяти мужа, убитого Дон Гуаном, ежевечерне приходит на его могилу в Антониевом монастыре «кудри наклонять и плакать». Избегает мужчин, общается лишь с кладбищенским монахом; но, как всякая «театральная испанка», готова в какой-то миг решиться на любовное приключение. Выданная матерью замуж за богатого Командора дон Альвара, его убийцу она никогда прежде не видела. Это позволяет Дон Гуану, высланному королем из Мадрида, но самовольно вернувшемуся, остаться неузнанным; он является на могилу Командора и предстает перед Анной переодетым отшельником, чтобы тронуть женское сердце сладкими речами, а затем «открыться» (на самом деле использовав новую маску – некоего Диего де Кальвадо). Дона Анна, по законам любовной игры, отказывается вступать в объяснения с соблазнителем у могилы мужа и назначает свидание назавтра попозже, у себя дома.
Во время этого свидания она продолжает играть роль «слабой женщины», «бедной вдовы», медленно уступающей натиску противника. Узнав, что перед нею – Дон Гуан, вскоре смиряется с мыслью о возможной связи с убийцей Командора и забывает недавнее обещание заколоть кинжалом Гуана, если тот когда-нибудь попадется ей на глаза. В конце ужина Гуану подарен «холодный, мирный» поцелуй и обещание завтрашней встречи (которая, разумеется, предполагает нечто большее). И только гибельное для Гуана явление ожившей статуи Командора, которую тот имел несчастье в шутку пригласить «на свидание», обрывает любовный сюжет – вместе с жизнью Гуана. Что при этом происходит с Доной Анной – читатель (зритель) не узнает; она непосредственно не участвует в развязке.
Но сюжетная роль Доны Анны не до конца совпадает с лирическим образом, созданным словами монаха о ней:
И приезжает каждый день сюда
За упокой души его молиться
И плакать, —
которые подхватывает и развивает Гуан:
Вы черные власы на мрамор бледный
Рассыплете – и мнится мне, что тайно
Гробницу эту ангел посетил…
Ср. также: «душа твоя небесная». С этим образом гармонирует само протяженно-сладкое звучание имени Доны Анны и его этимология (Анна, евр. – жизнь). Именно от этого словесного образа (а не от сценического характера) будет отталкиваться А. А. Блок, создавая свою Донну Анну в стихотворении «Шаги Командора».
ДОН ГУАН
ДОН ГУАН – испанский гранд, некогда убивший Командора; высланный королем «во спасение» от мести семьи убитого; самовольно, «как вор», вернувшийся в Мадрид и небезуспешно пытающийся соблазнить вдову Командора Дону Анну; в шутку приглашающий статую Командора на свое свидание с вдовой и гибнущий от каменного рукопожатия ожившей статуи; герой «бродячего сюжета» мировой литературы, использованного Пушкиным.
Роль «вечного любовника» предполагает авантюрность характера, легкость отношения к жизни и смерти, веселый эротизм. Сохраняя эти черты, Пушкин с помощью подчеркнуто «испанской» транскрипции имени (вошедшего в русскую традицию во французской огласовке) несколько обособляет своего героя от его многочисленных литературно-театральных предшественников, – прежде всего Жуана из оперы Моцарта. Легковесный Дон Гуан Пушкина не просто обречен на трагический итог, он с самого начала поставлен в невыносимое положение. Любовная игра – едва ли не единственное (кроме дуэли) занятие Дона Гуана; она невозможна без игры словесной, без использования особого любовного языка – яркого, метафорического, но условного и не предполагающего веры в реальность сказанного. А в мире «Каменного гостя» все шутливые слова звучат всерьез, все фантастические метафоры в конце концов реализуются в жизни, от слова до дела – один шаг. Дон Гуан об этом не догадывается – и гибнет.

Уже в первой сцене, разговаривая со своим слугой Лепорелло на улицах ночного Мадрида, Дон Гуан роняет случайную фразу, которая «предсказывает» его будущее общение с миром мертвых: женщины в тех «северных» краях, куда он был сослан, голубоглазы и белы, как «куклы восковые», – «в них жизни нет». Затем вспоминает о давних свиданиях в роще Антониева монастыря с Инезой, о ее помертвелых губах. Во второй сцене он является к своей былой возлюбленной, актрисе Лауре; закалывает шпагой ее нового избранника Дона Карлоса, который, по несчастию, был братом гранда, убитого им на дуэли; целует ее при мертвом и не придает значения ее пустым словам: «Что делать мне теперь, повеса, дьявол?» И к чему придавать им значение, если сам Дон Гуан (вопреки репутации) не считает себя особенно «развратным, бессовестным, безбожным»; он просто беззаботен и смел, охоч до приключений. Но слово Лауры – «дьявол» невольно указывает на его опасное сближение с демоническими силами, как собственные слова Дона Гуана «о куклах восковых» предупреждают его опасное сближение с царством «оживших автоматов» (распространенный мотив романтической литературы 1830-х годов). Тот же «сюжетно-языковой» мотив будет развит в реплике Доны Анны в сцене свидания:
О, Дон Гуан красноречив – я знаю.
Слыхала я: он хитрый искуситель.
Вы, говорят, безбожный развратитель,
Вы сущий демон.
В третьей сцене – на кладбище Антониева монастыря, перед могильным памятником Командора – Дон Гуан окончательно попадается в словесную ловушку, которую расставляет ему Пушкин. Воспользовавшись тем, что Дона Анна никогда не видела убийцу мужа, Дон Гуан, переодевшись монахом, появляется перед вдовой. Естественно, в его соблазнительных речах обыграна пикантность ситуации. Он молит не о чем-нибудь – о смерти (разумеется, у ног Доны Анны); он осужден на жизнь; он завидует мертвой статуе Командора («<…> счастлив, чей хладный мрамор / Согрет ее дыханием небесным»); он мечтает о том, чтобы возлюбленная могла коснуться «легкою ногою» его могильного камня. Все это обычное любовное витийство, пышное и пустое. Счастливый Дон Гуан, приглашая статую прийти на завтрашнее свидание и стражем стать у двери, шутит. И даже то, что статуя дважды кивает в знак согласия, пугает его лишь на миг.
Четвертая сцена – назавтра, в комнате Доны Анны – начинается все тою же беззаботной игрой слов. Представившийся накануне неким Диего де Кальвадо, Дон Гуан постепенно готовит собеседницу к объявлению своего настоящего имени, прибегая к условным образам любовного языка («мраморный супруг», «убийственная тайна», готовность «за сладкий миг свиданья» безропотно заплатить жизнью; поцелуй на прощанье – «холодный»)… Но все это уже сбылось; мертвая статуя демонически ожила; живому Дону Гуану предстоит окаменеть от рукопожатия ее «мраморной десницы», стать по-настоящему холодным, заплатить жизнью за «миг» свидания… Единственная возможность, какую Пушкин дарит своему герою, прежде чем тот провалится вместе со статуей в преисподнюю земли, – это сохранить достоинство, встретить смерть с той высокой серьезностью, которой так недоставало Дону Гуану при жизни.
Статуя
Я на зов явился.
Дон Гуан
О Боже! Дона Анна!
Статуя
Брось ее,
Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.
Дон Гуан
Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
Литература:
Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987.
<4>
«Пир во время чумы»
(из Вильсоновой трагедии: The city oftlie plague)
(1830; опубл. – 1832)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ВАЛЬСИНГАМ)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ВАЛЬСИНГАМ) – герой трагедии, похоронивший три недели назад мать и (чуть раньше или чуть позже) возлюбленную жену Матильду, а теперь председательствующий на пиру среди чумного города.
Пирующие отчаялись в вере и ценой возможной гибели души бросают вызов неизбежной смерти. Их веселье – безумство обреченных, знающих о своей участи (дыхание чумы уже коснулось участников пира – они поминают первую жертву своего круга, Джаксона; так что это еще и ритуальная трапеза). Председатель Вальсингам не «руководит» пиром, он просто распорядитель. Сначала Вальсингам «дает слово» желтоволосой шотландке Мери, чтобы та спела старинную песню о живом Эдмонде и мертвой Дженни:
Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь Божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.
Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —
Тихо все – одно кладбище
Не пустеет, не молчит <…>
После тоскливой песни острее переживание веселья; в старину люди иначе переживали встречу с ужасом смертной разлуки. Затем, проводив взглядом телегу с мертвыми телами, управляемую негром (олицетворение адской тьмы), Вальсингам поет сам.
Песня, впервые в жизни сочиненная Вальсингамом, звучит совсем в иной тональности: это торжественный гимн Чуме, хвала отчаянию, пародия на церковное песнопение:
Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
<…>
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья
Бессмертья, может быть, залог! <…>
Недаром Вальсингам использует «евангельскую» стилистику в богоборческой песне; он восславляет не Царство, но именно Царствие чумы, негатив Царствия Божия. Так Председатель, поставленный в центр последней из «маленьких трагедий», повторяет «смысловой жест» других героев цикла. Скупой рыцарь служит своего рода мессу золоту, пресуществляя его во власть; Сальери причащает Моцарта смерти; гимн Вальсингама наделяет чумной пир сакральным статусом, превращая в черную мессу: наслаждение на краю гибели сулит сердцу смертного залог бессмертья.
Недаром, едва Председатель умолкает, на сцене появляется Священник, который прямо сравнивает пирующих с бесами. Пропев гимн Чуме, Председатель перестал быть «просто» распорядителем пира; он превратился в его полноправного «тайносовершителя»; отныне именно – и только – служитель Бога может стать сюжетным антагонистом Вальсингама. Священник и Председатель вступают в спор; это спор двух «клириков», один из которых причащает прихожан «святою кровью / Спасителя, распятого за нас», другой – как Моцарт, превратившийся в Сальери, – сам готов причаститься «благодатным ядом этой чаши», т. е. веселым вином чумного пира. Священник зовет Вальсингама за собой, не обещая избавления от чумы и смертного ужаса, но суля возвращение к смыслу, утраченному пирующими, к стройной (хотя ничуть не менее суровой) картине мироздания. Вальсингам отказывается наотрез, ибо дома ждет его «мертвая пустота». Напоминание Священника о матери, что «плачет горько в самых небесах» о гибнущем сыне, не действует на него; и только «Матильды чистый дух», ее «навек умолкнувшее имя», произнесенное Священником, потрясает Вальсингама. Он по-прежнему просит Священника оставить его, но добавляет слова, до этой минуты для него невозможные: «Ради Бога». Это значит, что в душе Председателя, вспомнившего о райском блаженстве любви и внезапно прозревшего Матильду («святое чадо света») в раю, произошел переворот: имя Бога вернулось в пределы его страдающего сознания; религиозная картина мира начала восстанавливаться, хотя до выздоровления души еще далеко. Поняв это, Священник уходит, благословляя Вальсингама.
Тот «остается, погруженный в глубокую задумчивость», уже не участвуя в бешеном веселье, еще не в силах пойти за Священником. Пушкин не впервые оставляет своих героев в таком «пограничном» состоянии потрясенной задумчивости – на точке высшего напряжения чувств (ср. финал «Евгения Онегина»).[31]
Литература:
Лотман Ю. М. Типологическая характеристика реализма позднего Пушкина// Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
«Пиковая дама»
Повесть
(повесть, 1833, опубл. – 1834)
ГЕРМАНН
ГЕРМАНН – молодой офицер («инженер»), центральный персонаж социально-философской повести, каждый из героев которой связан с определенной темой (Томский, см. ст. о нем – с темой незаслуженного счастья; Лизавета Ивановна, см. ст. о ней – с темой социального смирения; старая графиня, см. ст. о ней – с темой судьбы) и наделен одной, определяющей его и неизменной чертой. Германн прежде всего расчетлив, разумен; это подчеркнуто и его немецким происхождением, и фамилией (имени его читатель не знает), и даже военной специальностью инженера.
Германн впервые появляется на страницах повести в эпизоде у конногвардейца Нарумова, но, просиживая до пяти утра в обществе игроков, он никогда не играет – «…я не в состоянии жертвовать необходимым, в надежде приобрести излишнее». Честолюбие, сильные страсти, огненное воображение подавлены в нем твердостью воли. Выслушав историю Томского о трех каргах, тайну которых 60 лет назад открыл его бабушке, графине Анне Федотовне, легендарный духовидец Сен-Жермен, он восклицает не «Случай!», а «Сказка!» – поскольку исключает возможность иррационального успеха.
Далее читатель видит Германна стоящим под окнами бедной воспитанницы старой графини, Лизы; облик его романичен: бобровый воротник закрывает лицо, черные глаза сверкают, быстрый румянец вспыхивает на бледных щеках. Однако Германн – не галантный персонаж старого французского романа, что читает графиня, не роковой герой романов готических (которые графиня порицает), не действующее лицо скучно-мирного русского романа (принесенного ей Томским), даже не «литературный родственник» Эраста из повести Карамзина «Бедная Лиза». (На связь с этой повестью указывает не только имя бедной воспитанницы, но и «чужеземная» огласовка фамилии ее «соблазнителя».) Германн, скорее, герой немецкого мещанского романа, откуда слово в слово заимствует свое первое письмо Лизе; это герой романа по расчету. Лиза нужна ему только как послушное орудие для осуществления хорошо обдуманного замысла – овладеть тайной трех карт.
Тут нет противоречия со сценой у Нарумова; человек буржуазной эпохи, Германн не переменился, не признал всевластие судьбы и торжество случая (на чем строится любая азартная игра – особенно «фараон», в который 60 лет назад играла графиня). Просто, выслушав продолжение истории (о покойнике Чаплицком, которому Анна Федотовна открыла-таки секрет), Германн убедился в действенности тайны. Это логично; однократный успех может быть случайным; повторение случайности указывает на возможность превращения ее в закономерность; а закономерность можно «обсчитать», рационализировать, использовать. До сих пор тремя его козырями были – расчет, умеренность и аккуратность; отныне тайна и авантюризм парадоксальным образом соединились со все тем же расчетом, со все той же буржуазной жаждой денег.
И тут Германн страшным образом просчитывается. Едва он вознамерился овладеть законом случайного, подчинить тайну своим целям, как тайна сама тут же овладела им. Эта зависимость, «подневольность» поступков и мыслей героя (которую сам он почти не замечает) начинает проявляться сразу – и во всем.
По возвращении от Нарумова ему снится сон об игре, в котором золото и ассигнации как бы демонизируются; затем, уже наяву, неведомая сила подводит его к дому старой графини. Жизнь и сознание Германна мгновенно и полностью подчиняются загадочной игре чисел, смысла которой читатель до поры до времени не понимает. Обдумывая, как завладеть тайной, Германн готов сделаться любовником «Восьмидесятилетней» графини, ибо она может умереть через неделю (т. е. через 7 дней) или через 2 дня (т. е. на 3-й). Выигрыш может утроить, усемерить его капитал. Через 2 дня (т. е. опять же на 3-й) он впервые является под окнами Лизы; через 7 дней она впервые ему улыбается – и так далее. Даже фамилия Германна – и та звучит теперь как странный немецкий отголосок французского имени Сен-Жермен, от которого графиня получила тайну трех карт.
Но, едва намекнув на таинственные обстоятельства, рабом которых становится его герой, автор снова фокусирует внимание читателя на разумности, расчетливости, планомерности Германна; он продумывает все – вплоть до реакции Лизаветы Ивановны на его любовные письма. Добившись от нее согласия на свидание (а значит, получив подробный план дома и совет, как в него проникнуть), Германн пробирается в кабинет графини, дожидается ее возвращения с бала и, напугав до полусмерти, пытается выведать желанный секрет. Доводы, которые он приводит в свою пользу, предельно разнообразны: от предложения «составить счастие моей жизни» до рассуждений о пользе бережливости («<…> я знаю цену деньгам»); от готовности взять грех графини на свою душу, даже если он связан «с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором», до обещания почитать Анну Федотовну «как святыню», причем из рода в род. (Это парафраз литургического молитвословия «Воцарится Господь вовек, Бог твой, Сионе, в род и род».) Германн согласен на все, ибо ни во что не верит: ни в «пагубу вечного блаженства», ни в святыню; это только заклинательные формулы, «сакрально-юридические» условия возможного договора. Даже «нечто, похожее на угрызение совести», что отозвалось было в его сердце, когда он, пробравшись в дом графини, услышал «торопливые шаги» обманутой им Лизы, больше не способно в нем пробудиться; он окаменел; уподобился мертвой статуе.
Поняв, что графиня мертва, Германн пробирается в комнату Лизаветы Ивановны – не для того, чтобы покаяться перед ней, но для того, чтобы поставить все точки над «i», развязать узел любовного сюжета, в котором более нет нужды. «<…> все это было не любовь! Деньги, – вот чего алкала его душа!» Суровая душа – уточняет Пушкин. Почему же тогда дважды на протяжении одной главы (4-й) автор наводит читателя на сравнение холодного Германна с Наполеоном, который для людей 1-й половины XIX в. воплощал представление о романтическом бесстрашии в игре с судьбой? Сначала Лиза вспоминает о разговоре с Томским (у Германна «лицо истинно романическое» – «профиль Наполеона, а душа Мефистофеля»), затем следует описание Германна, сидящего «на окошке сложа руки» и удивительно напоминающего портрет Наполеона…
Прежде всего Пушкин (как впоследствии и Гоголь) изображает новый, буржуазный, измельчавший мир. Хотя все страсти – символом которых в повести оказываются карты – остались прежними, но зло утратило свой «героический» облик, изменило масштаб. Наполеон жаждал славы – и смело шел на борьбу со всей вселенной; современный «Наполеон» Германн жаждет денег – и хочет бухгалтерски обсчитать судьбу. «Прежний» Мефистофель бросал к ногам Фауста целый мир; «нынешний» Мефисто способен только насмерть запугать старуху графиню незаряженным пистолетом [а современный Фауст из пушкинской «Сцены из Фауста» (1826), с которой ассоциативно связана «Пиковая дама», смертельно скучает]. Отсюда рукой подать до «наполеонизма» Родиона Раскольникова, объединенного с образом Германна узами литературного родства («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского); Раскольников ради идеи пожертвует старухой процентщицей (такое же олицетворение судьбы, как старая графиня) и ее невинной сестрой Лизаветой Ивановной (имя бедной воспитанницы). Однако верно и обратное: зло измельчало, но осталось все тем же злом; «наполеоновская» поза Германна, поза властелина судьбы, потерпевшего поражение, но не смирившегося с ним – скрещенные руки, – указывает на горделивое презрение к миру, что подчеркнуто «параллелью» с Лизой, сидящей напротив и смиренно сложившей руки крестом.
Впрочем, голос совести еще раз заговорит в Германне – спустя три дня после роковой ночи, во время отпевания невольно убитой им старухи. Он решит попросить у нее прощения, – но даже тут будет действовать из соображений моральной выгоды, а не из собственно моральных соображений. Усопшая может иметь вредное влияние на его жизнь, и лучше мысленно покаяться перед ней, чтобы избавиться от этого влияния.
И автор, который последовательно меняет литературную прописку своего героя [в 1-й главе он – потенциальный персонаж авантюрного романа; во 2-й – герой фантастической повести в духе Э.-Т.-А. Гофмана (сюжетная основа гофмановской новеллы «Счастье игрока» использована в «Пиковой даме»); в 3-й – действующее лицо повести социально-бытовой, сюжет которой постепенно возвращается к своим авантюрным истокам], вновь резко «переключает» тональность повествования. Риторические клише из поминальной проповеди молодого архиерея («ангел смерти обрел ее <…> бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного») сами собой накладываются на события страшной ночи. В Германне, этом «ангеле смерти» и «полунощном женихе», вдруг проступают пародийные черты; его образ продолжает мельчать, снижаться; он словно тает на глазах у читателя. И даже «месть» мертвой старухи, повергающая героя в обморок, способна вызвать улыбку у читателя: она «насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом».
Исторический анекдот о трех картах, подробное бытоописание, фантастика – все спутывается, покрывается флером иронии и двусмысленности, так что ни герой, ни читатель уже не в силах разобрать: действительно ли мертвая старуха, шаркая тапочками, вся в белом, является Германну той же ночью? Или это следствие нервного пароксизма и выпитого вина? Что такое три карты, названные ею, – «тройка, семерка, туз», – потусторонняя тайна чисел, которым Германн подчинен с того момента, как решил завладеть секретом карт, или простая прогрессия, которую Германн давным-давно сам для себя вывел («я утрою, усемерю капитал…», т. е. – стану тузом)? И чем объясняется обещание мертвой графини простить своего невольного убийцу, если тот женится на бедной воспитаннице, до которой при жизни ей не было никакого дела? Тем ли, что старуху заставила «подобреть» неведомая сила, пославшая ее к Германну, или тем, что в его заболевающем сознании звучат все те же отголоски совести, что некогда «отозвалось» в нем и «снова умолкло» при звуке Лизиных шагов? На эти вопросы нет и не может быть ответа; сам того не замечая, Германн попал в «промежуточное» пространство, где законы разума уже не действуют, а власть иррационального начала еще не всесильна; он – на пути к сумасшествию.
Идея трех карт окончательно овладевает им; стройную девушку он сравнивает с тройкой червонной; на вопрос о времени отвечает «без пяти минут семерка». (Так безумный поэт К. Н. Батюшков, о котором Пушкин много размышлял в 1833 г., на этот же вопрос отвечал: «Вечность».) Пузатый мужчина кажется ему тузом, а туз является во сне пауком, – этот образ сомнительной вечности в виде паука, ткущего свою паутину, будет подхвачен Достоевским в «Преступлении и наказании» (Свидригайлов). Германн, так ценивший именно независимость, хотя бы и материальную, ради нее и вступивший в игру с судьбою, теряет самостоятельность. Он готов полностью повторить «парижский» эпизод жизни старой графини и отправиться играть в Париж. Но тут из «нерациональной» Москвы является знаменитый игрок Чекалинский и заводит в «регулярной» столице настоящую «нерегулярную» игру. Тот самый случай, исключить который из своей закономерной, спланированной жизни Германн намеревался, избавляет его от «хлопот» и решает его участь.