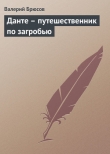Текст книги "Герои Пушкина"
Автор книги: Александр Архангельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Сюжетная функция образа бедного рыбака. Как державный основатель имеет свою историческую тень – печального царя, так бедный Евгений – рыбака, связанного с ним тем же эпитетом. Почему этот периферийный, в динамичном развитии событий никакой роли не играющий образ «развернут» не только в пространстве, но и во времени и действует (точнее – бездействует!) на всем протяжении повести – в течение столетия?[95] Почему он появляется в самых важных для художественного произведения эпизодах – во Вступлении: «… финский рыболов, / Печальный пасынок природы…», а затем в финальной сцене погребения «на острове малом»: «Рыбак, на ловле запоздалый…»? Какую роль играет он во «внутреннем» сюжете?
Мы ничего не сможем понять, если не посмотрим на него сквозь призму общеизвестного «источника» этого образа – идиллию Н. И. Гнедича «Рыбаки» (1821), популярную в пушкинском кругу.[96] Пушкин не раз творчески обращался к «Рыбакам», в том числе в стихотворении «Когда порой воспоминанье…» (1830), где у поэта впервые появляется ставший затем излюбленным пейзаж: «Сюда порою приплывает / Отважный северный рыбак, / Здесь невод мокрый расстилает / И свой разводит он очаг». Между прочим, идиллия «Рыбаки» была перепечатана в сборнике Гнедича 1832 г., так что в момент создания Пушкиным повести «Медный Всадник» была у поэта «на слуху»; к тому же в 1833 г. Пушкин присутствовал на похоронах переводчика Гомера, состоявшихся 8 февраля в Александро-Невской лавре.
Сравним:
На острове Невском, омытом рекою и морем,
Под кущей одною два рыбаря жили пришельцы; <…>
Лишь честную бедность они принесли за спиною <…>
Все спит: над деревнею дым ни единый не вьется.
Огонь лишь дымится пред кущею рыбаря-старца.
Котел у огнища стоит уже снятый с тренога:
Старик заварил в нем уху в ожидании друга; <…>
Не ужинал он и скучал, земляка ожидая; <…>
[97]
Финал «петербургской повести»: «и бедный ужин свой варит» – узнаваем.
Но возьмем другой ряд цитат из «Рыбаков» и убедимся в том, что параллель с ним содержится и в начальных стихах «Медного Всадника», во Вступлении:
Рыбак старший
<…> Но на челне, как видится, невод? <…>
Рыбак младший
Оттоле нам видны далекие рощи и мызы
По брегу Невы среброводной; оттоле увидим
И дом, о кагором тебе поведу мое слово <…>
[98]
При чтении этих стихов легко вспоминаются описания леса («неведомый лучам» солнца), челна, не замеченного царем, и изб, не интересующих его, наконец, как бы всуе помянутого финского рыболова («печальный пасынок природы»), бросавшего некогда «ветхий невод» в «неведомые воды».
Так что перекличка с Гнедичем оказывается сквозной, значимой в равной степени и для завязки сюжета «Медного Всадника», и для конца его. Ее цементирующая сила заставляет и нас сцепить в своем восприятии как бы разорванные и далеко разведенные в пространстве пушкинской повести звенья еще одной сюжетной цепи, которая (в продолжение разговора, начатого в предыдущей главе) невидимо спаяна связью с идиллией.
Сравним два текста.
Идея идиллии Гнедича нескрываемо выражена в автоэпиграфе к ней: «Таланты от бога, богатство – от рук человека». Все ее сюжетное движение направлено к подтверждению, «иллюстрации» этой истины: бескорыстно «взыгравший» в саду на свирели Младший рыбак получает в награду от сребовласого боярина новый невод и возможность продавать лучший лов на трапезу боярину. В мире идиллии Гнедича совершаются незначительные изменения, но они совершаются: благость и умиротворение «материальными» результатами духовного труда от начала к концу нарастают, становятся интенсивнее, вплоть до того, что Старший рыбак «устает» от радости сердца.
В пушкинском отголоске этого сюжета никакие перемены невозможны. Образ, целиком погруженный в пространство «внутреннего» сюжета, словно замер в одном состоянии – бедной честности: рыбак ни к чему не стремится, ничего не желает; время для него действительно движется по кругу, как того и требует идиллия. При этом в сюжете «внешнем» – сплошной калейдоскоп событий. На берег Невы приходит царь, замышляет город; творческая сила обрушивается на жизнь рыбацких селений; идиллик Евгений как бы пытается реализовать сюжетный замысел Гнедича, в полном согласии с ним полагая, что «таланты от бога» («… мог бы бог ему прибавить / Ума и денег»), а «богатство – от рук человека» («… трудом / Он должен был себе доставить / И независимость и честь»). Но замысел этот рушится, не осуществившись: Евгений сходит с ума, пытается поссориться с кумиром; одическое величие и идиллическая невечность вступают в неравный конфликт. А рыбак все тот же, и жизнь все та же. Созидаются царства и рушатся судьбы – а человеческое бытие идет своим чередом. Такова неидиллическая огласовка идиллического сюжета Гнедича у Пушкина. И потому нельзя сказать, «хорошо» или «плохо», что так происходит в мире; можно лишь констатировать, что это – так. Затем и понадобился Пушкину такой «неизменный» образ, помещенный на противоположных полюсах сюжетной цепи, чтобы его «извечностью» оттенить драматическую неправомерность «одического», надчеловеческого замысла царя, «идиллического», частного жизненного намерения Евгения и безволия Александра I.
Образ этот художественно связан с рыбаком из «Сказки о рыбаке и рыбке» (тоже – 1833 г.), и оба они генетически восходят к «речной идиллии», столь популярной в начале века. Но ведь родословная Евгения берет начало в той же жанровой традиции, однако как круто расходится его путь с предначертанной ему идиллическим каноном дорогой! Достаточно вспомнить, что в 1818 г. «Вестник Европы» (№ 19. С. 168–177) поместил идиллию А. Ф. Воейкова «Первый мореплаватель», герой которой, Дамон, живет на острове, «долиной и ручья межою отделен» от «уютного домика» своей возлюбленной Алины. Подобно Евгению, Дамон на закате бредет домой, «мечтами веселясь» о невесте, о счастии, – и тут начинается буря, воды вздымаются —
И гневный Океан на сушу устремлен…
<…>От основания оторван по долину,
Алинин холм идет в кипящую пучину.
Дальше начинаются не просто сюжетные, но уже текстуальные переклички двух произведений: «За ночью адскою восходит райский день/<…>/Один Дамон стоит, мертвец непогребенный, / Недвижный взор вперя на волны разъяренны», которые «в гранитный берег хлестали». Любовь, заставившая Евгения ринуться на утлом челне через волны, чтобы узнать о страшной утрате («Судьба с неведомым известьем…»), Дамону «мужество и средство подала/ Челн выдолбить, преплыть безвестную пучину, / И удивить судьбу – отнять у ней Алину». На этом переклички кончаются, начинаются разногласия. Ибо вопреки Воейкову, вопреки всей философии идиллии с ее упованием на житейское благо, Пушкин направляет вектор сюжета к трагедии, ставшей «заменой счастия». И если какая-то мысль «Первого мореплавателя» ему и близка, то это мысль, высказанная Воейковым в начале, а затем опровергаемая финалом:
Но ах! что прочно здесь и верно? и каких
Неизменяемых благ в мире сем желаем,
В котором сами мы как призраки мелькаем?
В «Медном Всаднике» тот, кто смирился с непрочностью бытия (рыбак даже не земледелец, его улов – полностью дело случая!), тот сохранил данное ему от века. Кто сделал ставку на тихое, но прочное счастье – тот потерял все.
Развязка, предшествующая завязке. Ломанная линия «внешнего» сюжета пушкинской повести как бы повторила страшный узор трещины, которую под ударом исторической стихии дал в самой своей сердцевине изображенный в «Медном Всаднике» мир.
Но едва ли не главный парадокс сюжета «Медного Всадника» заключен в том, что развязка дана в нем фактически одновременно с завязкой, хотя и убрана в ее тень. Вспомним выделенный пробелами отрывок Вступления: «Люблю тебя, Петра творенье…». Прежде чем поведать о расколе мир, поэт намечает – как духовный противовес этому расколу – образ цельной, истинной, распахнутой настежь жизни, где все объединено его любовью.
Люблю, военная столица
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет,
И, чуя вешни дни, ликует.
В этом описании совмещены контрасты – державное течение Невы и задумчивые ночи; полнощная царица и синий лед реки; да и сама река дана в двух «ипостасях»: государственной, державной и – природной. Но границы между этими сферами бытия словно разомкнуты; они не противоречат и не противостоят друг другу, а вполне мирно и дружественно соседствуют. В монологе «Люблю тебя, Петра творенье…» явлена многосторонность мира, уравновешивающая разные, порой даже противоположные, его стороны. Вот выход из драмы разъединения, легшей в основу «внутреннего» и «внешнего» сюжетов повести, выход, требующий не социальных потрясений, не государственных переворотов, крови и стихии, но всего лишь переживания каждым человеком родства с бытием, готовности своей жизнью ответить, откликнуться на его многомерность: «Люблю тебя…»
Если взглянуть на образы этого отрывка сквозь призму «Рыбаков», то обнаружится, что прежде всего перекликаются между собой описания петербургских ночей, полусумрачных, полупрозрачных.
У Гнедича:
Вот ночь, а светла синевою одетая дальность:
Без звезд и без месяца небо ночное сияет.
И пурпур заката сливается с златом востока;
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро <…>
[99]
У Пушкина:
<…> Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
<…>
И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другою
Спешит, дав ночи полчаса.
Велик соблазн сделать из этого сопоставительного ряда, где общим оказывается не только переживание «смещенного» петербургского времени, не только световой эффект описания, но даже и его цветовая гамма – золото небес, отчетливо выделенное на фоне полупрозрачного воздуха, – вывод о нескрываемо-«идиллическом» идеале Пушкина, контрастно противопоставленном «одическому» началу предшествующего отрывка («<…>/Как перед новою царицей / Порфироносная вдова»).
К подобному выводу подталкивает и очевидно личностный, субъективно-поэтический принцип пушкинского словоупотребления, выбранный здесь и выделяющий в мире все изменчивое, неуловимое, мгновенное: задумчивость ночей, безлунность блеска, недвижность воздуха… Узорные ограды, прогулки, наслаждение полнотой бытия: чтением, балами, холостой пирушкой – все это приметы «частной», выведенной за рамки государственной сферы жизни. Интересная деталь: используя едва ли не единственную выпадающую из общего идиллического настроя и явно тяготеющую к одической торжественности строку Гнедича «Шпиц тверди Петровой, возвышенный, вспыхнул над градом», – Пушкин возвращает ей утраченную мягкость, субъективность: «… и светла / Адмиралтейская игла». Да и авторская сноска, сопровождающая именно стихи 43–58, отсылает нас к художественному опыту П. А Вяземского, в свою очередь также – пусть полемически[100] – связанному с «Рыбаками» Н. И. Гнедича.
Но при этом описание частного мира дано у Пушкина в оправе из державных образов, воссозданных поэтическим словом, тяготеющим к весомой точности оды:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит. <…>
В этом месте Пушкин находит единственно возможный путь перерастания «одического» импульса в «идиллический», и, значит, идеал его не «умиротворение», свободное от государственного величия, но именно возможность проникновения одного в другое, проницание одного другим. В следующей строке – «Твоих оград узор чугунный» – речь также пойдет о материале (гранит – чугун), и пока читатель будет следить за чисто внешним описанием, поэт незаметно заведет разговор о том, что воплощено в этом материале. Ибо одно дело – державно сковывающие стихию реки гранитные берега, и совсем другое – чугунные решетки садов с тенистыми и уединенными уголками. Точно так же, исподволь, поэт переключает свой текст из одного жанрового регистра в другой, когда настает время вернуться в одическую тональность: после слов о голубом пламени пунша вполне естественно звучит рассуждение о «воинственной живости» потешных «Марсовых полей». Мы даже не успеваем уследить, как и когда Пушкин окончательно переводит тему в «высокий план», ведь «однообразная красивость» – образ, в равной степени могущий выражать и «частное» восхищение, и «державный» восторг. Но переход на новые позиции совершен; поэт восклицает: «люблю» —
<…> Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром <…>
Здесь и далее воспроизводится перечислительный ряд тем канонической оды (на рождение «порфирородного отрока», на «взятие» и т. д.), который станет ведущим приемом в «Пире Петра Первого» (1835).[101] Но и тут Пушкин ставит перед читателем еще одну жанровую загадку – в Tot же ряд встает вдруг, без всякой паузы, весна, которая могла служить темой сентименталистской (ср. у М. Н. Муравьева: «Ода десятая. Весна»), однако никак не классицистической оды. А ведь именно на последнюю сознательно сориентированы все предшествующие строки. Тем не менее текст есть текст:
<…> Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И чуя вешни дни, ликует.
Ликование весны соотнесено и с ликованием народа, узнавшего о рождении будущего своего главы, и с духовным подъемом, вызванным военной победой. Жанры перетекают друг в друга; происходит как бы «снятие» оды через идиллию, а идиллии через оду. Сферы жизни оказываются взаимнопроницаемыми; любовь поэта объемлет собой весь мир в его двойственном проявлении – общем и частном. Ибо в том и заключен основной сюжетный конфликт повести (а значит, и его жанровый «конфликт»), что бытие распалось на противостоящие друг другу начала – великое и малое, общественное и гражданское, одическое и идиллическое. Пушкин же не с одой и не с идиллией. Он – как повествователь – над ними и лишь вынужден пользоваться масками: «одического витии», воспевающего несуществующее величие Всадника, и «идиллика», передающего жизнеощущение «бедного» Евгения.
Между прочим, в этом авторском монологе впервые появляется имя Петра: царю как бы на мгновенье возвращается его индивидуальность. Жизнь самой Истории не знает различия между «высоким» и «низким», а победа весны так же важна, так же «исторична», как и победа над врагом.
Указать миру на это Пушкин и считал своим долгом. В посвящении Н. И. Гнедичу, созданном за год до начала работы над «Медным Всадником», он прославлял переводчика «Илиады» именно за умение «сочетать» малое и великое в мире: «Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты / Жужжанью пчел над розой алой», – ибо «Таков прямой поэт».
Прямым поэтом был и сам Пушкин.
Тем страшнее то, что уже во Вступлении к «Медному Всаднику» голос поэта расслаивался на спорящие «слова о мире»: одического витии, идиллика и сердечного повествователя, а герои олицетворяли собою несовместимые полюса современной жизни.
Литература:
Анциферов П. П. Быль и миф Петербурга. Пг., 1924.
Белый А. Ритм как диалектика и «Медный Всадник». М., 1929. (Работа неоднократно переиздавалась.)
Бицилли П. М. Этюды о русской поэзии. Прага, 1926.
Благой Д. Д. Миф Пушкина о декабристах: Социологическая интерпретация «Медного Всадника» // Печать и революция. 1926. № 4, 5.
Вайскопф М. Вещий Олег и Медный Всадник // Wiener Slawistischer Almanach. Wien, 1982. Bd. 12 (на рус. яз.).
Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6.
Вернадский Г. В. «Медный всадник» в творчестве Пушкина // Slavia, 1924. Roc. 2. Sec 4.
Винокур Г. О. Наследство XVIII века в стихотворном языке Пушкина// Пушкин – родоначальник новой русской литературы. М.; Л., 1941.
Измайлов Н. В. Текстологическое изучение поэмы Пушкина «Медный Всадник» //Типология славянских литератур. Л., 1973.
Каганович А. Медный Всадник: История создания монумента. Л., 1975.
Лотман Ю. М. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина: Проблема авторских примечаний к тексту // Пушкин и его современники: Ученые записки / ЛГПИ им. А И. Герцена. Псков, 1970. Т. 434.
Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы: 1830–1833. Л., 1974. Осповат А. Л. Вокруг «Медного Всадника» // Известия / АН СССР. Серия ОЛЯ. 1984. Т. 43. № 3.
Пумпянский Л. В. «Медный Всадник» и поэтическая традиция XVIII в. // Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Т. 415.
Рябинин Н. А. К проблеме литературных источников А. С. Пушкина «Медный Всадник» // Болдинские чтения. Горький, 1977.
Сидяков Л. С. «Пиковая дама», «Анджело» и «Медный Всадник»: К характеристике художественных исканий Пушкина второй болдинской осени // Болдинские чтения. Горький, 1979.
Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный всадник». История текста // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960.
Тименчик Р. Д. «Медный всадник» в литературном сознании начала XX века // Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983.
Тоддес Е. А. К изучения «Медного всадника» // Пушкинский сборник. Рига, 1968.
Тойбин И. М. Пушкин: Творчество 1830-х годов и вопросы историзма. Воронеж, 1976.
Томашевский Б. В. Комментарии // Пушкин А. С. Стихотворения: В 3 т. Л., 1955. Т. 1. С. 693–694.
Томашевский Б. В. Петербург в творчестве Пушкина // Пушкинский Петербург. Л, 1949.
Тынянов Ю. Н. Пушкин//Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969.
Худошина Э. И. Жанр стихотворной повести в творчестве А. С. Пушкина. Л, 1974.
Шайтанов И. О. Географические трудности русской истории: Пушкин и Чаадаев в споре о всемирносги // Вопросы литературы. 1995. № 6.
Щеголев П. Е. Текст «Медного всадника» // «Медный всадник»: Петербургская повесть А. С. Пушкина. Пг., 1923.
Энгельгардт Б. М. Историзм Пушкина: К вопросу о характере пушкинского объективизма // Энгелъгардт Б. М. Избр. труды. СПб., 1995.
Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. О. Работы по поэтике / Вступ. ст. Вяч. Вс. Иванова; Сост. и общ. ред. M. Л. Гаспарова. М., 1987.
Рисунки А. С. Пушкина
«Домик в Коломне». 1830.
«Дубровский». Черновой автограф. 1832.
«Евгений Онегин». Черновой автограф гл. 1, строфы XXVI.
«Евгений Онегин». Черновой автограф гл. 1, строфы LIV.
«Евгений Онегин». Рисунок на полях черновой рукописи письма Татьяны.
«Кавказский пленник». Заглавный лист первоначальной редакции поэмы. 1820.
«Моцарт и Сальери». Заметка.
«Каменный гость». Дуэль испанских грандов.
«Повести Белкина». Проект эпиграфов. Автограф. 1830.
«Гробовщик». Похоронная процессия. 1830.
«Барышня-крестьянка». Набросок начала повести.
Среди рисунков: автопортрет (второй слева) и H. Н. Гончарова (фигура в рост, со спины). 1830.
«Полтава». Автограф. Кочубей. 1828.
«Рославлев». Рисунок на полях чернового текста. 1831.
«Русалка». Мельник и дочь. Черновой автограф.
«Руслан и Людмила». 1818.
«Цыганы». 1823.
Шмуцтитул к Части 3 —«Медный Всадник». 1833.



notes
Примечания
1
Этот жанр стоит особняком в творчестве Пушкина; пушкинские сказки в равной мере следуют фольклорной традиции, поэтике авторской сказки и «несказочных» (повесть, поэма, роман) жанров – соответственно, и образы героев строятся здесь по иным законам. Подробнее см.: Ахматова А. А. О Пушкине: Статьи и заметки. Горький, 1964; Желанский А. Сказки Пушкина в народном стиле. М., 1936; Зуева Т. В. Сказки А. С. Пушкина. М., 1982; Лупанова И. П. О фольклорных истоках женских образов в «Сказках» А. С. Пушкина // Науч. доклады высш. школы: Филол. науки. 1958. № 3; Медриш Д. II. Фольклоризм Пушкина: Вопросы поэтики. Волгоград, 1987; Мурьянов М. Ф. К тексту «Сказки о рыбаке и рыбке» // Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971; Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983. Статьи С. В. Сапожкова обо всех значимых героях сказок Пушкина см.: Энциклопедия литературных героев: Русская литература XVII – первой половины XIX века. М., 1997.
2
См.: Литературная энциклопедия / Под ред. А. В. Луначарского. М., 1929. Т. 2.
3
Литературная энциклопедия / Под ред. А. В. Луначарского. М., 1929. Т. 8. Стлб. 175.
4
Там же. Стлб. 581.
5
Масловский В. И. Литературный герой // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 195.
6
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972. С. 9.
7
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 8.
8
Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л. 1979. С. 89.
9
Разумеется, сказанное ни в коей мере не означает, что литература – явление «технологическое»; что смысл ее сводится к калейдоскопической игре формальных объектов. Выстраивая текст, писатель создает целостный художественный мир; он неразрывно соединяет сферу своих жизненных идеалов с эстетической областью «незаинтересованного созерцания»; прием как таковой – лишь средство достижения каких-то иных, более важных смысловых целей. Но прежде чем говорить о целях, нужно разобраться со средствами; чтобы понять, что такое «целое героя», необходимо прежде выяснить, как строится его образ.
10
Ср.: Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 238.
11
Ср.: Зорин А. Л., Немзер А. С. Парадоксы чувствительности: H. М. Карамзин. «Бедная Лиза» // «Столетья не сотрут…»: Русские классики и их читатели. М., 1989.
12
См.: Пропп В. Я. Морфология сказки. Л., 1928.
13
Театральная энциклопедия. М., 1961. Т. 1. Стлб. 167.
14
См.: Сиповский В. Из истории русского романа и повести. Ч. 1. СПб., 1903; Сиповский В. Очерки из истории русского романа: В 2 т. СПб., 1909–1910. Естественно, сказанное относится лишь к новейшей русской литературе «петербургского» периода, адресованной образованным слоям общества. Свой «пантеон» житийно-исторических и мифологических героев имела древнерусская словесность; затем его сменила система вымышленных персонажей беллетризованной литературы XVII века, в свою очередь также распавшаяся. (Ср.: Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге Нового времени. Новосибирск, 1994.) В XIX веке, помимо элитарной литературы и фольклора, существовала литература массовая, «лубочная», действовавшая по своим законам – и разработавшая свою номенклатуру устойчивых литературных типов.
15
С лиро-эпикой дело обстояло несколько иначе; в «Елисее или Раздраженном Вакхе» В. И. Майкова, «Душеньке» И. Ф. Богдановича, «Модной жене» И. И. Дмитриева литературные типы, созданные европейской традицией, уверенно русифицировались; неподцензурные персонажи И. Баркова и «барковианы», вошедшей в рукописный сборник «Девичья Игрушка», были вполне самостоятельными – и весьма популярными. Однако основным «поставщиком» собственно русских героев оставался в эту эпоху отечественный театр – ни сюжетная проза, ни лиро-эпика конкурировать с «Недорослем» и «Бригадиром» Д. И. Фонвизина, «Ябедой» В. В. Капниста и «Розаной и Любимом» Н. П. Николева, героями трагедий А. П. Сумарокова и комедий И. А. Крылова не могли.
16
Подробнее см.: Проскурин О. А. (при участии Топтуновой А. И.). Измайлов Александр Ефимович // Русские писатели: 1800–1917. М., 1992. Т. 2. С. 405–406.
17
Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий: Л 1980. С. 113.
18
Там же.
19
Зорин А. Л., Немзер А. С. Парадоксы чувствительности… С. 15.
20
Там же. С. 18.
21
См. подробнее там же. С. 33–54.
22
См.: Петрунина H. Н. Проза 1800—1810-х гг. // История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л., 1981.
23
Русский вестник. 1811. Ч. 14. С. 49.
24
Еще в Лицее Пушкин задумывал повествование в прозе «Фатам, Или Разум человеческий», роман «Цыган»; к 1819 г. относится прозаический набросок «Наденька», представляющий собою «начало повествования о петербурской прелестнице, которое ведется от лица всеведущего автора» (Петрунина H. Н. Проза Пушкина: Пути эволюции. Л., 1987. С. 21. Ср. также: Сидяков Л. С. Начальный этап формирования пушкинской прозы: 1815–1822 // Пушкинский сборник. Рига, 1968. С. 5—23). Какие-то прозаические замыслы, судя по воспоминаниям современников, возникали у Пушкина в Кишиневе: «Дук, молдавское предание XVII века», «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года», повесть «Влюбленный бес». (См.: Богач Г. Ф. Молдавские предания, записанные Пушкиным // Пушкин: Исследования и материалы: Труды третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. М.; Л., 1953. С. 213–214; Осповат Л. С. «Влюбленный бес»: Замысел и его трансформация в творчестве Пушкина 1821–1831 гг. // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. T. XII. С. 175–199.)
25
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 118–123.
26
Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978. С. 43–44.
27
Там же. С. 45–46.
28
Вообще, на сюжетно-смысловую и персонажную связь между двумя этими произведениями редко обращают внимание.
29
Подробнее см.: Долинин А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988; Алътшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России: Исторический роман 1830-х годов. СПб., 1996. См. также многочисленные статьи Д. П. Якубовича, библиографические отсылки к которым содержатся в статьях Части 2 нашей книги.
30
Хотя косвенно связан с типом «естественного человека», романтического туземца байронической поэмы.
31
Далее по алфавиту должны следовать статьи, посвященные героям «Медного Всадника», однако поскольку «петербургская повесть» подробно разбирается в Части 3, здесь эти статьи опущены.
32
В последние годы жизни Пушкин в вопросах цензурования предпочитал Николая I его «псарю» С. Уварову. См. фактофафические выкладки в: Осповат А. Л., Гименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М., 1985 (2-е изд. – М., 1987). (Здесь и далее в названии повести сохраняется написание слова «всадник», принятое авторами цитируемых работ: с прописной, как у нас, или со строчной буквы.)
33
См. текстологическую историю «Медного Всадника»: Чудакова М. О. Рукопись и книга. М., 1986. С. 148–151; а также: Измайлов Н. В. «Медный Всадник» А. С. Пушкина: История замысла и создания, публикации и изучения [Послесловие] // Пушкин А С. Медный Всадник. Л., 1978. С. 147–265.
34
Под пафосной доминантой здесь подразумевается закрепленная за каждым лирическим жанром эмоциональная концепция бытия: восторг оды, меланхолия элегии, умиротворение идиллии.
35
См. подробнее: Худошина Э. И. К вопросу о стиховом эпосе Пушкина как целостной системе // Болдинские чтения. Горький, 1983. С. 180–188.
36
Конечно, в ней были элементы и традиционной поэмы. Но, попав в новую систему, они заряжались ее энергией и начинали играть в ней подчиненную роль. Впрочем, стоило изъять «поэмный» отрывок из контекста повести, как он тут же приобретал другую смысловую и жанровую окраску. Пушкину, решившемуся в 1834 г. опубликовать Вступление под заглавием «Петербург», пришлось «отсечь» последнее пятистишие, переключавшее «Медный Всадник» из тональности поэмы в повествовательный регистр («Была печальная пора…»), а главное – дать новое видовое обозначение: «отрывок из поэмы».
37
Гоголь Н. В. Собр. худож. произведений: В 5 т. М., 1951. Т. 2. С. 264. Эта «пародия» – косвенное подтверждение знакомства Гоголя с текстом «Медного Всадника».
38
Лотман Ю. М. Or редакции // Семиотика города и городской культуры. Петербург // Труды / по знаковым системам. Тарту, 1984. Вып. 18. С. 3.
39
Во избежание недоразумений сразу оговоримся: ниже речь будет идти не о реальном, историческом Петре I, а о герое пушкинской повести, о литературном образе.
40
См.: Пумпянский Л. В. «Медный Всадник» и поэтическая традиция XVIII в. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Л., 1939. [Вып.] 4–5. С. 91—124.
41
Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…». С. 45.
42
Цит. по: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…». С. 89.
43
Медриш Д. Я. Литература и фольклорная традиция. Саратов, 1980. С. 150–152. (Курсив мой. – А. А.).
44
Краснов Г. В. Поэма «Медный Всадник» и ее традиции в русской поэзии // Болдинские чтения. Горький, 1977. С. 98.
45
Еремин М. П. Пушкин-публицист. 2-е изд. М., 1976. С. 190.
46
Там же. С. 192.
47
См.: Тимофеев Л. И. Слово о стихе. М., 1982. С. 340.
48
См.: Вяземский П. А. Стихотворения. М.; Л., 1969. С. 279.
49
Цит. по: Пушкин А. С. Медный Всадник. С. 136–137.
50
Не поняв этого, поэт П. А Катенин раздраженно назвал пушкинскую реплику «совсем неуместной эпиграммой на доброго, ласкового старца, который во весь век ни против кого, кроме себя самого, грешен не бывал». (См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 191–192.).
51
Подробнее см.: Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина. М., 1976. С. 11—198.
52
См.: Хаев Е. С. Эпитет «медный» в поэме «Медный Всадник» // Временник Пушкинской комиссии: 1981. Л., 1985. С. 180–184.
53
Там же. С. 184.
54
Майков А. Стихотворения. М., 1980. С. 123–124.
55
Подробнее см.: Архангельский А. Н. Лирика Пушкина. Анализ текста // Литература. 1999. № 7.
56
Осповат А. Д., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…». С. 11.
57
О пушкинском «споре-соглашении» с Мицкевичем в «Медном Всаднике» см.: Эйделъман Н. Я. Пушкин: Из биографии и творчества. 1826–1837. М., 1987. С. 260–284.
58
Формула Г. П. Федотова. См.: Федотов Г. П. Певец Империи и свободы // Федотов Г. П. Новый Град. N.-Y., 1952. С. 243–268. (Впоследствии многократно переиздавалась. См., в частности: Пушкин в русской философской критике: Конец XIX – первая половина XX в. М., 1990.)
59
Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы / Изд. подготовил Л. Г. Фризман. М.,1982. С. 180 (Серия «Литературные памятники». Далее цитаты по этому изданию).
60
Об этой параллели см. подробнее: Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. Wien, 1992. (Wiener Slawistischer Almanach. Sb. 27).
61
Или к мифу о Девкалионе и Пирре из «Метаморфоз» Овидия, где потоп уничтожает всех, кроме двух невинных супругов. См.: Козлов С. Л. Из комментариев к «Медному Всаднику» // Литературный процесс и проблемы литературной культуры: Материалы для обсуждения. Таллинн. 1988. С. 3–4.
62
Хаев Е. С. Идиллические мотивы в произведениях Пушкина 1820—1830-х годов//Болдинские чтения. Горький, 1984. С. 101.
63
Лотман Ю. М. К проблеме «Данте и Пушкин» // Временник Пушкинской комиссии: 1977. Л., 1980. С. 88–90.
64
См.: Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978.