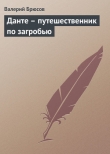Текст книги "Герои Пушкина"
Автор книги: Александр Архангельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
И тут начинается самое интересное. Вопреки замыслу автора, вопреки его идеологическому скептицизму, стиль описания выдает его имперский энтузиазм. После слов «И все напрасно!..» следует восторженная картина чудного хлада, сковавшего льды Ботнического залива:
…Как изумилися народы,
Когда хребет его льдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапною стеной
Их перед шведскими брегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами,
Орел наш грозный возлетел!
Он в нем узнал орла Полтавы!
Стих о «грозном» двуглавом орле появляется в пику Пушкину, но точки зрения пародируемого и пародирующего внезапно совпадают. И, кажется, именно это неразрешимое в пределах русской культурной мифологии противоречие между ироничным замыслом и пафосным исполнением (а не цензурные препоны и тем более не опасение обидеть «покоренные народы») побудило Баратынского отказаться от публикации Эпилога в прижизненном издании «Эды».
Однако оно же, это противоречие, и заинтересовало, видимо, адресата несостоявшейся пародии – Пушкина, пригодившись ему в пору работы над «Медным Всадником». Совершенно очевидна связь процитированной одической строфы Баратынского с восхищенным пушкинским описанием столицы «державы полумира», возникшей там,
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод…
Столь же прозрачна цитата из Эпилога поэмы Баратынского («Срок плена вечного настал, / Но слава падшему народу!..») в итоговом заклинании Вступления:
…Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра.
Несомненна и соотнесенность стиха «В гранит оделася Нева» со строкою Баратынского «Ты покорился, край гранитный…».[60] Конечно, здесь Пушкин меняет акценты: покоряемый Империей «чухонский мир» отнюдь не «гранитный» край, но «мшистый, топкий», ненадежный. Тверда и гранитна как раз имперская оправа непокоренной стихии. Однако самая интенция противоречивой поэтической мысли Баратынского подхвачена и сохранена. Именно поэтому в трагическом финале «Медного Всадника» буквально повторяется итоговый пейзаж «Эды»; сравним:
<…> мне даст могила свой приют
И на нее сугроб высокий,
Бушуя, ветры нанесут?
Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит круглая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.
И кто теперь ее отыщет,
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом все пусто, все молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.
(«Эда»)
Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
<…> Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст
<…> У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.
(«Медный всадник»)
Кажется, смысл параллели ясен.
«Медный всадник» – печальная повесть о величии зарождающейся Империи и о безысходности под держивающего ее жизнеспособность Государства. Одно без другого невозможно. Теперь, в 1833-м, Пушкин готов согласиться с Баратынским «образца 1824 года»: вторжение великой Империи в бедную финскую природу прошло для последней втуне. Как финский рыболов бросал сто лет назад в «неведомые воды» свой ветхий невод, так бросает он его и теперь. Эда умерла; счастье частного человека Евгения разрушено; страдание героев разрывает сердца поэтам; бунт бесполезен. Но и здесь Пушкин как бы ловит Баратынского на слове – великое торжество рождения Империи уже неотменимо. Творческий акт состоялся. Невозможно быть человеком русской культуры и – помня об Евгении, зная об Эде – не заражаться энергией этого творения, не вибрировать в его мощных излучения, не отзываться на его зов, не видеть следов его присутствия во всем. В облике столицы великой империи – прежде всего. Этой двойственности пушкинской позиции как нельзя точнее соответствует противоречие художественной мысли Баратынского: если Баратынский расценивал это явление как логическую помеху, то Пушкин воспринимал как диалогический парадокс имперского сознания. Подчас опасный – в политике, но неотменимый – в культуре.
Ведь полярный художественный мир повести образован взаимодействием двух героев – Всадника и Евгения. Что за жанр сопутствует второму из них? Как относится к этому (а значит, и к связанному с ним персонажу) Пушкин? Соприкасается ли этот жанр с одой, чем кончается такое соприкосновение? Как он соотносится с повествовательной манерой автора?
Доступ в теоретический «срез» ответов на эти вопросы в значительной мере облегчен всем ходом предшествующих рассуждений, но из этого не следует, что все другие «срезы» откроются сами собой.
«Блаженная Аркадия любви…»: парадоксы идиллического мира
Житейский идеал Евгения и «идиллический хронотоп». В каком бы смысле мы ни употребляли слово «идиллия» – терминологически ли строгом, бытовом ли, – все равно имеется в виду нечто умиротворенное, пребывающее в гармоничных отношениях с бытием. В «Медном Всаднике» же все – контраст, раскол, драма. Сама его сюжетная подоснова заведомо лишена гармоничности и тем более умиротворения. Беды изображенного современного Пушкину мира глубоко и прочно укоренены в истории; несчастья возникают не на пустом месте.
И однако никакого противоречия тут нет. Прислушаемся к ночным думам героя, постарается определить их «жанровую принадлежность»:
Он кое-как себе устроит
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит. <…>
И станем жить – и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят…
Что это, если не «житейская идиллия», восходящая к «праидиллии» человечества – к легенде о Филемоне и Бавкиде?[61]
«Приют» смиренный и простой – идеал европейской буколической традиции; успокоение – цель героя любой канонической идиллии; патриархально-чистое семейство – житейская опора этого покоя; циклическое, свершающееся «по кругам поколений» движение времени – одно из главных условий незыблемости пушкинского «идиллического хронотопа», точное описание которого (опираясь, видимо, на Вл. Ф. Ходасевича) дал Е. С. Хаев: «Домик на окраине города или села. Вокруг него – открытое пространство, чуждый и опасный мир, где бушует метель, или наводнение, или пожар…».[62]
Все здесь резкой чертой отделено от сурово-приподнятого одического мира, ибо два этих жанра так же противостоят в культуре, как Петр и Евгений – в повести.
Величие и – бедность; взор, устремленный вдаль, и – взгляд, направленный лишь на то, что вблизи', уверенность в мощи государственного механизма и – упование на свои малые силы; растворение человеческой личности в исторических деяниях, бытийственной сфере и – сосредоточенность на частных, бытовых проблемах… Голос автора в «идиллических» эпизодах теплеет; ледяной стиль оды, переходя в согретый любовью слог идиллии, словно тает на глазах. Разговорные формы («Ну… зачем же нет?»; «Но что ж…»; «быть может») гармонируют с неназойливой приподнятостью раздумий героя о будущей, очень далекой кончине в кругу семьи, среди внуков, символизирующих непрерывность жизни.
Быть может, выход из ситуации, создавшейся в результате эпохальных, но внеположных человеку преобразований, – в умиротворении! Быть может, жанр – «победитель» оды – идиллия? Действительно, покой, смиренность, простота – эти опоры возводимого Евгением в мечтах здания жизни, где всему отведено подобающее место, в том числе и смерти, не могут не вызвать читательской симпатии. Пушкинское сочувствие «малому» герою, которого он подчеркнуто лично именует «наш», «мой» («наш герой»; «Но бедный, бедный мой Евгений…»; «Нашли безумца моего»), тоже очевидно. Так не указывает ли поэт с помощью отголосков «нежного» лирического жанра на единственно верное, спасительное миропонимание?
На этот вопрос приходится ответить отрицательно.
Когда мы говорили об оде, то отмечали ее «выпадение» из контекста реальности. Попробуем повторить прием и сопоставим то, что видит идиллический герой, с тем, что видят сострадающий ему автор и – глазами последнего – читатель. К подобному дублированию исследовательского приема нас как бы подталкивает сам Пушкин, предваряющий ночные мечтания Евгения («О чем же думал он?») почти теми же словами, что и дневные думы Петра («И думал он…»).
Начальные строки первой части дают тревожную, восходящую к дантовской образности (как отметил Ю. М. Лотман)[63] картину «омраченного» Петербурга и Невы, мечущейся, «как больной», стиснутой краями «ограды стройной», испуганной гулом печально воющего ветра. Однако Евгений, вернувшийся из гостей, находится в «волненьи разных размышлений»: «Что был он беден»; «Что мог бы Бог ему прибавить / Ума и денег»; «И размечтался как поэт: / Жениться? Ну… зачем же нет?» – но о прибывающей реке он вспоминает лишь мимоходом, как бы между делом. И все же нельзя сказать, что взгляд «идиллика» (т. е. носителя идиллистического мироощущения) устремлен сквозь реальность в прекрасное будущее мечты: «Так он мечтал. И грустно было / Ему в ту ночь…»
Евгений, в отличие от безымянного основателя города, не ослеплен своими мыслями, просто взор его как бы затуманен «доминантным» видением, ибо нацелен этот герой – уже в отличие от автора – не на суровое, строящееся словно бы по законам классической трагедии действительное бытие, а на трогательно-семейное счастье. Он стоит к реальности гораздо ближе, чем Петр, но значительно дальше, чем поэт.
Внимательному читателю дана возможность с первой же встречи с героем предвидеть печальный итог его жизненного пути. Сам литературный контекст пушкинской эпохи подсказывает, в направлении к какому финалу будет развиваться сюжет. Дело в том, что к 1830-м годам[64] русская идиллия прошла круг своего развития от В. И. Панаева к А. А. Дельвигу. Шаг за шагом удалялась она именно от идеальности.
Не случайно и у Пушкина «Существование идиллического мира» завершено «до момента рассказа; существует отчетливая временная граница, отделяющая наше время от идиллического времени, и рассказ ведется через эту границу». «…Единственное событие, возможное в этом мире, – его гибель».[65] Как писал эстетик пушкинский поры, издатель «Телескопа» Н. И. Надеждин: «… наконец почувствовали, что жизнь человеческая не есть идиллия, что блаженная Аркадия любви… есть анахронизм в настоящем возрасте человеческой жизни».[66]
Пушкинский же герой этого не «почувствовал» или, точнее, не осознал. Тут – корень его драмы, личной и духовной; тут – главное противоречие идиллического взгляда на мир. Противоречие, не исключающее авторского сочувствия бедному чиновнику, а быть может, и усиливающее его: все хрупкое, неустойчивое, исполненное горести и мечтающее о незыблемости как раз накануне крушения не может не вызывать сострадания. И наоборот: сопереживание несчастьям Евгения не означает принятия «размышлений» героя.
В этом необходимо разобраться. Если прежде шли от жанра к образу Петра, то теперь попробуем поступить иначе – через отношение к Евгению выявим причины двойственного, «смущенного» отношения Пушкина к идиллическому началу повести.
Мира автора и мир героя: сострадающее несогласие. Прежде всего следует заметить, что Всадник лишен имени, вырван из конкретности мира и противопоставлен ей. А Евгений, что не раз подчеркивалось исследователями, принципиально лишен фамилии. Что означает эта бесфамильность? Ответ – в словах автора, предваряющих идиллические мечтания героя:
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.
Фамилия «вписывает» человека в историю его рода, а через род – в историю нации, а через нацию – в историю человечества, да и всего явного и сокрытого космоса: эта мысль была более чем значима для Пушкина 1830-х годов. Но его идиллический герой, «выпавший» из великой цепи поколений, вовсе не тужит об утрате родовых устоев, а в мечтах еще более сужает свой мир: круг семьи для него – повторимся – действительно круг, замыкающий его в одномерность «личного» существования. От мифологической высоты и духовной значимости архетипа (истории о Филемоне и Бавкиде) здесь не остается и следа: идилличность Евгения насквозь пронизана бытом, она не только не поднимает героя над ограниченностью его существования, но – напротив! – замыкает его в ней. (Е. С. Хаев чутко уловил связь мечтаний Евгения именно с мещанской идиллией – бидермайером.)
Заметим: в приведенном отрывке прозвучало имя Карамзина. А в «мечтаниях» Евгения легко обнаружить явную перекличку с идеями карамзинистской этики. Как связаны между собой два этих факта – по смежности или по противоположности? «Чтобы уяснить идеологическую родословную „бедного Евгения“, – писал М. Гордин, – достаточно сопоставить его жизненное кредо с соответствующими карамзинскими декларациями.<…>
…Приверженность „жизни сердца“, намерение искать счастья в семейном кругу, готовность собственным трудом добыть себе кусок хлеба – все это мы найдем у Карамзина, например, в его известном стихотворении „Послание к Александру Алексеевичу Плещееву“…».[67]
Действительно, почти полное совпадение. За исключением одной, решающий детали.
Карамзинский идеал «тихой», уединенной, идиллической жизни обретает полноту смысла лишь в соединении с карамзинским всемирно-историческим кругозором, заботой о судьбах человечества, составленного из личностей, «человеков». Если мы возьмем историю абстрактно, вне этой укорененности ее в бытии индивида, она грозит превратиться в беспощадную и внечеловеческую силу. Если же вырвем свое сознание из контекста родовых связей, то неизбежно затеряемся в анналах той самой истории, реальность и значимость которой не хотим признавать. А искусство, поставившее себя на службу абстрактно-общему, рискует свестись к восторженному одописанию, точно так же, как культура, погрузившаяся безвозвратно в сферу сугубо личных интересов, неизбежно будет обречена на идиллическое неведение о вечности.
Сознание, лишенное онтологической опоры, оказывается неустойчивым; оно рушится при первом же столкновении с несчастьем, с трагическим испытанием. Доказательством того, что Пушкин считал именно так, служит не только судьба его Евгения, но и раздумья поэта о жизненном пути А. Н. Радищева, чье имя уже возникало в нашем сюжете в связи с образом Петра. И если тогда была приведена параллель из пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург», то применительно к образу Евгения вполне логично будет вспомнить оценку Радищева, данную Пушкиным в статье «Александр Радищев» (1836): «… преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия…».
Мотивы «Медного Всадника» вновь легко узнаются, и эта перекличка заслуживает особого размышления: если судьба Радищева и судьба Евгения «поданы» в одном оценочном ключе, то не значит ли это, что отношение у Пушкина к реальной исторической личности великого российского писателя и вымышленной личности «бедного» героя в чем-то существенном совпадает?
В этой статье Пушкин (задолго до официального переиздания в России полного текста радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву») пытается осмыслить противоречия духовного пути Радищева, в котором видит образ человека драматической послепетровской эпохи, когда преобразования, резко внесенные ею в ход отечественной истории, начали давать печальные плоды разочарованности, неуверенности в человеческих силах, в возможности осуществить себя на государственном поприще, разрыва с родовой дворянской традицией. Протест Радищева, столь похожий на безнадежное «Ужо тебе!..» Евгения, обречен заранее.
Судьба Радищева для Пушкина – символ судьбы обедневшего дворянства, к которому принадлежал и бедный Евгений. И лишь потому мы вправе – не сопоставлять, нет, – но гипотетически соотносить образ реальной исторической личности с образом вымышленного героя. В статье «Александр Радищев» прямо названы те причины, о которых поэт обещал «потолковать» в «Путешествии из Москвы в Петербург».
Выпадение человека из «контекста» исторических процессов находится в непрямой, опосредованной, но – неумолимой связи с его бытийственной неустойчивостью. Именно поэтому в «Медном Всаднике» показано, что идиллия, замкнутая на себя, подвержена не только внешнему, но и (что страшнее) внутреннему разрушению, совершающемуся в сознании героя.
Чему быть, того не миновать («быть так» – пушкинское выражение). Евгений не в силах защититься от стихии наводнения. Он – жертва истории; рассказ о нем ведется в страдательном залоге. Но здесь отсутствует и восхищение величием «ничтожного героя». Перед нами – человеческая беда, бросать упреки в адрес которой грешно, а преклоняться – нет оснований. Отсюда – раздвоение интонации автора, его постоянное стремление приблизиться к страдающему Евгению («мой», «наш») и – оттолкнуться от бедного чиновника. Говоря словами из «Евгения Онегина», «Всегда я рад заметить разность…».
Евгений в кругу пушкинских персонажей. Чтобы эти рассуждения не показались отвлеченными, приведем несколько примеров для сравнения.
Об идиллических думах Евгения сказано: «И размечтался, как поэт». Порой здесь не слышат иронии: «Евгению Пушкин отдал свои интимные философские переживания. Именно в ночных думах героя развивается тема дома, семьи, патриархальной смерти – тема чрезвычайно важная для лирики Пушкина 1830-х годов».[68] Тема действительно важная, но только карамзинистскую бытовую программу, очерченную здесь, Пушкин преломляет для себя несколько иначе, нежели для своего героя. В 1836 г., словно «переводя» в стиховой ряд цитату из «Писем русского путешественника»: «… скажите, что у вас в виду?» – «Тихая жизнь, – отвечал я. – Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с натурою и с добрыми, любить изящное и наслаждаться им»,[69]– Пушкин превращает пассивно-созерцательное существование, о котором мечтал Путешественник, в акт свободного выбора человека:
<…> Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
– Вот счастье! – вот права…
Он не просто сентиментально и идиллически умиротворенно живет «в мире с натурою» и наслаждается изящным. Красоты природы недаром названы «божественными»; поэт дивится величию всего творения; в этот миг удаления от мира он соприкасается с мирозданием. (Евгений мечтал о противоположном.)
Но еще больше способна открыть нам возможная цитата в строке «Трепеща радостно в восторгах умиленья» – из книги итальянского поэта и публициста первой трети XIX в. Сильвио Пеллико «Мои темницы»: «Я пошел за ним в присутственные места, трепеща от радости умиленья».[70] Самая судьба Пеллико, претерпевшего до конца муки смертного приговора, замененного потом многолетним тюремным заключением, и вместо «жалоб, напитанных горечью» (как выразился Пушкин в рецензии «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико»), создавшего «умилительные размышления», бросает трагически-величественный отсвет на пушкинскую жажду восторгов умиленья. Это вовсе не идиллическое умиленье Евгения предстоящей женитьбой, а умиленное состояние «верного» сердца, готового к испытаниям на «верность».
Точно так же идиллическая мечта поэта: «… Замыслил я побег / В обитель дальную трудов и чистых нег» – в стихотворении «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» рождается не из ощущения устойчивости и упорядоченности мира (как у Евгения, уповающего на свои молодые силы и обижающегося на Бога лишь за недостаток «ума и денег»), а из ясного понимания невозможности счастья «на свете» и ощущения конечности жизни: «Предполагаем жить, и глядь – как раз умрем». Этому конечному миру, теряющему частичку за частичкой свое бытие, противопоставлена именно обитель (а не семейный рай!). «Монастырская» метафора при всей ее условности связана прежде всего с порывом в область вечного, незыблемого; поэт в этом контексте уповает, разумеется, не на физические, а на духовные «труды», в чем-то подобные восторгам умиленья стихотворения «<Из Пиндемонти>».
Более того, герой «Странника», одного из лучших произведений Пушкина 1830-х годов, изначально обладает всем, о чем «как поэт» размечтался Евгений: у него и дом, и жена, и дети. Нет лишь ощущения полноты и осмысленности бытия. И вот он прозревает, что идиллический мир его города, «блаженная Аркадия любви», «пламени и ветрам обречен», ибо, напомним мысль Е. С. Хаева, единственное событие, возможное в мире идиллии, – это его гибель. И вот, когда Странник бродит, «унынием изнывая», испытывая состояние, описанное словами, точь-в-точь повторяющими образную структуру стихотворения «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…»:
Как узник, из тюрьмы замысливший побег, <…>
Духовный труженик – влача свою веригу, <…>
– кто пытается помешать ему найти «спасенья верный путь и тесные врата»? Именно те, на ком «держится» мещанская идиллия Евгения, – «и дети и жена», т. е. домашние его, которые и впрямь в этом примере оказываются врагами человеку.
Можно было бы привести и другие «антипараллели», например, показать, о чем действительно может «размечтаться поэт»,[71] оставшись наедине с собой, и вспомнить концовку «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы», но, думается, и без этого ясно: «идиллический хронотоп» Евгения следует соотносить не с трагическим миром позднего Пушкина, для которого на свете счастья нет, но есть покой и воля и у которого (если воспользоваться формулировкой, предложенной по другому поводу С. С. Аверинцевым) через духовные испытания и даже смерть «дается образ некоей строгой гармонии, которая несовместима со счастьем, но глубже счастья и, может быть, дороже счастья».[72] Тут необходимо другое сопоставление – с житейскими идеалами и судьбами некоторых пушкинских героев 1830-х годов, особенно Самсона Вырина из «Повестей Белкина».
Прежде всего, быт смотрителя беден, подобно быту Евгения: «бедный смотритель», «бедняк занемог», «но утешил бедного больного»… В жизни Вырина, как и Евгения, происходит крушение всех надежд; тихое течение ее нарушается внезапно, после чего герой спивается (что в своем роде мало отличается от безумия).
Места упокоения обоих «бедных» героев поразительно похожи. В «Станционном смотрителе»: «Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видел я такого печального кладбища». В «Медном Всаднике»: «Пустынный остров. Не взросло / Там ни былинки».
Чем же объяснить близость героев? В чем коренится печальная общность их судеб? Очевидно, единственно в том, что они смотрят на мир сквозь призму «бытовой идиллии», бидермайера. Смотритель, как было уже сказано в статье, посвященной его образу (см. Часть 2), способен воспринимать и понимать только то, что вписывается в канву обытовленного, низведенного до уровня «немецкой» же мещанской идиллии сюжета о блудном сыне. Развешанные по стенам картинки, под каждой из которых повествователь прочел «приличные немецкие стихи», персонифицирует внутренний мир героя. Колпак и шлафрок, рубище в сочетании с треугольной шляпой, трагикомически доставшиеся в этих картинках библейским персонажам, один из которых к тому же вынужден делить «трапезу» со свиньями; заведомая клишированность морально-оценочных эпитетов: «почтенный старик», «беспокойный юноша», «ложные друзья», «бесстыдные женщины», «добрый старик»; даже какофоническое столкновение высокого и низкого «штилей» в словосочетании «упитанный телец»[73] – все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Ведь необъяснимое, какое-то глуповатое обаяние, которое исходит от этих картинок, страшным образом связано с дальнейшей судьбой Вырина.[74]
Справедливо ли будет сказать, что сочувствие «бедному» Евгению, которое, разумеется, вовсе не снимается недоверчивым отношением автора к идиллическим мечтаниям героя, столь же необъяснимо и прорывается сквозь налет иронии словно бы случайно? Нет, разумеется. Ибо Евгений, в отличие от Самсона Вырина, ощущает (пусть не сразу) зыбкость возводимого в мечтах здания своей жизни, отсутствие в начертанной им житейской идиллии духовного фундамента, а потому и внутреннюю непрочность этого идеального строения. Он не знает, не понимает (Бог не дал ему большого ума – это в повести отмечено), что «единственное событие, возможное в мире идиллии, – это его гибель», но необъяснимая тоска пронизывает его сразу по завершении мечтаний:
Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито…
Эта возникшая как бы вопреки всякой логике неудовлетворенность собственным жизненным идеалом и выделяет Евгения из среды подобных ему людей, привлекает к нему автора и вызывает симпатию читателя. Быть может, главное свойство бедного чиновника, делающее его не просто персонажем, а героем, – это некая двойственность его положения. С одной стороны, ходом исторического процесса он загнан в круг бидермайера, с другой – чистая и добрая душа его сохраняет жажду чего-то большего, нежели бытовое счастье.
Более того, в повести есть эпизод, в котором образ Евгения приближается к некоему героическому состоянию, а сама повесть готова перерасти в поэму. Это сцена «на площади Петровой», где мы видим Евгения (впервые сочувственно и любовно названного бедным) «на звере мраморном верхом». Он «Без шляпы, руки сжав крестом, / Сидел недвижный, страшно бледный…». В миг крушения бидермайера мы убеждаемся, что в глубоко неистинную «жанровую форму» безумец бедный облек очень истинное, чистое и в этой чистоте величественное чувство любви, делающей человека способным превозмочь страх собственной смерти:
…Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слыхал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
<…>
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были.
Как во Вступлении жесткая ограниченность одического начала была побеждена любовью поэта, так в этой сцене любовью героя может быть преодолена узость, неукорененность в бытийственной сфере кругозора мещанской идиллии. Хватило же сил на это другому пушкинскому герою – Петруше Гриневу («Капитанская дочка»). Когда смерч истории поднял его из безопасной окраинной жизни и бросил в самый центр российской трагедии, именно любовь и честь помогли ему противостать разрушительному столкновению социальных стихий и не погибнуть. Многократно рискующий жизнью ради любви, постоянно поступающий вопреки «нормальной» логике, но согласно логике иной, духовной, он едва ли не единственный герой повести, который может гибели не страшиться, ибо он смерти не подвластен.[75] Похоже, Евгению автор предоставляет ту же возможность.
Но проследим за направлением взгляда героя. Вот он видит волны, которые, «словно горы», встают «из возмущенной глубины», «обломки»… Наконец, разрушенный до основания «идиллический хронотоп»:
…Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: <…>
Остановим цитату на этом двоеточии – после него должен последовать «вывод» героя, обобщение страшной ситуации:
…Там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта…
Что-то внезапно изменилось в направлении мыслей героя сразу после того, как взгляд его коснулся контуров возведенного накануне им же самим «идиллического мира», ныне уничтоженного стихией. Вместо высокой и трагически-самоотверженной любви, заставляющей забыть о себе, – невольная догадка о том, что с гибелью его Параши рушится его мечта. И, как то уже было в «Моцарте и Сальери», герой, переживший крах личной судьбы, видит в нем проявление некой вселенской дисгармонии («Но правды нет – и выше»), рокового закона:
<…> иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?
Задолго до того, как будет брошен трагически-жалкий вызов кумиру: «Ужо тебе!..», – создатель мещанской идиллии бросает косвенный упрек Тому, Кто «попустительствовал» ее разрушению, – Творцу. Причем, если справедлива догадка А. Е. Тархова о содержательной связи (для Пушкина) образов Евгения и ветхозаветного Иова,[76] то в «петербургской повести» следует видеть «зеркальное», перевернутое отображение библейской ситуации. «Книга Иова», пишет в примечаниях к ее переводу С. С. Аверинцев, «кончается так, как она началась – идиллией (курсив мой. – А. А.)».[77] Но первая реакция Иова («в отличие» от Евгения) на разрушение его «идиллии» такова:
наг вышел я из родимых недр
и наг возвращусь назад.
Господь дал, Господь взял —
благословенно имя Господне!
[78]
И лишь когда Иов лишается всего, кроме бедственной честности, он решается на «богоборчество», благодатное в своей силе и непредвзятости. Ибо если до сих пор он был праведником отчасти и потому, что «Господь любит праведники» и воздает им земными благами, то теперь ему предстоит «возлюбить» Бога за то, что Тот велик.
Идиллическое умиротворение и стихийное разрушение: трагическая неразделимость. Впрочем, автор «дарит» Евгению еще одну возможность: спасения через жертвенную любовь. Во второй части, когда «наглым буйством угомясь, / Нева обратно повлеклась», несчастный Евгений, опять забыв о себе, «Спешит, душою замирая, / В надежде, страхе и тоске» к челну, чтобы с риском для жизни перебраться на другой берег[79] – «в места знакомые». Увы! Именно мощный властелин судьбы, пытавшийся покорить стихию с помощью «одически высоких» помыслов, заложил «основу» для драмы Евгения. Наяву встретившись с разрушенным «хронотопом», Евгений
Глядит… идет… еще глядит.
Вот место, где их дом стоит,
Вот ива. Были здесь вороты,
Снесло их, видно. Где же дом?
и сходит с ума. Мысли его проясняются лишь однажды – не для того, чтобы он вспомнил о погибшей любви, о Параше… Идиллия, мстящая за себя, далека от света. Да и месть ее до боли наивна: «Ужо тебе!..»
Ответом гневу идиллии служит гнев оды – гораздо более мощный, активный, бесчеловечный: «…грозного царя, / Мгновенно гневом возгоря, / Лицо тихонько обращалось…»