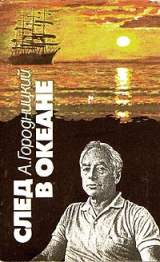
Текст книги "След в океане"
Автор книги: Александр Городницкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
Но не дрогнул Глеб – дрыгнул ноженькой,
Он сказал им пару слов тихим голосом.
Тут и сгинул враз окаянный Дар,
А с ним и дадарчата в тартарары…
Примерно через год после этого был придуман и записан на магнитофон второй радиоспектакль, на этот раз уже фантастического содержания, созданный примерно тем же авторским коллективом. Тогда как раз начались полеты в космос, и действие разыгрывалось с того, что тогдашний глава ленинградской писательской организации поэт Александр Прокофьев, которому в недалеком будущем суждено было сыграть палаческую роль в деле Бродского, был отправлен в космос «вместо слонят Рами и Шаши, которых к полету не допустили, поскольку их предки долгие годы жили в Индии», на новом спутнике рекордного веса. В связи с его отсутствием, в Ленинграде возникла Республика поэтов (сокращенно РЕПО). Власть в республике взял в свои руки Комитет общественного спасения «в составе – Городницкий, Хемингуэй, Битов, Тарутин». Далее шел текст конституции РЕПО:
Пункт 1. О правах и обязанностях граждан. Гражданином РЕПО является каждый, именующий себя поэтом.
Пункт 2. Об охране прав граждан Республики. Гражданин Республики обязан плюнуть в морду всякому, не признающему его поэтом, ибо этим ущемляются его гражданские права…
Гербом Республики был утвержден ошейник собаки Кушнера.
В качестве государственного гимна утверждалась песня Горбовского «Когда качаются фонарики ночные». Ее первая музыкальная строка стала позывными Республиканского радио.
Довольно скоро, однако, в Республике возник правительственный кризис, причиной которого послужило то, что один из сограждан не признал другого поэтом, а этот другой – не плюнул ему в морду, чем грубо нарушил конституцию.
Правительство пало, и президентом был избран Кушнер, стихи которого тут же вошли в обязательные школьные программы. Группа первоклассников маршировала по улице, распевая хором песню на его стихи:
Прошла зима ненастная,
Растаяла как дым,
Бегут трамваи красные
По рельсам голубым.
«Раз, два, три», – раздавался после песни громкий шепот воспитательницы, и дети хором кричали: «Спасибо товарищу Кушнеру за наше счастливое детство!»
Кушнера, однако, тоже вскоре свергли, так как выяснилось, что он в силу своей неисправимой интеллигентности не в состоянии отличить кошку от кота. Поводом послужили его собственные стихи:
Я встретил дворника. Он мне принес кота
И получил награду за услугу.
Он мне сказал, что с кошками – беда.
Но это – кот, дарю тебе как другу.
«Бери кота, – сказал он, – береги».
Принес в четверг, а кот рожал во вторник.
И мы ведь были даже не враги —
За что меня так презираешь, дворник?
После Кушнера началось смутное время. То власть захватывал «ефрейтор Артамонов» (молодой поэт, служивший тогда в Ленинграде, эмигрировавший позднее во Францию), который «в целях сохранения военной тайны ввел в армии гражданскую форму одежды», то крайний реакционер и религиозный фанатик Владимир Британишский, отменивший все свободы и изгнавший из страны евреев. При нем стала выходить газета «Клерикальные новости». Однако, в самый разгар своего правления, он неожиданно отказался от власти и удалился «в пустыню, где был снова подобран сердобольными евреями». Было, конечно, и женское правление в лице Нины Королевой.
На фоне смены власти в республике плелись всяческого рода политические интриги. Просуществовала, однако, республика недолго. Прокофьев вернулся, и в Ленинграде началась черная реакция.
На площади Тургенева сжигали произведения Агеева.
На площади Льва Толстого – произведения Кушнера.
Особенно ярко горела проза Битова.
Городницкий – чадил…
Оставшиеся в живых поэты спешно погрузились в ресторан-поплавок на Неве и обрубили концы. Их понесло в открытое море…
Далее описывались злоключения поэтов в изгнании и борьба между ними:
«Городницкий влез на дерево и закричал: «Предлагаю избрать меня комсоргом! Кто за? – Единогласно».
Тут же развернулась борьба за власть между Городницким и Штейнбергом. Сторонники Городницкого ходили, распевая «аитиштейнберговскую» песню: на мотив известном к тому времени песни «Снова солнце встает с утра»:
Завтра солнце взойдет с утра
В коммунизм собираться пора.
Началася другая жизнь—
Штеенберг не пройдет в коммунизм.
Штеенберг не пройдет в коммунизм —
Будим мы городить городнизм.
Завтра солнце взойдет с утра —
В коммунизм собираться пора.
Что касается Глеба Семенова, то он удалился от всех мирских дел в уединенное место Комарово. Над его рабочим пнем висела надпись «А почему бы и нет?»
Среди героев радиоспектакля был, конечно, и Яков Виньковецкий, у которого в ту пору болели зубы, и поэтому он проходил как «бандит и налетчик Яшка-Флюс, отрабатывающий произношение слов «деньги – на бочку»…
Прошло более тридцати лет со времени этих дурацких «радиоспектаклей». Ушел из жизни Яков Виньковецкий. Разошлись судьбы других героев и авторов этого старого капустника. Осталась только память о собственной молодости и казавшейся тогда вечной дружбе. До сих пор где-то в доме у Саши Штейнберга хранится старая затертая магнитофонная бобина с записью этого незатейливого «радиоспектакля». Вот уже много раз он все пытается ее найти, но не находит. А жаль. Ведь, как правильно написал когда-то Александр Кушнер:
Будущее – за магнитофоном.
Мы умрем, но наши голоса
Снова под глазком его зеленым
Оживут хотя б на полчаса…
Уже после окончания Горного, ЛИТО клуба Первой пятилетки и наша компания дополнились молодыми поэтами – Яковом Гординым, Татьяной Галушко и Виктором Соснорой, поразившим всех удивительными стихами, и, прежде всего, своей поэмой «Слово о полку Игореве». Все они стали профессиональными литераторами. Трагически сложилась судьба талантливой Татьяны Галушко, умершей в самом расцвете творческих сил от рака, в 1988 году. Последние годы она работала в Пушкинском музее и музее Некрасова. Темпераментная, нетерпимая ко всяческой фальши, с пышными черными волосами и низким сильным голосом, она всегда поражала своей энергией и жизнерадостностью. Когда читаешь ее последние стихи, становится горько от несправедливости судьбы, отнявшей у нее возможность жить и писать. Примерно за год до смерти, уже зная безысходность своего диагноза, она написала в поэме «За все заплачено – не забудь»:
Теперь, когда смертный объявлен час,
Меня не догнать никому из вас,
Начальники жизни, политруки,—
Теперь это даже вам не с руки.
Мое последнее свидание с ней оказалось нечаянным. Когда она умерла, я был в Таллине и поэтому не знал о ее смерти. В один из первых дней дождливого октября, оказавшись проездом на одни сутки в Ленинграде, откуда улетал вечером на юг, я отправился в Пушкин, на Казанское кладбище, навестить могилу родителей. Уже смеркалось, когда я вышел к безлюдному входу, вблизи которого стоит полуразрушенная старая часовня, построенная еще Кваренги, и заросшая травой и кустарником. Неожиданно я заметил погребальный автобус у ворот и небольшую группу людей, прячущихся под зонтиками от дождя. Среди них я узнал Соснору, Кушнера и Майю Борисову. «Как хорошо, что ты приехал», – сказала Майя. Я, потрясенный случившимся, не стал ничего объяснять, но благодарен судьбе, которая вывела меня к кладбищенским воротам точно в назначенное время.
Татьяну похоронили недалеко от входа, справа, среди старых надгробий девятнадцатого века с серыми массивными гранитными крестами и золочеными «ятями» на полустертых надписях, занесенных в осеннюю пору опавшей листвой. Теперь, бывая там, я захожу положить цветы на могилу и вспоминаю ее стихи:
Утешает в тоске об исходе
С облетающим лесом родство:
Пусть уйду, когда в щедрой природе
Гибель выглядит как торжество.
Не во мрак, а в листву, что алея,
Осыпается с крон и крылец,
Перельюсь я, дитя Водолея,
Словно дождь, мой холодный близнец…
Виктор Соснора в пятидесятые годы служил в армии, недолго работал токарем. Помню пародию, написанную на ставшие уже знаменитыми его строчки из «Слова…» Нонной Слепаковой:
И сказал Кончаку Гза —
Ты смотри как идет фреза!
Мм понизим токаренку разряд —
Не платить же ему деньги зазря!
Стихи молодого Сосноры выделял из других и высоко ценил Николай Асеев, ходивший в то время в классиках. Несмотря на широкую известность Виктора как поэта, а в последние годы и как прозаика, большая часть из написанного им до сих пор остается ненапечатанной. Неслучайно поэтому он написал в коротком предисловии к своим стихам в сборнике «То время – эти голоса»: «Блистательное поколение шестидесятых годов разбилось о стену. Его уже нет. У стены каждый становится сам собой. Я автор тридцати одной книги стихотворений, восьми книг прозы, четырех романов (пятый в работе) и шести пьес – и все это не опубликовано. О том, что дождичек не тот и у нас на дворе четверг, пусть говорят прорабы духа, мне не до разговоров, я рабочий, я работаю»…
Яков Гордин, начинавший когда-то как поэт и работавший в те годы техником в геолого-разведочных экспедициях в Якутии, стал известным писателем и исследователем-историком, работы которого, посвященные Пушкину, декабристам, первой половине прошлого века, вызывают не только литературный, но и серьезный научный интерес, прежде всего оригинальными концепциями автора.
В пятьдесят четвертом году, на вечере поэзии в Политехническом, я впервые познакомился с молодым поэтом Борисом Голлером, привлекшим меня вдохновенно-темпераментным исполнением своей поэмы «Красная капелла», посвященной одному из героев антифашистского движения Харро Шульце Фон-Бойзену. Он (автор, конечно) женился на «горнячке» Лине Гольдман и тоже на какое-то время примкнул к нашей компании. Надо сказать, что со стихами он довольно скоро «завязал» и начал писать пьесы, которые, к великому сожалению, много лет никто не ставил. Одна из первых его пьес «Десять минут или вся жизнь», была посвящена трагической судьбе американского пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Мне эта пьеса страшно нравилась, особенно в его собственном темпераментном чтении. До сих пор я уверен, что Борис Голлер, имя которого много лет практически замалчивалось, – один из интереснейших наших драматургов. И это несмотря на то, что две или три его пьесы, поставленные в ленинградском ТЮЗе Зиновием Карагоцким, «Матросы без моря» и «Вокруг площади» – особого успеха не имели. Надо сказать, что мнение мое не изменилось и в последние годы, когда Голлера долго не хотели принимать в Ленинграде в Союз писателей, и укрепилось после того, как я совсем недавно прочитал его большую драму о Грибоедове.
Одной из многообещающих поэтесс в ЛИТО Горного института была во второй половине пятидесятых годов Лена Кумпан, ходившая тогда в неизменной финской шапочке, писавшая прекрасные лирические стихи и даже успевшая опубликовать одну книжку стихов «Горсти». Жила она вместе с сестрами-близняшками Ксаной и Верой и матерью в большой коммунальной квартире на 18 линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами. В этой квартире мы тоже частенько собирались, особенно после занятий ЛИТО – благо, недалеко от Горного. Именно к этим сборищам в то время и относились ее шуточные строчки «По копейке собирали – покупали «Саперави». Окончив Горный институт, Лена какое-то время работала в институте ГИПРОНИКЕЛЬ, однако геология ее не интересовала, и она пошла работать экскурсоводом по Ленинграду. Потом она вышла замуж за Глеба Сергеевича Семенова и вошла в круг старой ленинградской интеллигенции, центром которой были Лидия Яковлевна Гинзбург и Тамара Юрьевна Хмельницкая. Близки к этому кругу были также Виктор Андроникович Мануйлов, Дмитрий Евгеньевич Максимов и Ефим Григорьевич Эткинд. Стихи, однако, Лена перестала писать раз и навсегда, о чем можно только сожалеть.
Что касается «женской поэзии» глебовского ЛИТО, то в Горном в ней ведущее место занимали Нина Королева и уже упомянутая Лидия Гладкая, а в ДК «Первой пятилетки» я впервые услышал стихи молодой поэтессы Нонны Слепаковой, вышедшей позднее замуж за Льва Мочалова и занимающей поныне заметное место в ленинградской поэзии. Одно время, в конце пятидесятых-начале шестидесятых, она начала писать песни и довольно успешно выступала с ними в ленинградском доме писателей, аккомпанируя себе на гитаре. Песни эти отличались точностью образной поэтической строки, глубоким лиризмом. Помню такую ее песенку:
Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице темно, темно,
Свист милиции ночной, ночной,
Долетает к нам в окно, в окно.
Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице светло, светло,
А на улице пустой, пустой,
Дворник шаркает метлой, метлой.
А на улице пустой, пустой,
Час, наверное, шестой, шестой.
Как ты думаешь, любимый мой,
Не пора ли мне домой, домой?
Где-то в начале шестидесятых мы с Нонной решили «создать» нового поэта на манер Черубины Де Габриак. Выбор пал на одну из ее подруг, очень красивую жгучую брюнетку Галю, учившуюся в ленинградской консерватории по классу пения. За два-три присеста мы с Нонной настряпали около десятка «ультралирических» стихов со строчками вроде: «Сколько в верности предательства, а в измене чистоты» и отправили Галю на занятие в Дом Первой Пятилетки к Семенову. Эффект, который она произвела на первом же занятии своей внешностью и стихами, особенно на мужскую часть объединения и прежде всего на самого Глеба Сергеевича, был потрясающим. Мужчины наперебой прочили ей большое поэтическое будущее. Подборку стихов немедленно затребовал ленинградский молодежный журнал. К сожалению, артистических возможностей Гали хватило ненадолго, и она довольно быстро «раскололась», положив конец столь удачно начатой мистификации.
Позднее Нонна Слепакова написала песни к спектаклю по Киплингу «Кошка, которая гуляет сама по себе», однако «своих» песен больше не пела. Интересно, что именно на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, как раз в то время, когда в Москве появились песни Окуджавы и Новеллы Матвеевой, ленинградские поэты тоже активно начали писать песни, хотя и недолго. Кроме песен Глеба Горбовского и Нонны Слепаковой широкой популярностью пользовались шуточные песенки Виктора Сосноры (их называли «фишки»). Неоднократно, собираясь в разного рода поэтических застольях, мы дружно распевали лихую песню Виктора:
Летел Литейный в сторону вокзала.
Я шел без денег и без башмаков,
И мне моя любимая сказала,
Что я окончусь между кабаков.
Пошел я круто – пока, пока,
Прямым маршрутом по кабакам.
Сижу и пиво желтое солю.
Официант, полбанки – и салют!
Даже рафинированный прозаик Сергей Вольф, ценивший только Кафку и Джойса, и тот придумал песенку: «Ракетная игрушка взлетает в небеса, нам жить с тобой, подружка, осталось полчаса». Пытался придумывать песни и Леонид Агеев, но у него они почему-то не получались. Сочиняла песенки и жена серьезного прозаика Володи Марамзина, и брат Ефима Григорьевича Эткинда Марк, написавший в шестидесятые годы, в частности, на мотив «Кирпичиков» песенку об израильско-египетском конфликте «На Синайском том полуострове, где лежит государство Израиль, положение очень острое, потому что воинственный край».
Широкой популярностью в поэтических компаниях пользовалась в то время «блатная» песня «Стою себе на Невском – держусь я за карман», написанная, как оказалось позже, никакими не блатарями, а ссыльным интеллигентом Ахиллом Левитоном.
Что касается вообще песен, то они в основном связаны в моей памяти в пятидесятые и начале шестидесятых годов с домом Руфи Александровны и Ильи Захаровича Серманов, живших в те годы в районе Автово, а позднее эмигрировавших в Израиль. Илья Захарович тогда преподавал литературу и защитил докторскую по русской поэзии XVIII века. Руфь Александровна была испанистом-переводчиком и писала рассказы под псевдонимом Зернова. Она успела в свое время принять участие в гражданской войне в Испании, в 1935–1936 годах, получить там орден и потом отсидеть на Колыме. Сама Руня, как ее звали друзья, и ее дочь Ниночка,
бывшая в те годы моим первым аккомпаниатором, прекрасно играли на гитаре и пели. Именно в этом доме, где часто собирались ленинградские переводчики и писатели, я впервые услышал в исполнении Руни множество лагерных песен, вывезенных ею с Колымы. В их числе такие, например, как «Голубые снега», «Черные сухари», «По тундре, но широкой дороге» и многие другие. Песни эти потом я многократно слышал в тайге и тундре, и Туруханском крае и на Кольском, с разными текстовыми и интонационными вариантами в исполнении бывших, и настоящих зеков. Но, пожалуй, именно Рунино исполнение до сих пор представляется мне наиболее точным.
Через Серманов мне довелось познакомиться в те годы со многими интересными людьми – от легендарного испанского тореро Мигеля Домингина до писателей и переводчиков Овадия Герцевича Савича, Фриды Абрамовны Вигдоровой и ее мужа Александра Борисовича Раскина, Норы Яковлевны Галь, только что переведшей любимого мною Экзюпери, и, наконец, безвременно умершей Натальи Григорьевны Долининой, замечательного педагога и литератора. Похоронена она на кладбище в Комарово, неподалеку от могилы А. А. Ахматовой, рядом с могилой ее отца – известного филолога Г. Гуковского, профессора МГУ.
Сейчас я думаю, почему именно «блатные» песни, еще до появления стилизованных песен Высоцкого (написавшего их тоже, кстати, в духе времени) и «лагерных» песен Галича, пользовались таким успехом в компаниях интеллигенции?
Возможно, дело прежде всего в том, что страшная жизнь сталинских лагерей, откуда многие из них возвратились после хрущевской оттепели, подсознательное ощущение преступности всей авторитарной государственной системы, внутри которой существовали мы все, сближало нас с героями этих песен, тем более, что в отличие от одесского «ядовского фольклора» начала двадцатых годов, речь в этих песнях шла, как правило, не об убийцах и налетчиках, а о заключенных. «Интеллигенция поет блатные песни», – метко подметил один из поэтов в то время.
Именно эти песни в те переломные годы в московских и ленинградских застольях были естественным продолжением «крамольных» разговоров и предтечами песен Галича, Высоцкого и Кима. Сейчас большинство этих песен забыто и, видимо, незаслуженно, поскольку они создавали точную доверительную обстановку общения. И еще одно. Примерно с середины пятидесятых и далее, к шестидесятым, пение песен стало понемногу вытеснять чтение стихов, даже в поэтических компаниях. Так незаметно наступила пора «поющих шестидесятых».
Что же касается нас, тогдашних выпускников Горного института, то главным, навсегда объединившим нас, было то, что все мы с незначительной разницей в возрасте – от самых старших вроде меня и Британишского, до самых молодых – Битова или Кумпан, принадлежали к поколению недолгой хрущевской оттепели. Наше политическое и литературное самосознание стремительно совершенствовалось – начав еще в школе с соцреализма и «Краткого курса», оно менялось по мере открытия Хемингуэя и Ремарка, Цветаевой и Мандельштама, первых документов о масштабах сталинских репрессий и песен заключенных.
Конечно, многого мы еще не знали, были незрелы и невежественны. Казалось, стоит только очистить социализм от сталинского культа – и все опять будет хорошо. Неслучайно именно в эти годы в Москве и в Ленинграде возникла подпольная организация «Марксистов-ленинцев». Кроме того, исторический перелом, наступивший с XX съездом, как бы символизировал тогда движение вперед и осуществление юношеских наших надежд, связанных с реализацией «чистых» революционных идей. Почти никто из нас не подозревал тогда о масштабах бедствия, о тлетворности самой системы, породившей чудовищный феномен Сталина.
Кроме того, что немаловажно, мы были молоды, полны неизрасходованной энергии, чувствовали себя нераздельной частью великого народа, победившего недавно фашизм в грозной войне, зацепившей наше детство. В нас еще устойчивы были иллюзии всеобщего братства и общности советских людей, не было еще армяно-азербайджанской резни на Кавказе, погромов в Оше, войны в Абхазии.
Смотря хлынувшие к нам через «железный занавес» западные фильмы, от Ди Сантиса до Феллини, сравнивая себя с героями Хемингуэя и Ремарка, мы не считали тогда свое поколение потерянным, ибо еще верили в «комиссаров в пыльных шлемах». И были полны оптимизма.
Общение наше с Москвой в те годы было случайным и эпизодическим. Центром нашего мира неизменно был Питер. Поэтому мы не считали его «великим городом с областной судьбой». Напротив, он был нашей единственной столицей и началом отсчета в литературе, истории и жизни. И это несмотря на то, что именно Ленинград после разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград», Ахматовой и Зощенко, в период литературного правления Прокофьева и ему подобных, стал оплотом самой черной реакции в литературе. И все-таки именно тогда мы начали обретать собственный голос.
Именно в это время начали вызревать в наших незрелых душах слабые ростки миропонимания, давшие всходы позднее. Замечательно, что ни позже, ни в наши дни почти никто из питомцев «семеновского полка» и, в первую очередь, из «горняков» не стал приспособленцем, не писал «по указке», не вошел в «Содружество» или другие дурно пахнущие черносотенные организации. Несмотря на разную степень литературной одаренности все остались – людьми.








