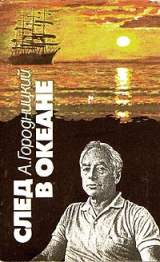
Текст книги "След в океане"
Автор книги: Александр Городницкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
Много лет назад, когда я еще не был знаком с Кимом, я услышал его ранние песни в исполнении Юрия Визбора на одном из концертов в Ленинграде. Представляя песни Кима со сцены, Визбор сказал: «Юлий Ким окончил МГПИ имени Ленина в Москве. Работает школьным учителем на Камчатке. И чем хуже ему приходится, тем более веселые песни он пишет. Так что веселых песен у него много». Именно тогда впервые прозвучали для меня его жизнерадостные, искрящиеся крутой и влажной морской солью песни «Рыба-кит», «Подо мной глубина», «И все ж, друзья, не поминайте лихом – поднимаю паруса». Честно говоря, они немало укрепили во мне, в те поры еще сухопутном геологе, желание обязательно когда-нибудь попасть в океан. Ах, эта наивная юная романтика, кажущееся ощущение свободы на берегу безбрежного и неведомого океана, шестидесятые годы с их надеждами и верой в завтрашний счастливый день, томительный запах прибрежных водорослей и морской соли! Герои первых песен Кима – рыбаки и китобои, беззаботные школяры, распевающие лихие и совершенно антипедагогичные песенки, вроде «Бей баклуши, бей баклуши, а уроки – не учи»; свирепые, но благородные корсары устрашающего вида – «Через лоб повязка, через череп – шрам. Это не жизнь, а сказка – говорю я вам». Искристое веселье, безбрежное как океан и щедрое, как встающее из него камчатское солнце. Ощущение беспредельного богатства, несмотря на более чем скромный учительский оклад: «если хочется кому-то маринованного спрута, значит ждут его Калькутта или порт Бордо». И при этом «железные» законы равенства и братства: «подношу к свету последнюю галету и делю на семь персон», или: «все, что море дарит нам, делим пополам».
Примерно тогда же появились сразу завоевавшие всенародную популярность знаменитые песни из цикла «1812 год». Кто не распевал тогда лихую песенку лейб-гусаров, предлагающих в порыве верноподданных чувств заменить царя, или, тонко стилизованную под народную, песню бомбардиров «Генерал-Аншеф Раевский сам сидит на взгорье»? Казалось, Ким так и останется автором задорных мальчишеских песен и театральных стилизаций. Жизнь, однако, судила иначе.
Вслед за короткой и ненадежной хрущевской оттепелью началась длительная пора брежневских заморозков. Волею обстоятельств, а также в силу прямоты души и непримиримости ко лжи, после возвращения в Москву, Юлий Ким оказался близок к узкому кругу тех самоотверженных интеллигентов, которых раньше называли диссидентами, а сейчас – предтечами перестройки. Его выгнали с работы, запретили преподавать. Оставшийся практически без средств существования, с так же лишенной работы женой и маленькой дочерью на руках, он пытался писать песни для театральных постановок, но само имя его, попавшее в «черные списки», отпугивало режиссеров. Тогда-то и появился «автор песен Ю. Михайлов». Имя это быстро прижилось на экранах кино и телевидения. Чего стоят, например, тут же подхваченные зрителями песни из кинофильма «Бумбараш» или телевизионного фильма «Обыкновенное чудо»? Немногие, однако, знают, что сценический псевдоним «Ю. Михайлов» был взят Юлием Кимом не просто «для пущей важности» (как написано на конверте его первой пластинки), а не от хорошей жизни.
Театральные, телевизионные и «киношные» песни Ю. Михайлова сослужили их автору полезную службу, дали ему необходимую профессиональному литератору школу и навсегда связали его с любимым им театром. Это во многом определило особенности развития его поэтического таланта в последующие годы. Для многих «прикладных» песен их театральный сюжетный смысл, стилизация под «другую обстановку» были только камуфляжем. Булат Окуджава как-то сказал, что он никогда не писал исторических романов, что «Путешествие дилетантов» или «Свидание с Бонапартом» – не более чем перенесение его сегодняшних проблем и героев в другие времена. Что-то подобное происходило и с «театральными» песнями Кима. Диапазон их звучания, их подтекст нередко гораздо шире того сценического действа, для которого они были написаны. Достаточно вспомнить романс захватившего власть «гегемона» Присыпкина, в строчках которого тонко пародируется фонетика «основателя Советского государства»: «Я в бою с мировой буржуазией заслужил себе личную жизнь», или знаменитый марш бюрократов, вызывавший в самые глухие годы застоя бурные овации всего зала: «Поступью железной, дружно как стена, мы шагаем вслед за, невзирая на»…
Юлий как-то рассказывал мне, что после того как он написал песни к телевизионному фильму «Короли и капуста» по О. Генри, они принимались телевизионным худсоветом. У Кима один из героев поет по сюжету песенку, где есть строчки:
Куда ты скачешь, мальчик,
Скажи ты мне, куда?
Везде одно и то же —
Бардак и суета.
Да что за беда,
Да что за беда,
Да что за беда, ей-Богу?
Поеду понемногу
Куда-нибудь туда.
«Стоп», – закричал председатель худсовета. – Это куда же туда?» И песню запретили. Пришлось автору менять выражение «куда-нибудь туда», на «туда – куда-нибудь». Так – прошло.
До сих пор, услышав неожиданно хорошую песню в телефильме или в радиоспектакле, особенно стилизованную под другие времена, я думаю: «Наверное, Ким». Он обладает удивительным музыкальным слухом к звучанию слов в их родном контексте, чутким ухом пересмешника. И все это при абсолютно современной естественности изложения. Один из лучших примеров такой «стилизации» – замечательная трагикомическая песня, в которой излагается печальная (но со счастливым концом) история незадачливого российского драматурга Василия Васильевича Капниста, пострадавшего от гневного самодержца Павла. В песне с редким мастерством и изяществом на фоне напряженного развития сюжета сочетаются обиходный язык двадцатого века с «высоким литературным штилем» восемнадцатого. «Василь Васильевич Капнист метался на перине, один и тот же страшный сон, что был уже в четверг: что он взобрался на Олимп, но, подошед к вершине, Василь Кириллыч цоп его за… спину – и низверг» или: «Да, испарился царский гнев уже в четвертом акте, когда злодей опознан был и не сумел уползть. Сие мерзавцу поделом – царь молвил, и в антракте послал гонца вернуть творца, завернутого в полсть». А в страшном облике самого курносого «ценителя искусств», «белеющего жуткой тенью», как не опознать других самодержавных вершителей судеб многострадальной нашей литературы – от Сталина и Жданова до Хрущева и Демичева? «Вот как было в прежни годы, когда не было свободы» – этой саркастической строчкой кончается песня.
Создавая песни для фильмов и спектаклей, уже упомянутых и многих других («Недоросль», «Точка, точка, запятая», «Красная шапочка» – всего и не перечислишь), Юлий Ким успешно сотрудничал с известными композиторами Владимиром Дашкевичем, Геннадием Гладковым и другими. Для меня, однако, всегда оставалось загадкой, как они пишут мелодии, – ведь все его песни уже содержат музыкальную пружину.
В ту пору смутного безвременья, которой, казалось, не будет конца, Юлий Ким писал не только за «Ю. Михайлова», но и за себя. Это были едкие, горькие, обличительные песни, где улыбчивые театральные маски были сброшены. Такие, например, как песня «Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму», посвященная его тестю Петру Якиру, или беспощадная по своей точности песня, где отражена попытка брежневско-сусловской администрации незаметно, шаг за шагом, снова втащить на опустевший пьедестал статую «величайшего гения всех времен и народов»: «А как у нас по линии марксизма? – Ленин – гений, Сталин покамест нет». Именно колючие песни Кима в те времена, вместе с песнями Галича, легли в основу «магнитофониздата», крамольного не менее, чем «самиздат».
Прошли годы, а число веселых песен у Юлия Кима не убывает. Хотя на смену официальным гонениям пришло, как будто, достойное признание. (Хорошо, что при жизни, это у нас бывает редко – достаточно вспомнить Высоцкого или Галича.) Вышла первая пластинка с его песнями. Пьесу Кима «Ной и его сыновья» поставил московский драматический театр имени Станиславского. Ставятся и другие спектакли по его пьесам. Вышли из печати сборники стихов и песен. Сам автор, не мыслящий жизни без театра, успешно работает с новым театром-студией «Третье направление», инсценирующим авторские песни. Кима, однако, не купишь. Острота и непримиримость его сатиры остаются прежними. Он и в ненадежную для России пору кажущейся вседозволенности и гласности ухитряется писать такие песни, от которых у бывалых слушателей и сейчас холодок по спине пробегает. Так в самом начале «эпохи гласности», когда А. Д. Сахаров еще был в ссылке в Горьком, Ким написал веселую «детскую» песенку про Машу, не верящую в бодрые речи «прозревших» бюрократов и постоянно твердящую: «Да, а бедный чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет – плачет». Несколько позднее появилась «бодрая» песенка о возможной завтрашней судьбе энтузиастов перестройки: «Встанешь с видом молодецким, обличишь неправый суд – и поедешь со Жванецким отбывать чего дадут».
И, наконец, уже совсем недавно приобрели широкую известность созданные им сатирические песни «Открытое письмо Пленуму Союза писателей РСФСР», печально известному своими откровенно антисемитскими декларациями, и «Письмо Великого московского князя литовской княгине», где высмеиваются бесплодные потуги центрального правительства удержать Литву от отделения.
Песни эти лишний раз показали, что уничтожающая сила смеха во много раз сильнее десятков серьезных обличительных статей. Приведу только один пример: песня «Открытое письмо…» кончается такими строчками:
А вам скажу, ревнители России,
Вы приглядитесь к лидерам своим:
Ваш Михалков дружил со Львом Кассилем,
А Бондарев по бабке – караим.
Не прошло и месяца со дня первого исполнения этой песни, как Наум Каржавин позвонил по телефону из США одному из своих московских друзей и спросил, правда ли, что Юрий Бондарев по бабке – караим…
Когда думаешь о том, что отличает авторскую песню от других форм поэзии, то приходит в голову, что автору песен для того, чтобы его слушали (ведь могут и не захотеть слушать!) совершенно недостаточно быть только одаренным поэтом и музыкантом или исполнителем. Надо еще обязательно быть личностью. Интересной для окружающих. Чтобы позиция того, кто поет, была небезразлична для других. Чтобы ему верили. Так вот, Юлий Ким – личность. Как Александр Галич, как Булат Окуджава, как Владимир Высоцкий. И это очень важно для нас – его современников. Поэтическая основа авторской песни многогранна. Песни Окуджавы и Новеллы Матвеевой – это лирические монологи с, как правило, серьезной драматической интонацией разговора. Песни Галича, Высоцкого и Кима – это прежде всего театр. Что же отличает песенный театр Кима от театра Галича и Высоцкого? В первую очередь смех с его многообразными оттенками, точно прописанными автором. Почти все герои его песен вызывают улыбки. Вот только улыбки эти разные. От сочувственной доброй сердечной улыбки, которую рождают незадачливый герой песни
«Сенсация», схваченный инквизиторами Галилей или наивные, но героические персонажи песни «Мы с ним пошли на дело неумело», до презрительной ухмылки, которой только и могут быть удостоены тупоголовые начальники, вплоть до «верхнего эшелона», палачи, сексоты, воинствующие бюрократы и мещане, подхалимы и алкаши. Чего стоит хотя бы один его знаменитый «Казачок», где танцуют две страшненькие «великие тени», обмениваясь на ходу под веселенький припев «Джан-джан-джан, чок-чок-чок» богатым опытом репрессий и подавления («Дорогой Леонид, ты меня послушай: если есть аппетит, ты бери и кушай»).
Но Юлий Ким – не только мастер сатиры. Он автор многих «серьезных», глубоко лирических и даже трагических песен. И в них его поэтический почерк отличается точным ощущением внутренней гармонии слов, безошибочным вкусом, моцартовски легким мастерством. Диапазон этих песен также широк: от грустной песенки безнадежно-одинокого Петрушки и лирического гимна пушкинскому лицею до трагического «Реквиема», от которого сжимается горло («Не собирай посылки, мама»). И в этой последней песне опять почти неуловимая и точная по своему вкусу стилизация под народную «зековскую» песню, которая только одна и может позволить себе роскошь обойтись без рифмы.
Диапазон литературных возможностей этого человека порой кажется безграничным. Одна из его последних работ в театре – музыкальное представление в двух частях «Московские кухни». Здесь в свойственной художнику лукаво-улыбчивой манере излагается совсем не смешная, драматичная и героическая история «освободительного движения» московской интеллигенции, возникшего в начале шестидесятых и беспощадно подавленного брежневско-андроповской системой к концу семидесятых. Со своими героями, своими отступниками, своими палачами и злодеями. Это, по существу, первое значительное театральное произведение, посвященное диссидентам. Его прекрасно реализовал театр-студия «Третье направление». Действие, которое начинается с улыбки, кончается героическим реквиемом памяти павших и, к сожалению, недостаточно широко до сих пор известных героев этой эпохи «недавнего прошлого», которое грозит нам повторением и «недалеком будущем».
Гляди на Кима сейчас, в начале девяностых годов, трудно поверить, что ему уже за пятьдесят: он так же непроницаемо молод внешне, в нем все тот же электрический заряд энергии и таланта, все то же силовое поле солнечной улыбки и разящего как молния смеха. Когда-то, много лет назад, от имени одного из своих литературных героев Юлий Ким написал песню с таким припевом: «Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей». Пожелаем попутного ветра этому парусу в наши грозящие штормовыми прогнозами дни – он указывает нам верный курс…
Нельзя себе представить эпоху поющих «шестидесятых» и без Михаила Анчарова, о котором в последнее время незаслуженно забыли.
Теперь, когда прошла мода на пение под гитару на московских кухнях и у таежных костров, когда сам собой умер запретный еще недавно «магнитофониздат», а пластинки с песнями Галича, Кима и Высоцкого заполнили прилавки магазинов, когда авторская песня во многом стала уже историей, настало время оглянуться назад и послушать, как по-новому звучат старые песни. «Старая песенка – новый звук», как пророчески написал когда-то еще молодой в ту пору Михаил Анчаров. Шумная волна неслыханной прежде популярности авторской песни миновала, уступив место другим модным увлечениям, миновала, оставив несколько имен, в числе которых имя Михаила Анчарова…
С Анчаровым и с его песнями я впервые познакомился в 1963 году, когда во время очередной командировки в Москву через каких-то знакомых случайно попал на одно из частых в те поры песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Григория Ивановича Петровского, председателя большевистской фракции Государственной думы, в печально известный «Дом на набережной», населенный зловещими тенями убивавших и убиенных.
«Ну где этот ваш мальчик из Ленинграда?» – услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженный мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами.
Из всех его песен тогда я знал только приписываемую ему, ставшую уже народной «От Москвы до Шанси», а в этот вечер я впервые услышал сразу же полюбившиеся мне «МАЗы», «Органист», «Тихо капает вода – кап, кап» и многие другие. Яростная экспрессия этих песен на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом великой войны (я подумал, что он и моргает часто оттого, что глаза были раньше обожжены), и его рассказов о парашютно-десантных войсках, где он вроде бы служил в конце войны, произвели на меня сильнейшее впечатление. У Анчарова была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне «цыганская» темпераментная манера исполнения. В сочетании с сильным низким, «подлинно мужским» голосом она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром, чуть не из прошлого века. Мы подружились, и он дал мне прочесть рукопись только что написанной и еще не опубликованной своей повести
«Теория невероятности», которую никто тогда не хотел печатать. Первые же ее строки вызвали у меня скептическую улыбку недоумения. Повесть начиналась так: «Недавно я влюбился. Я совсем юный – мне сорок лет». Вот старый хрен, – подумал я (мне тогда было неполных тридцать), – он еще влюбляется! В его-то возрасте! И не стыдно ему об этом писать!» Повесть, однако, заметила меня почти так же, как песни. Была в ней какая-то стихийная сила личности яркой, мятущейся и нестандартной, не вписывающейся в привычный мне стереотипный уклад. Впрочем, сам Анчаров только начинал тогда свое литературное поприще, считал себя прежде всего художником, жил в писательском доме на Лаврушинском переулке, в квартире своей тогдашней жены Джои Афиногеновой, был, как выяснилось, скор на выпивку и кулак, и писал песни, с которыми довольно часто выступал.
Живописные его работы также обнаруживали в нем несомненный талант, но при этом как бы некоторое отсутствие профессионализма. Он был тогда подобен витязю на распутье – короткая оттепель конца пятидесятых опьяняла его, бывшего фронтовика, множеством неожиданно открывшихся ему дорог и возможностей. Чем заняться всерьез? Песнями? Живописью? Литературой? Все удавалось ему. В то время он часто выступал с песнями, и выступления эти неизменно сопровождались шумным успехом.
Помню, после очередного его успешного концерта в Ленинграде мы с друзьями провожали его на «Красную Стрелу». Концерт кончился рано, было что-то около восьми вечера, и поскольку в провожающей компании было много актеров, решено было зайти в ресторан ВТО, в Дом актера, располагавшийся почти рядом с Московским вокзалом на Невском, что внушало уверенность и отъезжающему и его провожатым в невозможности опоздания. Тем большим было наше удивление, когда, прибыв наконец на Московский вокзал (а пеший путь к нему оказался трудным, так как Анчаров, пришедший в состояние полной эйфории, почему-то пытался свою только что купленную и Питере кепку засунуть в каждую из встречных урн, и приходилось ее подолгу оттуда извлекать), мы неожиданно установили, что давно ушла не только «Стрела», а вообще все поезда на Москву. Поскольку Михаил упорно настаивал на немедленном отъезде, всей компании пришлось перебазироваться на Витебский вокзал, откуда около трех часов ночи отправлялся какой-то пассажирский поезд «Москва-Бутырки», следовавший через Новгород и прибывавший в Москву, на Савеловский вокзал, где-то к концу суток. Засыпающего на ходу и ставшего сразу грузным и неподъемным Анчарова с трудом водрузили в общий вагон, среди чьих-то бесчисленных мешков и кошелок, кепку его вручили сидевшей напротив бабке с твердым наказом – беречь ее до конца пути и вручить хозяину только когда он полностью протрезвеет – и вырубившийся за время погрузки бард был отправлен в столицу. Проснувшись с больной головой в середине следующего дня где-то в районе Твери, он долго озирался, пытаясь понять, где находится и куда едет. «Где я?» – тоскливо спросил он, и упомянутая выше бабка охотно откликнулась: «А в поезде, милок! К Твери подъезжаем!» – «А товарищи мои где?» «Известно где – погрузили тебя и ушли, а чемоданчик твой – вот он. И кепочка твоя цела, так что не сумлевайся». И радостная бабка вручила похмельному пассажиру до неузнаваемости измятую и перепачканную сажей окурков «питерскую» кепку…
В последующие годы Михаилу Анчарову как будто удалось добиться литературного признания. Одна за другой были напечатаны и «Теория невероятности», и последовавшие за нею другие повести. Он стал модным писателем. Ему начали наперебой заказывать сценарии телефильмов. Инсценировки по его произведениям охотно ставили московские театры. Песни были заброшены – Анчаров полностью ушел в прозу и драматургию. И тут судьба сыграла с ним злую шутку. За первым длинным сериалом телефильма «День за днем», куда вошла отчасти его биография и где органично звучали песни, последовал следующий бесконечный телесериал, где были уже «труба пониже и дым пожиже». Герои сценария Анчарова, вызывавшие ранее полное доверие, начали вдруг говорить ходульные фразы и в псевдонародном стиле воспевать и романтизировать свой коммунальный рай, а соседи по кухне превратились в воинствующих резонеров, воплотивших в себе высоты «общественной нравственности» и безапелляционно обучающих смыслу жизни сомневающихся и ненадежных интеллигентов. Так безусловный талант художника начал разубоживаться, необратимо разъедаемый вкрадчивой отравой брежневской конъюнктуры. Вспыхнувший на какое-то время интерес к писателю Анчарову утих, и о нем мало-помалу забыли, хотя он продолжал жить и писать, а сравнительно недавно у нас и во Франции вышел его интересный роман «Самшитовый лес» и не только…
Прошли годы. Взошли на литературном небосводе другие имена. Настала долгожданная пора гласности. И теперь стало ясно, что, может быть, именно песни, написанные Михаилом Анчаровым в пятидесятые и шестидесятые годы, в самом начале его, казалось бы, такой успешной литературной карьеры, одни только и воплотили в полной мере творческий и личностный талант художника, еще не зависимый в то время от железных тисков худсоветов и издательств. Михаил Анчаров относится к тому выбитому временем поколению последнего военного призыва, о котором он сам сказал в одной из своих песен: «Мы почти не встречали целых домов – лишь руины встречали и стройки». Свои первые песни под гитару он написал еще в конце тридцатых – задолго до эпохи «бардов и менестрелей», так что именно его можно считать одним из основоположников этого жанра. И в песнях его, по-мужски жестких, поражающих прямотой разговора, живет сложная и трагическая послевоенная эпоха, где юношеский романтизм и фанатичная вера рано повзрослевших на войне юнцов сталкиваются с беспощадной повседневностью быта, начисто лишенного романтического камуфляжа: «Мне тыща лет. Романтика подохла. Кузьма Иваныч пляшет у окна». Тема этого постоянного противоборства образует главную доминанту большинства песен Анчарова – «Рынок», «Баллада о относительности возраста», «Аэлита» – и достигает высокого драматизма в одной из лучших его песен – «МАЗы», пошедшей в первый диск. Стихи анчаровских песен сочны, насыщены точными деталями: «Словно масляные губы улыбается еда», «И трупы синие торчат, вцепившись в камыши». И в то же время фольклорно напевны, полны воздуха: «Пыль ложится на висок. Шрам повис наискосок. Молодая жизнь уходит черной струйкою в песок». Не случайно некоторые из них стали безымянными и народными. Страшная эпоха шпиономании, искалечившая не одно поколение, постоянно приучавшая людей к тому, что они со всех сторон окружены врагами, и вселившая в их души маниакальный страх, доживший до сегодняшних дней, с удивительной художественной точностью воплотилась в «Песне про психа из больницы имени Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку»:
Скоро выйдет на бугор
Диверсант, бандит и вор.
У него патронов много,—
Он убьет меня в упор.
…Грохот рыжего огня,
Топот чалого коня —
Приходи скорее, доктор,
Может, вылечишь меня.
В строках анчаровских песен живет грозное дыхание минувшей войны, ее горькая и жестокая романтика. Особенно ярко это проявляется в песне «Цыган-маша», где мелкий уголовник, погибнув в штрафбате, превращается в героя:
Ты жизнь свою убого
Сложил из пустяков.
Не чересчур ли много
Вас было, штрафников?!
Босявка косопузый,
Военною порой
Ты помер, как Карузо,
Ты помер, как герой!
Любимый герой песен, повестей и пьес Анчарова, в котором легко угадываются биографические черты автора – пожилой и бывалый человек фронтового поколения. В героя этого влюбляется молоденькая девчушка, безошибочно угадывая в нем подлинного мужчину и беря на веру его духовные ценности. Помню, в одной из пьес Анчарова, поставленной театром имени Ермоловой, герой приводит свою юную подругу в бывшую свою школу на вечер встречи, где объявляют вальс: «Танцуют только выпускники 41 года!» «Почему же никто не танцует?» – удивляется она…
Жаль только, что духовные ценности воспетого Анчаровым поколения сильно потускнели в наши дни, да девчонки стали умны и недоверчивы!
Михаил Анчаров – художник. И может быть, именно поэтому так живописно и красочно отобразился в его песнях мир детства и юности автора – мир московских предместий, где во дворах «забивают козла», «белье танцует на ветру весенний танец липси» и звучат, щемя сердце, «мещанские вальсы» в микромире нашего городского обитания. Как у каждого подлинного художника, у Анчарова есть родина, это Благуша – голодная и воровская дальняя окраина тогдашней Москвы, превратившаяся в его песнях в сказочную страну детства («Только в лунную ночь на Благуше повстречал я в снегу красоту»). И это неистребимое детское ощущение обязательной потребности в красоте и надежды на счастье, которое должно наступить завтра, сохранившееся на всю жизнь со сладкой поры первого освоения велосипеда («Король велосипеда»), окрашивает даже самые трагические песни Анчарова в светлые тона: «Уходит мирная пехота на вечный поиск живой воды». Эта упрямая надежда, несмотря ни на что, не может оставить равнодушными слушающих эти песни, безоговорочно верящих актору, который:
Душу продал
За бульвар осенний,
За трамвайный
Гулкий ветерок.
Ой вы, сени,
Сени мои, сени,—
Тоскливая радость
Сердцу поперек.
Песни Михаила Анчарова не умозрительны, не «книжны», они написаны не «человеком со стороны». Автор темпераментно и яростно живет в самой гуще несчастной нашей городской жизни, внутри ее радостей и страданий, любви и ненависти. Это определяет и подлинность их языка. И в то же время песни эти населяет столь не свойственная дворовому бытию мечта, «чтоб летящие к звездам московские тройки мне морозную пыль уронили в лицо»,
Чтобы Земля,
Как сад благословенный,
Произвела
Люден, а не скотов,
Чтоб шар земной
Промчался по Вселенной,
Пугая звезды
Запахом цветов.
Все это обеспечивает незаслуженно забытым песням Михаила Анчарова долгое существование. В одной из его старых песен есть такие слова: «Мы бескровной войны чемпионы». Если знаменитый «Гамбургский счет» Виктора Шкловского применить к авторской песне, то можно с уверенностью сказать, что одним из чемпионов этой бескровной борьбы за людские души и сердца, борьбы, которая все еще продолжается, был и остается Михаил Анчаров…
В те же шестидесятые песни неожиданно начали писать и поэты, ранее писавшие только стихи. Возникновение этого, видимо, было следствием потребности более полного самовыражения, непосредственного авторского контакта с аудиторией. Наиболее ярко это выразилось в песнях Новеллы Матвеевой, создавшей в них удивительный акварельный гриновский мир добрых и грустных сказок («Страна-Дельфиния», «Капитаны») или нежной и глубокой лирики («Окраины», «Любви моей ты боялся зря»). Негромкая, завораживающая задушевная интонация ее песен – полная противоположность громовому звучанию Высоцкого или Галича – была как кислород в безвоздушном пространстве той эпохи, порождала в поющих надежду на алые паруса на хмуром и пасмурном горизонте…
В Ленинграде в это время инженеры и учителя дружно распевали лихие куплеты песни «Когда качаются фонарики ночные», сочиненной молодым талантливым поэтом Глебом Горбовским, или другой его песни, не менее популярной, особенно среди непризнанных ленинградских художников Михаила Кулакова, Олега Целкова, Якова Виньковецкого, «На дива-, на диване, на диване, мы лежим – художники».
Несколько позднее начали придумывать песни на свои стихи ленинградские поэты Виктор Соснора («Летел Литейный в сторону вокзала» или «У майора жена») и Нонна Слепакова («Старый друг, сказать по чести, потеряли мы контакт»).
Важным самостоятельным направлением в авторской песне шестидесятых было туристско-альпинистское. Это не случайно. Техническая и гуманитарная интеллигенция, недавние студенты рвались в трудные походы на неприступные вершины и в тайгу, чтобы хотя бы на время уйти от сложных проблем и фальши городской жизни, почувствовать себя настоящими мужчинами, прикоснуться к истинным неискаженным ценностям человеческих отношений – любви, дружбы, испытанным трудными условиями и опасностями.
Именно поэтому еще с конца пятидесятых годов зазвучали, сначала в альпинистских и горнолыжных компаниях, а потом уже и по всей стране, песни Юрия Визбора, рождая снежную лавину подражаний. Популярность этого человека при жизни, оборвавшейся в 1984 году, когда Юрию только исполнилось пятьдесят, поистине была фантастической, и вовсе не потому только, что Визбор был еще и талантливым актером, сыгравшим, в частности, роль Бормана в «Семнадцати мгновениях весны». Его песни «Лыжи у печки стоят», «По судну «Кострома» стучит вода», «Серега Санин», «На плато Расвумчорр не приходит весна» и многие другие создали подлинную романтику этой совсем не романтичной эпохи. Визбор – певец мужества в трудных условиях, истинной доблести, несмотря ни на что, столь не модного в наш прагматичный век мужского рыцарства. Атрибуты его героя – «вот это для мужчин – рюкзак и ледоруб», кабина взлетающего самолета – «пошел на взлет наш самолет», отсек подводной лодки – «Наша серая подлодка в себя вобрала якоря». Когда слушаешь эти песни сейчас, в девяностых, сердцем овладевает острая ностальгия по собственной юности…
Я был знаком и дружил с Юрой более двадцати лет, с 1961 года. До сих пор помню распахнутые по-летнему окна в доме на Неглинной улице – угол Кузнецкого моста, где в огромной коммунальной квартире, на одной лестничной площадке с управлением культуры, жили такие молодые тогда Юра и Ада, сразу одарившие меня счастливым игом своих песен. Начинались шестидесятые годы – время надежд, горячих споров, стихов и песен. И, пожалуй, комната Юры и Ады, где кипели яростные дискуссии, беспрерывно звенела гитара, собирались друзья и друзья друзей, была одним из песенных центров столицы и всей нашей страны. Во всяком случае, такой она казалась тогда мне – ленинградцу.
С первой же встречи Визбор поразил меня богатством и многогранностью своей натуры. Автор песен, журналист, литератор, спортсмен, художник, обаятельнейший и талантливый собеседник, он повсюду сразу же становился центром компании, ее энергетическим источником. Как всем по-настоящему талантливым людям, ему была свойственна творческая щедрость и нечастая способность искренне радоваться удачам своих собратьев по песням. Именно от него я услышал впервые песни Юлия Кима, Геннадия Шпаликова и многих других, в ту пору еще не известных мне авторов. До сих пор многие песни, и не только Юрины, я слышу как бы поющимися его голосом. В том числе и свои ранние.








