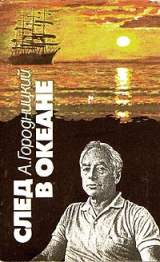
Текст книги "След в океане"
Автор книги: Александр Городницкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
Наиболее яркими представителями этого направления были, конечно, Леонид Агеев, Олег Тарутин и Володя Британишский. Несколько позднее к нам в ЛИТО пришли поэты из других объединений – Нина Королева, Глеб Горбовский и еще позднее – Александр Кушнер.
С самого начала «горняцкого объединения» или, как мы называли его в ту пору «глеб гвардии семеновского полка», в нем установился нетипичный в то время дух демократии, который, как я теперь понимаю, был определен в первую очередь Глебом Сергеевичем Семеновым. На обсуждениях стихов, встречах с поэтами из других ЛИТО и просто в разговорах, он никогда не выглядел ментором, скорее – старшим товарищем. Чем далее, тем больше он незаметно становился как бы нашим ровесником и, возможно, сам чему-то учился. Ничего удивительного в этом не было – все как-то незаметно стали друг другу друзьями-соперниками и учителями, тем более, что круг доступного нам чтения был достаточно узок и о многом узнавали друг от друга.
В это время в Ленинграде существовало несколько групп молодых поэтов. Наиболее «официальным» было университетское объединение, которое состояло в основном из филологов. Сюда входили Майя Борисова, Илья Фоняков, Владимир Торопыгин, Валентин Горшков и некоторые другие. Большой популярностью пользовалось ЛИТО при Доме культуры трудовых резервов, которым руководил Давид Яковлевич Дар. Именно оттуда пришел Глеб Горбовский, там занимались в те годы Виктор Соснора, Алексей Ельянов и другие поэты и прозаики.
Наиболее близкая к рафинированному литературному слою группа создала (правда, несколько позднее) круг, который концентрировался вокруг Анны Андреевны Ахматовой. В него входили Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и, наконец, нынешний Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Они-то и называли нас «почвенниками». Особняком держались авангардисты – Уфлянд, Еремин и Виноградов.
Существовало также литобъединение в политехническом институте, видную роль в котором играл поэт Виктор Берлин, и на занятия которого ходили Александр Штейнберг, Борис Голлер и другие.
В 1954 году в актовом зале Политехнического института начались общегородские вечера студенческой поэзии, проходившие при огромном стечении народа. У меня много лет хранится «самиздатовский» сборник по материалам одного из таких вечеров, с памятной надписью «талантливым горнякам от литобъединения Политехнического института». Там напечатаны стихи Валентина Горшкова, Виктора Берлина, Бориса Голлера и многих других. При всей непохожести отдельных авторов, их объединяет энергия и некая устремленность в завтра, которой, при всей несравнимости уровня нынешней гласности и дозволенности, сегодня нет.
Возвращаясь к нашему горняцкому ЛИТО, надо сказать, что его «идейными лидерами» в ту пору, в действительности, были Британишский, Агеев и Тарутин, а поэтическим – Глеб Горбовский.
Я вспоминаю вечера поэзии, на которых выходил Володя Британишский, худой, казавшийся всегда почему-то небритым, в заношенной горняцкой тужурке, и читал свои героические, по тем временам, стихи о вечере встречи в родной школе «Обстановка совсем семейная, – семьи тоже бывают лживые», или стихи о курсантах «Не любитель я военщины, только хочется и мне, чтобы девушки и женщины уважали их вдвойне». До сих пор помню короткое его стихотворение, которое неизменно пугало тогдашних ревнителей «идейной выдержанности»:
Меня едва не сбили с ног —
Гудок.
А за стеклом, с шофером рядом,
Вкушая необъятным задом
Подушек кожаный покой,
Сидит с чужим недобрым взглядом
Другой.
Другой – не из другой страны
Случайным ветром занесенный,
Не пережиток старины,
Из наших мест, из наших дней,
Такой другой куда страшней.
Вот он глядит, и взгляд сердит,
Шофер – его шофер – гудит.
И этот взгляд, и этот тон,
Мне говорят, что я – не он.
Что я, мол, от природы – пеш,
А он в машине родился.
Что разница большая меж,
И мне, мол, непонятна вся.
Когда я всю ее пойму,
Ох, будет весело ему!
Стихи эти, написанные в пятьдесят шестом году, напечатаны были только в девяностом. Но уже тогда они ходили в списках, смело обличая всемогущий класс «аппаратчиков».
Острые и непримиримые стихи Британишского, как правило, вызывали бурную реакцию зала, – сочувственную у одних и враждебную у других. За их распространение исключали из вузов. Помню, Борис Слуцкий подарил ему книжку с надписью: «Одному из лучших поэтов шестидесятых годов». В 1958 году вышла первая поэтическая книжка Британишского «Поиски», вызвавшая резкую доносительскую статью в «Ленинградской правде» с характерным названием «Снимите с пьедестала». В пятьдесят шестом году Володя уехал работать в Тюменскую область в Салехард. Потом в шестидесятом году переехал в Москву, где вышли две книги его стихов «Наташа» и «Пути сообщения». После этого его четырнадцать лет не печатали, мстя замалчиванием за недавнее поэтическое лидерство, за доверие не забывшей его аудитории и коллег по перу. Это многолетнее испытание забвением Владимир Британишский выдержал с честью: ни одной строки в угоду, «для власти, для ливреи». Лишенный возможности печатать свои стихи, он полностью посвятил себя поэтическим переводам с польского, за короткое время освоив язык и став одним из ведущих переводчиков польской поэзии. Только в 1980 году вышла из печати его новая книга стихов «Открытое пространство», а в 1985 году «Движение времени». В этой последней книге наиболее четко отразилась связь времен, эволюция, которую испытал автор за эти годы. На смену юному задору и темпераменту пришли потребность в анализе и модели мира. Не «сорванный голос», как написал о нем недавно питерский критик Виктор Топоров, а иные поэтические и философские рубежи, другая система чувств и мыслей. На мой взгляд, голос у Владимира Британишского все тот же – полный достоинства, начисто лишенный фальши и аффектаций, внешне сдержанный, но содержащий взрывчатый заряд. Неслучайно поэтому его, более тридцати лет живущего в Москве, до сих пор относят к «поздним петербуржцам».
Леонид Агеев писал тогда же жесткие и горькие стихи о поэтах, погибших в тридцать седьмом:
Еще их тело сытое, хмельное,
Блаженствует. Не этому ли телу
С распоротою пулею спиною
Упасть, хрипя, под каменную стену?
Что же касается поэтических открытий, то ими буквально потрясал молодой Глеб Горбовский, в стихах которого казалось бы обыденный мир вокруг нас преображался в таинственную страну:
Просеменила муха вдоль клеенки,
И в блюдечко уткнулась хоботком.
Отравленная, умирать в сторонку
Отправилась на животе ползком.
Жаль мне муху – безрассудна муха,
Доконала муху Смерть-старуха.
Не прекрасен в блюдце мухомор —
Красный в белых крапинках убор.
Нет, конец у мухи не простой —
Отравилась муха красотой.
Только поэтический глаз Горбовского мог заметить очевидную вещь: «крокодилы ходят лежа». Холодом северного пространства дышали строки его стихов, привезенных из первых экспедиций, где он работал рабочим-взрывником:
Пустыня кончится обрывом
В необозримый океан.
Твой воротник стоит, как грива,
Твое шоссе – меридиан.
Тема отдельного разговора – песни Глеба Горбовского, ставшие целой эпохой в Ленинграде конца пятидесятых. Песни эти, написанные по большей части на расхожие мотивы, тут же распространялись и распевались не только нами, его друзьями, но и широким кругом людей, о нем никогда не слыхавших. Пожалуй, наиболее известной стала песня Горбовского, придуманная им на оригинальный мотив – «Когда качаются фонарики ночные». Мне неоднократно приходилось в самых разных местах до хрипоты спорить, доказывая авторство Глеба, с яростными сторонниками «древнего народного» происхождения этой песни. Широкой популярностью пользовалась в шестидесятые годы в Ленинграде его песня о художниках «На дива– на диване, на диване, мы лежим – художники. У меня, у меня да и у Вани протянулись ноженьки». А мы в те годы с удовольствием дома и на улице распевали его песни о незадачливом постовом:
У помещенья «пиво-воды»
Стоял не пьяный постовой,
Слуга народа из народа,
Как говорится, парень свой.
Надо сказать, что сам Горбовский на гитаре не играл, песни свои пел только вместе со всеми «а капелла» и со сцены их не пел, кажется, никогда.
Судьба, однако, сыграла с ним злую шутку. Излечившись путем многолетних и неоднократных героических усилий от хронического пьянства, Глеб Горбовский вместе с ним во многом избавился и от своего незаурядного поэтического таланта. Может быть, именно поэтому в последнее время Глеб Яковлевич Горбовский всячески старается подчеркнуть свою «истинно русскую сущность» и печатает в черносотенной газете «День» стихи с выразительными строчками: «Они примазались к России, чтоб очернить ее лицо…». Читать это стыдно и грустно.
В небезопасности «крутого» излечивания творчески одаренного человека от алкоголизма я убеждался впоследствии неоднократно. Так, один из моих друзей, актер театра «Современник», создавший немало неповторимых сценических и экранных образов и страдавший хроническими запоями, был по настоянию своей энергичной очередной жены надолго и профессионально излечен от своего тяжкого порока. И хотя он продолжал активно сниматься и кино и играть в театре, но в нем как будто лопнула главная пружина, все роли его стали бесцветны и неинтересны. После нескольких лет томления духа он «развязал» и снова стал играть блестяще.
В связи с этим вспоминается история, рассказанная мне как-то случайно замечательным шахматистом Михаилом Талем, экс-чемпионом мира, оказавшимся моим соседом в ночном самолете, летевшем из Риги в Москву. Таль поведал мне о том, что когда он стал чемпионом мира, его неожиданно вызвал в одну из рижских психиатрических клиник его приятель – известный врач-психиатр, у которого на излечении находился какой-то крупный начальник, на почве хронического пьянства возомнивший себя великим шахматистом.
«Вылечить его можно только психическим шоком, – сказал врач. – Ты, Миша, должен мне помочь. Ты приедешь со мной вместе к нему в больницу и пару раз обыграешь его. Конечно, он ни в коем случае не должен знать кто ты. Скажем ему, что ты перворазрядник».
«В общем, он меня уговорил, – рассказывал дальше Таль. – Приезжаю я с ним в больницу, прихожу в палату к этому типу. Он сидит хмурый и всклокоченный. Представляется: «Я – гениальный шахматист». Фигуры на доске уже расставлены. Я приехал усталый, отчетливо понимаю разницу в наших возможностях, и первые три-четыре хода делаю рассеянно. И вдруг на пятом уже ходу спохватываюсь, что он начал меня серьезно прижимать. Я туда-сюда, а он жмет и жмет. Я выскакиваю в коридор к своему приятелю-психиатру и говорю: «Петя, он действительно шахматист мирового класса!» А Петя отвечает: «Не валяй дурака, – мне его вылечить надо». Я возвращаюсь в палату, собираюсь как могу и пытаюсь свести партию к ничьей. Не тут-то было – еще через десяток ходов он вынуждает меня сдаться. «Может, вторую желаете? – мрачно улыбается больной. Тут я всю свою волю и знания мобилизовал как мог и ценой страшного нервного напряжения еле-еле свел с ним вторую партию «вничью». Вышел я к своему врачу и говорю: «Все, – освобождай меня от этой миссии, – он, и вправду, гениальный шахматист». «Нечего мне тут заливать, – гениальный. Тебе, может быть, и гениальный, а у меня, знаешь, какие из-за него неприятности? Жена его каждый день звонит во все инстанции, начальство дергает, а никакие другие курсы не помогают. Человек, можно сказать, пропадает, там, говорят, целый трест остановился, а ты мне тут шутки шутишь. Значит, так, – ты когда в Штаты улетаешь, – в субботу? Тогда послезавтра обязательно приезжай. Что хочешь делай, но ты просто обязан выиграть у него подряд три партии. Человека спасти надо». Я все дела отложил, засел за теорию, за этюды. В общем подготовился, как на матч-реванш. Приехал в больницу к нашему пациенту. А он уже меня ждет и руки потирает. И тут меня прямо оторопь взяла, хуже чем с Бобби Фишером. Так или иначе сел я с ним за стол и с неимоверными усилиями, около четырех часов просидев дотемна, выиграл три партии подряд. После конца третьей партии противник мой багровеет и теряет сознание – шок. Тут понабежали врачи и сестры – куда-то его поволокли. Петя, мой приятель, руку мне пожимает – «спасибо, – говорит, – ты человека спас, век тебе не забуду, поскольку кроме человека еще и мою лечебную репутацию спас». Возвратился я через месяц из Штатов, звоню Пете, ну как, говорю, дела у твоего больного? «Спасибо, – говорит, – еще раз огромное, – он уже две недели как выписался, работает, все в полном порядке».
Тут бы и сказке конец, – грустно улыбнулся Таль, – но есть у нее продолжение. Этим летом в Риге в Парке культуры я как-то давал в воскресенье показательный шахматный турнир на десяти досках. И вдруг вижу – за третьей доской сидит мой гениальный пациент. Я опять же оробел, на все другие доски – ноль внимания, а все полностью сосредоточил на третьей доске. И что вы думаете? После третьего же хода стало ясно, что играть он не может – вылечили. Вот так-то».
Возвратимся, однако, в Ленинградский Горный конца пятидесятых и его славное литобъединение.
Важным событием в нашей тогдашней жизни, как и в жизни нашего поколения, был Двадцатый съезд партии и доклад Хрущева, впервые открыто разоблачившего культ Сталина. Рухнул идол, завалив своими обломками все жизненное пространство. Надо было заново учиться жить. Это не могло не отразиться в стихах, которые мы писали.
Совсем недавно, весной девяностого года, в Ленинграде, благодаря инициативе Майи Борисовой, вышел стихотворный сборник «То время – эти голоса. (Ленинград, поэты оттепели)». В него вошли стихи Владимира Британишского, Глеба Горбовского, Леонида Агеева, Олега Тарутина, Александра Кушнера и других поэтов, связанных и в те годы с ЛИТО Горного института. Посвящен этот сборник памяти безвременно ушедшей из жизни поэтессы Татьяны Галушко, тоже имевшей отношение к Глебу Семенову. Неслучайно, вспоминая о той поре в предисловии к своим стихам, безвременно и трагически ушедший из жизни Леонид Агеев написал в этой книге: «Были «лишние люди»… Было «потерянное поколение» Ремарка. Был заданный однажды себе вопрос: «А из какого» поколения ты? Как его нарекут, если такому суждено случиться, потомки? Находился и ответ: «Я из поколения «детей войны», тех самых, родившихся незадолго перед началом Великой Отечественной». На пятом десятке всплыло и утвердилось новое – не то чтобы более точное, а просто иного плана понятие: обманутое поколение. Я из поколения обманутых…
Опознанию первого обмана помог XX съезд. О культе и репрессиях говорили и раньше, до съезда; настойчивее – после 1953 года. Мне и двадцати не было. Молодо-зелено, но не настолько, чтобы, наслушавшись таких – чаще полушепотом – разговоров, не добраться до материалов всех съездов ВКП(б) и не сравнить, с карандашом в руках, в первую очередь – списки руководящих органов партии, избранных XVI и XVII съездами. Обман оказался жестоким: с детства тебе рассказывали сказку о самом добром, самом мудром, самом заботливом отце-вожде-учителе. Он же, оказывается, был совсем не таким: нехорошим, по меньшей мере, был человеком, а скорее всего – настоящим злодеем.
Услышать сказанное Хрущевым на XX съезде я был готов. В 1957 году Сталин для меня умер вторично. Труп я сжег, прах развеял. Хрущевский и брежневский обманы были впереди»…
Перечитывая сегодня в книге «То время – эти голоса» наши старые стихи, пусть наивные с позиций сегодняшнего времени, я все-таки испытываю радость за них и за нас тогдашних.
В 1956 году и думать было нельзя эти стихи напечатать. Ценой больших усилий на ротаторе Горного института был на правах рукописи выпущен тиражом триста экземпляров сборник стихов членов ЛИТО, под редакцией Глеба Семенова, ставший теперь предметом зависти коллекционеров. Вместе с нашими стихами туда вошли также стихи студентов ЛГИ более старших поколений – Нины Островской, Бориса Рацера, Льва Куклина, Игоря Тупорылова. Из «литовцев» там – Игорь Трофимов, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Эдуард Кутырев, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Владимир Британишский и я.
Поскольку сборник разошелся моментально, решили сделать второй выпуск, существенно расширив круг авторов. Этот второй выпуск действительно вышел в 1957 году. Ему, однако, не повезло. В это время проходил первый Всемирный фестиваль молодежи, и цензура была особенно бдительна. Сборник попался кому-то на глаза и вызвал бурю. По категорическому указанию партийных властей партком института принял решение весь тираж сборника уничтожить, и он был сожжен в котельной института. Чудом уцелело только несколько экземпляров.
Уничтожение этого сборника, а также ряд доносов в разные инстанции, включая КГБ, привели к тому, что занятия ЛИТО Горного института в 1957 году были прекращены, а Глеб Сергеевич Семенов из него изгнан.
Одним из поводов этого разгрома послужили также стихи Лидии Гладкой, посвященные происходившим тогда печально известным венгерским событиям:
Там алая кровь заливает асфальт,
Там русское «стой» – как немецкое «хальт»…
«Богема проклятая», – стучал на нас кулаком секретарь парткома института Олег Васильевич Литвиненко, – до прямой антисоветчины докатились!»
И хотя ЛИТО формально не закрыли, вместо Глеба Семенова из Союза писателей был приглашен руководить им Дмитрий Леваневский, хорошо известный своим приспособленчеством. На этом недолгий взлет ЛИТО Горного института закончился.
Мы же, питомцы Семенова, уже после окончания Горного, перебрались в его ЛИТО в Доме культуры им. Первой пятилетки, которое он вел в последующие годы. Там на занятия вместе с нами приходили Александр Кушнер, Яков Гордин, Нонна Слепакова, Вадим Халупович, Виктор Соснора, Анатолий Пикач, Майя Данини и многие другие, прочно вошедшие позднее в ленинградскую литературу.
Вспоминая о ЛИТО Горного института, нельзя не сказать о Якове Виньковецком, который гораздо позднее – уже и 1975 году эмигрировал в США и трагически погиб, кончил жизнь самоубийством. Это был человек удивительных и разносторонних талантов. По окончании Горного довольно быстро защитил кандидатскую. Писал прозу. Потом увлекся живописью и приобрел довольно широкую известность как художник-модернист и в Союзе, и за рубежом. Я вспоминаю споры между ним и сугубым реалистом поэтом и искусствоведом Львом Мочаловым, который, глядя на абстрактную Яшину живопись, говорил: «Яша, я признаю, что ты настоящий художник. Только ты нарисуй меня или вот птичку, чтобы похоже было. А потом рисуй любую абстракцию. А пока ты птичку не нарисуешь, я тебя художником не признаю». Виньковецкий при этом всячески ругал Мочалова, но птичку не рисовал.
Был он человеком удивительным. Незадолго до своего отъезда написал и опубликовал – как рукописное издание – небольшую книжку об устройстве Земли, которая отражает скорее не геологические, а натурфилософские его взгляды. Неожиданная его смерть всех потрясла…
Что касается Андрея Битова, то он впоследствии перешел из ЛИТО Горного института в ЛИТО при альманахе «Молодой Ленинград», бывший в те годы единственным изданием, реально доступным для молодых авторов.
Несмотря на сравнительно недолгий срок существования (не более трех лет), ЛИТО в Горном институте сыграло значительную роль в жизни почти каждого из его участников, большая часть которых навсегда связали себя с литературой. Стали профессиональными литераторами Леонид Агеев, Олег Тарутин, Андрей Битов, Нина Королева, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Владимир Британишский и некоторые другие – явление для технического вуза в известной степени уникальное.
Примерно в пятьдесят четвертом – пятьдесят пятом годах в нашем Горном пошла мода на студенческие спектакли. Был даже объявлен конкурс на лучший факультетский спектакль. Тут же возникли группы режиссеров, актеров, и, конечно, в первую очередь, авторов. Главными сценаристами факультетского спектакля геологов были Агеев и Тарутин, на нашем геофизическом факультете – мы с Володей Британишским.
Тарутин с Агеевым написали лихой текст в стихах, и спектакль с блеском прошел на институтской сцене, явно обеспечив себе первое место. Мало того, в отдельных героях легко угадывались пародийные черты их потенциальных соперников-геофизиков.
Я незадолго перед этим, под впечатлением экспедиций на Гиссар, написал цикл «мужественных», в духе своего любимого в те поры Киплинга, а на самом деле – довольно беспомощных и подражательных «Стихов о Гиссарском хребте», где всячески воспевал трудности экспедиционного быта и суровые мужские забавы. Поэтому герой агеевской-тарутинской пьесы, старшекурсник, рассказывающий небылицы робким первокурсникам, гордо заявлял:
Помню, было на Гиссаре…
От сапог подметки ели —
Аж язык распух во рту,
А последние три недели
Дотянули – на спирту.
Что было делать? Надо было как-то, хотя бы в чем-нибудь обойти торжествовавших геологов. О том, чтобы написать стихотворный текст лучше, чем Агеев с Тарутиным, не могло быть даже речи. Тогда на заседании факультетского комсомольского бюро было решено написать специально для спектакля песни, которых у геологов не было – чтобы выиграть конкурс. Тем более, что недавно закончивший геофизический факультет молодой композитор Юрий Гурвич обещал написать музыку. Ответственным за тексты песен и их подготовку в спектакле был назначен я – Британишский в это время писал стихотворные репризы, описывая деканатский коридор:
Вот первокурсники-ягнята,
Какими были все когда-то,
На расписание толпой
Глядят с покорностью тупой.
Но, в расписание не глядя,
Шагает старшекурсник-дядя,
Он расписание давно
В сплошное превратил «окно».
Я исправно, к указанному мне сроку, сочинил требуемые тексты для песен, главной из которой в спектакле должен был стать «Геофизический вальс», и отправился к Гурвичу, бывшему в те поры зятем известного ленинградского писателя Юрия Германа. Потом я несколько раз звонил ему, но он все говорил, что песня еще не готова. Наконец, когда до спектакля оставалось всего два дня, я приехал к нему, и он выдал мне нотную запись, которую я, ввиду своей полной музыкальной безграмотности, прочесть, конечно, не мог. Я тут же помчался и Горный и вручил ноты нашей главной «солистке». Посмотрев их, она ударилась в слезы, решительно заявив, что такую сложную мелодию петь не в состоянии. А спектакль – послезавтра. Как же быть? Разгневанный комсомольский секретарь заявил мне: «Ты эту кашу со своим Гурвичем заварил, ты и распутывай. Как хочешь и что хочешь делай, но чтобы назавтра песня была, а иначе – комсомольский билет положишь за срыв факультетского спектакля». Угроза по тем временам казалась мне нешуточной. Гурвич после моего отчаянного звонка к нему обиделся и, обвинив нас в «непонимании музыки», повесил трубку. Положение было критическое. Все, что мне оставалось, ценою бессонной ночи (очень не хотелось расставаться с комсомольским билетом – не зря, как-то выступая против меня на занятии ЛИТО в те годы, Британишский заявил: «Городницкий был когда-то комсоргом и никак не может этого забыть») попытаться придумать нехитрую мелодию песни.
Наутро я принес ее в институт, и певица петь песню согласилась. Так, впервые в своей жизни, я придумал мелодию для песни, хотя, по всей видимости, не придумал, а скорее слепил из обрывков мотивов, бывших у меня в то время на слуху. Получилась песня «Геофизический вальс»: «Снег на крышах темнеет и тает на исходе весеннего дня». Несколько обнаглев после этого, я придумал тут же еще одну песню «Сонные кони храпят без седла», а Володя Британишский, ревниво следивший за моими потугами, немедленно написал песню для сцены в общежитии:
Задумчиво встали походные кружки
На серой клеенке стола.
Совсем как в палатке, у нас в комнатушке
Не больно-то много тепла.
И мотив к ней он придумал довольно неплохой. В результате мы заняли в конкурсе первое место, и геологи были посрамлены. Правда, бдительная партийная цензура категорически вычеркнула из спектакля строчки диалога во время застолья в студенческом общежитии на Малом-сорок, где тамада провозглашал: «В Москве прошел Двадцатый съезд», а его сосед немедленно добавлял: «Пусть каждый выпьет и заест!»
Так в 1954-55 гг. я начал впервые придумывать мелодии на собственные стихи. К числу самых первых относятся «Песня четвертой партии», упомянутая выше, и злосчастный «Геофизический вальс».
В 1956 я впервые в жизни получил также «официальный» заказ на песню. В связи с подготовкой к празднованию в 1957 году юбилея города, хор клуба «Трудовые резервы» решил исполнить «Гимн Великому городу» Глиера из известного балета «Медный всадник». Надо было написать текст гимна. Узнав об этом, Глеб Сергеевич уговорил руководство клуба заказать текст мне. «Имей в виду, – сказал мне Семенов, – что дело это платное и денег у них много, так что проси как можно больше». Я пришел в клуб «Трудовые резервы» и на вопрос, сколько будет стоить текст гимна, зажмурившись от собственной наглости, попросил шестьсот (ныне шестьдесят) рублей – сумму, как мне тогда казалось, непомерно высокую. Директор, к моему удивлению, радостно улыбнувшись, тут же поставил цифру в договор. «Дурень, – сокрушенно покачал головой Глеб Сергеевич, – они же собирались тебе три тысячи заплатить».
Так нечаянно я стал в пятьдесят шестом году автором «Ленинградского гимна», пополнив собой славные ряды «гимнюков». Гимн этот много лет исполнялся на разного рода официальных церемониях и при отправлении «Красной стрелы» от перрона Московского вокзала. Кстати, совсем недавно один из уже нынешних «отцов Санкт-Петербурга» на Ассамблее в Таврическом дворце спросил меня, нельзя ли переделать слова этого гимна на гимн Санкт-Петербурга.
Помимо занятий в ЛИТО, которые обычно проходили раз в неделю, мы довольно часто собирались, читая друг другу стихи и обсуждая их, или споря о прочитанном. Собирались обычно либо у Агеева на Покровке, где у него вместе с его женой Любой была небольшая комната, либо у Олега Тарутина на углу Маклина и Декабристов. Застолья при этом были чисто символическими, главное – что читалось и говорилось, хотя, конечно, серьезные выпивки, особенно с участием Глеба Горбовского, тоже случались. Как-то в зимнюю пору мы с ним и с Агеевым распивали «маленькую» на невском льду, перед сфинксами, и поскольку стакана не было, то вырезали ножом рюмку из яблока. Вообще – умение выпить входило как бы в кодекс «горняцкого» бытия. Помню, как все смеялись над Сашей Кушнером, когда на мои проводы в экспедицию вместо общепринятой пол-литры он принес торт, перевязанный голубой ленточкой.
У меня на старой и затертой допотопной бобине сохранился обрывок записи одного из тех давних сборищ, происходившего в тесной комнате моей коммуналки на Красной улице. Тогда, кажется, обсуждались мои стихи. Из общего нестройного гомона явственно выделялся голос Кушнера: «Так как постановили – считать это стихотворение плохим или хорошим?»
Встречи эти, с чтением, обсуждением и разговором, чаще всего уже без Глеба Семенова, стали традиционными, и после, когда все разъехались по разным краям и экспедициям, а вернувшись, уже отошли друг от друга, отсутствие этих сборищ сильно сказывалось.
И еще одно: средой нашего литературного обитания всегда был Ленинград, его улицы, переулки, каналы, Васильевский вокруг Горного. Это вовсе не значит, конечно, что мы писали именно о городе, – он просто всегда незримо присутствовал в самом дыхании нашем в те годы…
К середине пятидесятых относится также начало дружбы с братьями Штейнбергами, которые, хотя сами стихов и прозы не писали, сразу же оказались в самом центре литературной жизни. Старший – Генрих – учился в Горном на два курса после меня, где ухитрился закончить сразу два факультета – геолого-разведочный и геофизический. Младший – Александр – был в те поры студентом Политехнического института и немало усилий приложил к организации студенческих вечеров поэзии.
Братья были знакомы и дружны практически со всеми известными в то время молодыми писателями, поэтами и художниками из упомянутых группировок. У их родителей – Анны Аркадьевны и Семена Исааковича, в большой квартире старого петербургского дома на Пушкинской улице, неподалеку от Московского вокзала, все время собирался разнообразный народ. Здесь можно было увидеть и уже упомянутых горняков (Глеб Горбовский обладал в этом доме личным правом сдавать пустые бутылки – в фонд следующих посиделок), и Иосифа Бродского, и Евгения Рейна, вернувшегося с Камчатки и читавшего с рычанием свои плотоядные стихи «люди ели мясо», и молодых тогда писателей Сергея Вольфа, Владимира Кацнельсона (впоследствии ставшего Марамзиным), Игоря Ефимова с женой-поэтессой Мариной Рачко. За большим столом блистал острыми репликами Анатолий Найман, читал свои первые рассказы Битов, устраивали домашние вернисажи Олег Целков, Анатолий Зверев, Михаил Кулаков, Яков Виньковецкий.
У одного из братьев, Генриха – была хотя небольшая, но своя комната, на стене которой красовался огромный портрет хозяина работы Михаила Кулакова. В комнату эту набивалось обычно несметное количество народа, сидевшего ночи напролет в густом табачном дыму. Поскольку дом располагался рядом с Московским вокзалом, он служил также постоянным местом ночлега для заезжих москвичей. Родители братьев сами с удовольствием принимали участие в застольях, чтобы выпить водки и послушать «современную молодежь».
К этому времени Саша Штейнберг женился на Нине Королевой, Глеб Горбовский – на Лидии Гладкой, так что литературные общения переплелись с семейным бытом.
Помнится, именно в квартире Штейнбергов был придуман шуточный «радиорепортаж», посвященный юбилею Глеба Семенова, которому в 1958 году исполнилось сорок лет (безнадежно много, как мы считали тогда). Авторами юбилейной передачи были Шура Штейнберг, Глеб Горбовский, Нина Королева, Яков Виньковецкий и некоторые другие. В репортаже изображалось торжественное прибытие персонального поезда с юбиляром в Ленинград и встреча его на Московском вокзале – пародия на официальные приемы «высоких гостей». При этом «пионерка Маша Веселкина», поздравлявшая юбиляра от имени студии литературного творчества Ленинградского дворца пионеров, читала приветственные стихи, начинавшиеся такими строчками:
Все радостней солнце родимое светит,
И звезды сияют на башнях Кремля,
И в ваше великое сорокалетье
Колхозные жнейки пахают поля.
Вся сцена была выдержана примерно в том же тоне. Нашли в ней отражение и другие литературные группы, прежде всего ЛИТО, которым руководил Давид Яковлевич Дар, увлекавшийся в то время путешествиями на мопедах со своими учениками. Он появляется «на моторище одноцилиндровом», в окружении своих питомцев и «рабочею тематикой потряхивает».








