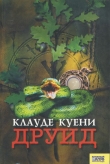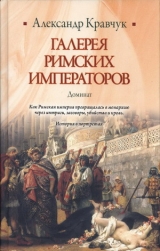
Текст книги "Галерея римских императоров. Доминат"
Автор книги: Александр Кравчук
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
А вот внутренняя политика Максима принципиально не отличалась от того, что вынуждены были делать другие цезари той эпохи. Приходилось усиливать фискальный гнет, особенно в отношении состоятельных слоев населения, чтобы обеспечить потребности армии. К счастью, урожаи в Галлии выдались хорошие, и народ был спокоен.
Правление Максима, ревностного католика, вошло в историю христианства важным и трагическим событием поистине символического значения. В 385 г. впервые был вынесен смертный приговор по обвинению в инаковерии. Жертвой стал Присциллиан, епископ города Avilaв Испании, распространявший учение в некотором отношении близкое манихейству, а одновременно призывавший вернуться к духу и обычаям первых христиан. Дело его тянулось еще со времен Грациана, вызывая серьезное замешательство в разных кругах. В конце концов Присциллиану вынес приговор синод в Бурдигале (Бордо), а затем префект претория и сам Максим. В будущем это стало правилом – церковь использовала светскую власть. Смерть Присциллиана открывает бесконечную череду мучений, причиняемых одними христианами другим. А сторонники его, которых было немало, особенно в Испании, существовали еще два столетия.
А тем временем в Италии полыхал спор между приверженцами новой и старой веры. В 384 г. префектом Рима стал Симмах, верный прежним богам. Он тут же поспешил в Медиолан к императору Валентиниану II с просьбой от сенаторов вернуть алтарь Виктории в зал заседаний, а весталкам – отнятые у них привилегии. Но епископ Амвросий не желал и слышать об этом и даже пригрозил императору отлучением от церкви, если тот пойдет в этом деле на уступки.
В том же 384 г. умер епископ Рима Дамаз. На его место выбрали дьякона Сириция, пятнадцатилетний понтификат которого укрепил авторитет пастырей этой общины во всем христианстве.
А чуть позже в столицу империи приехал тридцатилетний учитель риторики из Карфагена Аврелий Августин. Перебрался он сюда, как сам потом объяснял, не из амбициозных или материальных соображений, а устав от нахальства и своеволия карфагенских учеников. В то время как бытовало мнение, что учащаяся молодежь в Риме более спокойна и дисциплинированна.
Сразу по приезде Августин тяжело заболел, а когда выздоровел, собрал группу студентов, однако быстро убедился, что у местной молодежи свои недостатки: они просто не платят педагогам и свободно меняют профессоров.
Не будучи христианином, Августин поддерживал тесные контакты с манихеями. С их помощью он добился, что, когда из Медиолана пришла просьба прислать учителя риторики, префект Симмах направил туда именно его, позволив даже воспользоваться государственной почтой.
Знаменитый медиоланский епископ сразу стал оказывать огромное влияние на молодого профессора. Поначалу Августин слушал его только из профессионального интереса к форме высказывания, но со временем и незаметно для себя увлекся и аргументацией, и существом умозаключений, постепенно отходя от манихейства.
Весной 386 г. Медиолан потряс спор между епископом и императорским двором. Конфликт разгорелся вокруг церкви, которую хотела передать арианам благоволящая им императрица Юстина. Амвросий заперся в здании и выдержал многодневную осаду, выйдя из нее победителем. А в конце августа того же года Августин стал христианином; крещение он принял в апреле 387 г.
В то же самое время в Антиохии начал приобретать известность пресвитер Иоанн. Когда в начале 387 г. были увеличены налоги, чтобы иметь средства на празднование десятилетия правления Феодосия, в этом большом городе произошли волнения. Возмущенный народ повалил статуи императора и, хуля и понося цезаря, волок их по улицам. Когда возбуждение спало, все не на шутку перепугались. Наказание казалось неизбежным, народ был уверен, что оскорбленный император пришлет войска и устроит в городе кровавую баню. Именно в эти дни панического ужаса, когда горожане искали спасения в церквях, Иоанн произносил ободряющие проповеди. Сам он был родовитым антиохийцем, сыном офицера, учился на юриста, но потом вел поистине монашескую жизнь, полную жесточайшего аскетизма. Благодаря позиции и деятельности Иоанна в то тревожное время его стали называть Хризостом, то есть Златоустом. Позднее он стал епископом Константинополя и многие годы играл важнейшую роль в жизни Восточной империи.
Император прислал комиссию для расследования событий в Антиохии. Однако после первых допросов и суровых приговоров следствие прекратили. Такое великодушие Феодосия в этом случае объяснялось, несомненно, нарастающей угрозой гражданской войны. А дело было в том, что, когда в начале 387 г. разные варварские племена напали на придунайские земли Паннонии, советники Валентиниана II решили призвать на помощь Максима. Тот охотно отправил войска на восток, но как только они оказались на равнинах вдоль реки Пад (сейчас По), тут же двинулись прямиком на Аквилею, где тогда находилась резиденция Валентиниана II. Шестнадцатилетнему в ту пору цезарю, тем не менее, удалось вместе со всей семьей, то есть матерью и сестрами, буквально в последнюю минуту выйти в море и добраться до Тессалоников.
Осенью в этот город прибыл сам Феодосий. На совете было решено выступить против Максима, так как он первым нарушил мир. А чтобы укрепить союз с Валентинианом II, Феодосий взял в жены его сестру Галлу.
Собственно военная кампания началась весной 388 г. Максим перешел Восточные Альпы и занял земли на севере нынешней Словении. Противная сторона приступила к действиям на суше и на море. Флот на борту с Валентинианом II и его матерью поплыл сначала к Сицилии, а потом пристал у берегов Италии в устье Тибра, что должно было создать угрозу для Максима с тыла. Феодосий отправился на войну в июне; с ним был младший сын, четырехлетний Гонорий, а старший, Аркадий, уже пять лет носящий титул августа, на всякий случай остался в Константинополе.
Полководцы цезаря – Арбогаст и Рихомер, Промот и Тимазий – разбили врага в битвах на Саве и Драве. Максим отступил за Альпы, в Аквилею. Когда Феодосий приблизился к этому городу, император-самозванец даже не пытался сопротивляться и сдался. Он рассчитывал на великодушие победителя и жестоко ошибся. Феодосий выдал его солдатам, а те сделали то, чего от них ожидали. Магн Максим был убит легионерами 28 августа 388 г. Вскоре после этого его судьбу разделил и сын Виктор. Его, совсем еще ребенка, отец успел провозгласить августом. Находился он в Галлии, где его и убил спешно посланный Феодосием Арбогаст.
В империи снова формально было три цезаря: Феодосий, Валентиниан II и Аркадий. В действительности правил только первый, так как остальные были еще мальчиками, соответственно семнадцати и одиннадцати лет. В особенно сложной ситуации, как выяснилось в скором будущем, оказался старший из них, Валентиниан II.
ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ
Весьма продолжительное время, а именно с осени 388 г. до весны 391 г., Феодосий, победитель Максима, пребывал в Медиолане, лишь изредка покидая этот город. А молодой Валентиниан II был отправлен за Альпы, в Галлию, где его резиденцией стал поначалу Тревир, а затем Виенна на Родане. В качестве советника и опекуна его сопровождал опытный полководец Арбогаст, франк по происхождению, весьма отличившийся в войне с Максимом. Мать Валентиниана, Юстина, женщина огромной энергии, к тому времени уже умерла. Вероятно, Феодосий собирался в будущем поделить империю на три части между Валентинианом и своими сыновьями, Аркадием и Гонорием. Первый получил бы Запад, то есть Британию, Галлию, Испанию и Мавританию, Аркадий – Восток с Константинополем, а младший Гонорий полосу центральных стран – от Дуная через Италию и до самой Африки.
Во всяком случае, Феодосий, как бы желая представить жителям Рима будущего правителя, взял с собой именно Гонория, когда летом 389 г. приблизительно на три месяца отправился в столицу на Тибре. Император был приветлив с сенатом, и милостиво отнесся даже к тем его членам, что сохранили верность прежним богам, а таких сенаторов оставалось еще много. Небезызвестный Симмах был прощен цезарем, хотя он несколькими месяцами ранее произнес панегирик в честь самозванца Максима, когда тот хозяйничал в Риме.
Знаменательный факт: префектом города стал Цейоний Альбин – один из образованнейших римлян своего поколения. Он отлично знал латинскую литературу, а особенно любил поэзию Вергилия, но интересовался и философскими проблемами. Его перу принадлежали трактаты по логике, геометрии, музыке. Его родной брат, Волузиан, ревностный приверженец бога Митры, в мае 390 г., то есть как раз во время префектуры Альбина, снова прошел обряд посвящения и мог принимать участие в тайных ритуалах и мистериях. В ознаменование этого события он воздвиг алтарь Митре, а также Изиде и Аттису. Сам Альбин критиковал некоторые христианские взгляды, на что епископ Амвросий ответил целым трактатом. Жена и дочь префекта были усердными христианками, а сын верил в прежних богов. Картина весьма характерная и частая во многих тогдашних семьях.
А между тем император Феодосий, несмотря на столь активную поддержку церковной правоверности, все больше втягивался в конфликт с могущественным епископом Медиолана.
В 388 г. в городке Каллиникум ( Callinicum) подстрекаемая монахами толпа спалила еврейскую синагогу и часовню одной секты. Император приказал местному епископу немедленно отстроить синагогу, чему Амвросий категорически воспротивился. Вступившись за монахов и епископа Каллиникума, он пригрозил отлучить цезаря от церкви. Феодосию пришлось пойти на попятный и амнистировать всех виновников беспорядков.
Но поистине грозный размах приобрели события в Тессалониках. Их косвенной причиной послужил изданный весной 390 г. закон Феодосия, приказывающий строжайшим образом преследовать всякие сексуальные отклонения; виновников полагалось сжигать заживо – притом публично, дабы другим не повадно было. Поэтому, когда в Тессалониках молодой слуга Бутериха, командующего тамошними войсками, стал любовником очень популярного в городе циркового возницы, соблазнитель был арестован. А тем временем приближались дни крупных местных игр, и народ громко возмущался, что без такого знаменитого возницы соревнования колесниц проходить не могут. Начались волнения. Однако Бутерих игнорировал настроение масс и однажды появился на улице без охраны. Толпа напала на него и забила камнями вместе с еще несколькими вельможами. Извещенный об этом инциденте император отдал войскам секретный приказ. Когда во время игр зрители до отказа заполнили трибуны, огромное здание стадиона внезапно окружили вооруженные солдаты. За три часа было перебито как минимум несколько тысяч мужчин.
Произошло это в конце апреля или в начале мая 390 г. Немного найдется подобных деяний предшествующих Феодосию цезарей-язычников, как столь отвратительное массовое убийство, совершенное в отношении собственных подданных наихристианнейшим императором. Новая религия, уже несколько поколений формирующая умы и чувства верующих, ни в чем не смогла изменить к лучшему природу человека – как не изменила ее и двадцать веков спустя.
Практически сразу стали предпринимать попытки оправдать Феодосия, уверяя, что он в последний момент пытался отменить приказ. Утверждали также, что главным виновником является его самый влиятельный советник, начальник дворцовой службы Руфин; а ведь и он был примерным христианином, причем весьма набожным.
Император справедливо предположил, что весть о резне вызовет волну возмущения, а посему предусмотрительно удалился из Медиолана и вернулся только в июне, когда первый шок в обществе уже начал проходить. Но тогда, в свою очередь, Медиолан оставил епископ Амвросий, якобы по состоянию здоровья. Он, таким образом, оправдывал свое отсутствие во время встречи правителя, а одновременно мог в письменной форме выразить, что думает о преступлении в Тессалониках. Письмо епископа полно глубочайшего возмущения, а заканчивается утверждением, что император не имеет права участвовать в богослужениях, пока не очистится от греха. Фактически это равнялось отлучению от церкви.
Позднее возник рассказ, что, когда Феодосий якобы хотел войти в церковь, епископ встал при входе и не пустил цезаря внутрь. И хотя это только легенда, но повторяемая и красочно расписываемая на протяжении столетий, она приобрела важный исторический смысл, ибо показывала, что запятнанное грехом убийства величие самого властителя Рима отступает перед авторитетом служителя церкви. Замечательный символ для средневековых споров между тиарой и короной.
В действительности же такой сцены не было вовсе, и все решалось в политической плоскости. Император, задетый позицией Амвросия и его затянувшимся отсутствием, переехал в Верону. Вышедшие там в июле 390 г. его указы, по сути, благосклонны прежним верованиям и даже пытаются укоротить произвол христиан в некоторых вопросах. Например, постановлялось, что женщина может занимать церковную должность диаконисы только по достижении шестидесяти лет. Запрещалось также диаконисам отписывать свое имущество общинам своих единоверцев, духовным лицам и даже нищим. Запрет оправданный, так как наверняка немало семей страдало от набожного фанатизма женщин, завещавших все свое имущество Церкви – зачастую и вполне сознательно, чтобы только досадить наследникам. Впрочем, указ этот действовал всего два месяца и был аннулирован уже к концу августа, несомненно, в результате острых протестов клира.
Другой закон, не дозволявший монахам находиться в городах, просуществовал два года. Считается, что его настоящим автором был Татиан, префект претория Востока и язычник.
В то же время продолжались конфиденциальные переговоры между двором и епископом Медиолана. Феодосий делал примирительные жесты, свидетельством чего является еще один закон того периода, повелевавший, чтобы между вынесением смертного приговора и его исполнением проходило не менее 30 дней – время подумать и, возможно, изменить решение. Таким образом, цезарь давал понять, что ему случалось действовать слишком опрометчиво.
В конце концов двор и епископ пришли к согласию. Но до самого дня Рождества цезарь появлялся в церкви без императорских регалий, как кающийся грешник. А праздник этот отмечался уже и тогда 25 декабря, хотя раньше на местах существовали разные традиции, да и сам праздник не считался важнейшим. В те времена полагали, что он не столь значим по сравнению с памятью о Страстях Господних. Указывалось также, что как раз язычникам свойственно праздновать дни рождения своих богов и считать важным день рождения каждого человека, чтобы, основываясь на датах, составлять астрологические прогнозы. 25 декабря прижилось в основном потому, что стремились подменить христианским содержанием большой языческий праздник – День Солнца Непобедимого, одолевающего ночь и начинающего свое движение к весеннему обновлению жизни.
Итак, только 25 декабря 390 г. Феодосий впервые за много месяцев участвовал в богослужении как полноправный член общины.
А епископ Амвросий, со своей стороны, с явным наслаждением и риторическими преувеличениями представлял образ властителя, который публично оплакивал свой грех в церкви, – грех, подчеркивал епископ, совершенный в основном благодаря обману других людей. Таким образом, он пытался выгородить императора, давая понять, что тот был введен в заблуждение.
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИНОВЕРЦЕВ
Феодосий теперь старался доказать свою набожность, жестко преследуя культ старых богов. В феврале 391 г. появился закон, явившийся, по сути, смертным приговором языческим верованиям и обрядам. Начало его гласит: «Пусть никто не пятнает себя жертвоприношениями! Пусть никто не убивает невинных животных, пусть никто не входит в языческие капища, чтобы осматривать их и глядеть на портреты, созданные рукой человека! Ибо, кто совершит эти преступления, пусть знает, что постигнет его кара божья и человеческая. Пусть этот запрет распространяется и на сановников. А ежели какой из них, преданный языческому культу, войдет в храм, чтобы воздать почести божеству, то обязан немедленно заплатить 15 фунтов золота. Равно, как и все его ведомство, если не выразит свой протест и не засвидетельствует его незамедлительно и публично, также должно внести в казну такую же сумму».
Немногим меньшие, но тоже весьма ощутимые штрафы налагались законом на низших по рангу наместников, если бы они совершили столь возмутительное деяние. Предусматривалась и служебная ответственность для чиновников, допустивших, чтобы язычники воздавали почести «демонам», или не донесших о таком ужасном преступлении. Можно себе только представить, какая гнетущая атмосфера воцарилась с моментом выхода указа в учреждениях в Риме и провинциях! Сколько стало взаимных подозрений и слежки, сколько появилось интриг, оговоров и доносов!
А ведь среди вельмож много было приверженцев прежних богов. К ним принадлежал и префект Рима Альбин, и оба консула 391 г. Татиан и Симмах, вероятно, назначенные на эту должность еще в период напряженных отношений императора с Амвросием. Нынешний закон ударял по ним непосредственно, ведь им пришлось бы или отречься от своей веры, или сносить отвратительные придирки от любого писца или привратника в собственных канцеляриях.
В июне того же года появилась как бы повторная версия этого закона, адресованная высшим сановникам в Египте; есть там, в частности, такие слова: «Да будет всем известно, что засов нашего закона запирает дверь ко всему языческому. Кто же вопреки настоящему запрету попытается предпринимать что-либо, связанное с прежними богами и их культом, пусть не рассчитывает ни на малейшее снисхождение».
Трудно определить, стал ли этот закон следствием или причиной крупных беспорядков, которые в том году разыгрались в Александрии. Там произошли массовые столкновения между христианами и язычниками, повлекшие за собой многочисленные жертвы.
А началось все с того, что тамошний епископ Теофил начал сносить языческие храмы или превращать их в церкви, уничтожая и высмеивая при случае статуи и культовые предметы. Язычники, разумеется, встали на их защиту, и с обеих сторон полилась кровь.
Главным центром сопротивления уходящей религии был храм Сараписа. Бог этот веками считался олицетворением единства всех жителей Египта, как греков, так и египтян. Изображали его в образе солидного мужчины в расцвете лет с буйными волосами и кудрявой бородой и с чем-то вроде маленькой корзинки на голове; это была мера зерна – символ урожая. Бог этот был для своих приверженцев Зевсом – отцом богов и людей, Плутоном – господином мира мертвых, Асклепием – врачевателем, Дионисом – дарителем радости жизни, Гелиосом – Солнцем лучезарным.
Его прекрасный и величественный храм высился в районе, называемом Ракотис. Аммиан Марцеллин пишет: «Не хватает слов, чтобы описать его величие. Есть там просторные залы, поддерживаемые колоннами. Есть статуи, которые, кажется, дышат. Украшен он неисчислимым множеством творений, столь замечательных, что после Капитолия, вечного памятника достопочтенного Рима, весь мир не видел ничего столь великолепного».
И все это было разрушено. Там, где некогда располагался огромный храмовый комплекс, торчит сейчас только одна колонна, условно называемая колонной Помпея. А археологические раскопки, проводимые здесь в XIX в. и после Второй мировой войны, обнажили только остатки фундаментов архитектурных сооружений и подземные коридоры с нишами, в которых помещали урны с прахом умерших верующих.
По приказу епископа Теофила была также изрублена на куски и сожжена колоссальная статуя Сараписа, выполненная без малого семьсот лет тому назад, по всей видимости, самим великим скульптором Бриаксисом. Бог сидел, словно Зевс, на троне, а левую руку положил на лоб пса Цербера, что означало его власть и над подземным миром; в правой же руке он держал скипетр. Серьезный, преисполненный достоинства и в то же время снисходительный, он смотрел прямо на тех, кто переступал порог храма. Статую, вырезанную из дерева, покрывали позолоченные пластины, украшенные драгоценностями.
С фанатичной яростью в тот период уничтожались многочисленные статуи, а зачастую это были настоящие шедевры. Их сжигали, переплавляли, рубили в щепки. Происходило так потому, что «идолов» считали проклятыми и грозными не только с виду, но и по сути. В восточной Церкви навсегда сохранился комплекс по этому поводу, поэтому в православных церквях никогда не увидишь статуй, хотя допускались – тоже не без сопротивления – картины. В западной же Церкви, где христианство было более поверхностным, и редко доходило до эксцессов, подобных уничтожению статуи Сараписа, подобные процессы проходили иначе – более мягко. Отсюда и наличие скульптурных изображений в костелах. Вот так и поныне проявляются последствия указов Феодосия от 391 г. и кровавых событий в Александрии.
А тем временем до пребывающего в Медиолане императора стали доходить тревожные вести из Константинополя, где при дворе дело дошло до открытого конфликта между его старшим сыном, Аркадием, и второй женой – то есть мачехой Аркадия – Галлой. Поэтому в начале лета 391 г. Феодосий оставил Италию и направился на Восток.