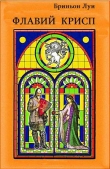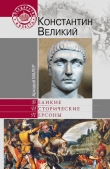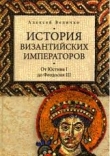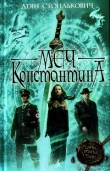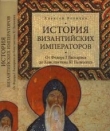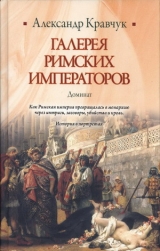
Текст книги "Галерея римских императоров. Доминат"
Автор книги: Александр Кравчук
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
ВОЙНЫ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ЦЕНЫ, ПРИДВОРНЫЙ ЦЕРЕМОНИАЛ
Наивно было бы полагать, что кому-либо удастся в короткий срок вытащить империю из глубочайшего кризиса. Для устранения масштабных проблем – политических, экономических, социальных – требуются даже не месяцы, а многие годы. Выздоровление после тяжелой болезни – процесс длительный. Так было в древности, то же происходит и в наше время. Вот почему все реформы Диоклетиана, о которых мы уже говорили, и о которых еще предстоит сказать, не были одноразовым мероприятием, для чего хватило бы одного императорского указа. Для их проведения требовалась кропотливая работа, и хотя не все шло успешно, избранный Диоклетианом путь вел в нужном направлении, больной перенес кризис, и его здоровье медленно восстанавливалось.
Нельзя не упомянуть, что все грандиозные реформы император проводил неспокойно, не в мирное время, а в неустанных войнах с соседними странами и племенами. Пользуясь ослаблением некогда огромной державы, они многие годы не прекращали попыток урвать кусок от нее для себя. В начале своего царствования Диоклетиан без устали метался от одной границы к другой, отгоняя врагов. В 286–288 гг. ему приходилось в основном воевать на Востоке. Заключив перемирие с персидским царем, он помчался на Запад, чтобы помочь своему соправителю Максимиану, сражавшемуся в Северной Галлии с самозванцем Караузием, а заодно и отогнал алеманов на Северном Рейне. В 289 г. он разгромил на Дунае полчища сарматов. В следующем году пришлось опять поспешить на Восток, там границам империи угрожали арабские племена, при тайной поддержке персидских войск. Тогда же Диоклетиан посадил на армянский трон своего ставленника царя Тиридата III. Перезимовав в Сирмиуме на Саве, он в 291 г. встретился с Максимианом.
Очень тяжелым оказался 292 г. Сначала пришлось отбиваться от сарматов на Дунае, а потом подавлять бунт населения, проживающего по реке Нил. И вот именно тогда, измотанный постоянными метаниями из конца в конец огромной империи, Диоклетиан и ввел упомянутую уже систему тетрархии: 1 марта 293 г. он призвал в помощь себе и Максимиану еще двух цезарей – Галерия и Констанция. В 294 г. он отметил в Никомедии десятилетие своего царствования.
Весной 295 г. через Малую Азию и Сирию он поспешил в Египет, где поднял бунт самозванец Домиций Домициан, а после его смерти цезарем провозгласил себя Аврелий Ахилл. Причины бунтов в Египте были вызваны большими поборами. Римские власти обложили особенно большими налогами как раз этот богатый и урожайный край. Справиться с восставшими оказалось нелегко. На осаду одной только Александрии потратили восемнадцать месяцев. Овладели ею лишь в начале 297 г. и только тогда, когда удалось прекратить поступление в город воды. Император жестоко расправился с предводителями восстания, а затем провел в Египте ряд административных и военных реформ с целью избежать новых волнений местного населения.
В том же 297 г. и еще целый год Диоклетиан с Галерием успешно воевали с персами в Месопотамии и Армении.
Не сидели без дела и два других цезаря. В 296 г. правитель Запада Констанций сражался с армией Аллекта, объявившего себя властителем Британии, и постепенно навел порядок на острове. Таким образом, к концу III в., благодаря Диоклетиану и его соправителям, в империи больше не осталось ни одного узурпатора власти – а такого римские граждане не помнили уже многие годы, и на границах тоже стало спокойно.
С тех пор Диоклетиан почти все время проводил и своей излюбленной резиденции Никомедии, располагавшейся в Малой Азии на берегу Пропонтиды, то есть Мраморного моря. Привязанность государя к этому городу частично объяснялась тем, что именно здесь он был провозглашен императором верными ему войсками, а еще наверняка и самим географическим положением города у границ Европы и Азии, на водных путях к Черному морю. Это очень важное обстоятельство. Столицей Римской империи по-прежнему оставался Рим, но уже начался процесс переноса центра империи в направлении ее восточных границ, ближе к восточным провинциям. И совсем недалеко от Никомедии, но уже в Европе, находился город Византий. Пройдет еще немного времени, он сменит название и сыграет свою роль в истории.
Но пока столицей империи оставался Рим. И сам Диоклетиан, и его соправитель Максимиан прилагали много сил, чтобы его возвеличить. Была восстановлена главная площадь столицы Форум Романум, уничтоженная пожаром 283 г. На Форуме реставрировали древнейшую святыню римлян – храм Юпитера, а также курию, резиденцию Сената. Восстановлен был также театр Помпея. Перестроили и усовершенствовали знаменитый водопровод Aqua Marcia.На Авентинском холме воздвигли монументальный фонтан, вода в который поступала по трем акведукам. И все же самыми знаменитыми из римских архитектурных достижений времен Диоклетиана стали грандиозные термы, носящее его имя. В наши дни их впечатляющие развалины можно увидеть у железнодорожного римского вокзала, который так и называется Stazione Termini.В одном из колоссальных помещений одного из залов древнеримских бань уже несколько веков красуется великолепная церковь эпохи Возрождения Санта Мария дели Анжели, другие помещения отведены богатейшей коллекции древностей римского Национального музея, рядом располагается римский Планетарий. Огромная полукруглая exedraбывших терм, то есть ее помещение для собраний, теперь превращена в одну из городских площадей, которая носит название Piazza Esedra.
Нынешний хорватский город Сплит, так любимый туристами, гнездится, можно сказать, в руинах огромного дворцового комплекса, воздвигавшегося на протяжении ряда лет по воле цезаря. Да и само название Split– это просто искаженное латинское Palatium– дворец.
Стремление к монументальности, великолепию и величественности, проявившееся в архитектуре того времени, нашло отражение и в установленном Диоклетианом придворном церемониале, явно заимствованном у восточных владык и, прежде всего, в поражающих своей пышностью и богатством дворцах персидских царей. Римский император в торжественных случаях появлялся в дорогих пурпурных одеждах, сверкавших золотом и блеском драгоценных камней. На аудиенцию к нему допускались лишь самые важные персоны, а специальная дворцовая служба следила за соблюдением торжественности и должного порядка в зале. В определенный момент специальная стража поднимала занавес, и глазам счастливцев, удостоенных высочайшего приема, являлось Его Императорское Величество. Все присутствующие, в том числе и члены императорской семьи, должны были пасть ниц и допускались к целованию краешка монаршего одеяния. Такая форма почитания властителя именовалась adoratioи очень напоминала религиозную церемонию чествования божества. Уже сам факт допуска к аудиенции, а тем более разрешение коснуться губами одежды императора было с его стороны большой милостью.
Во время совещаний и заседаний, даже на самом высоком уровне, сидел лишь цезарь, остальные уважительно стояли. Вот почему заседания у императора получили впоследствии название «консисторий», от латинского consistore(«стоять вместе»). Так что вместо наших «заседаний» были «стояния», что, несомненно, сказывалось на краткости высказываний. А на монетах того времени чеканились такие изображения: Диоклетиан и Максимиан сидят в креслах, стоящие боги Юпитер и Геркулес возлагают венки на их головы. Невероятно! Смертные сидят в присутствии стоящих богов! А ведь раньше как было? Первые императоры оказывали уважение Сенату, приветствуя его стоя, и даже вставали перед отдельными сенаторами. Теперешние же монархи почитали себя выше богов.
Такая тенденция обожествления императора стала обычным делом. Всему, что связано с особой цезаря, придавался нимб «святости». Ко всем его деяниям, качествам и даже принадлежащим ему вещам стали прибавлять словечко sacer– «священный». Появились священные указы, священные подписи, священные письма, священные покои, священная щедрость и т. п.
Первые три века существования Римской империи все же соблюдали приличия, сохраняя видимость того, что правитель лишь самый главный из чиновников империи, глава Сената, первый из ее граждан. Поэтому и называли первый период Римской империи принципатом, от латинского princeps– глава, предводитель. Начиная же с Диоклетиана, стали говорить о доминате ( dominus– господин). Теперь император стал абсолютным монархом, отпала необходимость соблюдения бывшего республиканского равенства, не надо было больше притворяться.
Неправильно было бы говорить, что это Диоклетиан нарушил старую традицию и резко изменил качество верховной власти. Просто он завершил уже давно наметившуюся тенденцию, зародившуюся гораздо раньше, и отбросил притворство. Да и придворный церемониал изобретен не им, отдельные его элементы появлялись в правление разных цезарей. Роскошные одеяния, адорация, нимб святости – все эти элементы культа правителя в разной степени появились уже на протяжении третьего века, а некоторые из них – даже раньше. Диоклетиан лишь собрал в единую систему все эти разрозненные проявления культа властителя.
И все же правителя окружали не одни лишь придворные. Пышный придворный церемониал был лишь величественным фасадом, его целью было внушать уважение к величию монарха и повергать в трепет людей за пределами этого фасада. А истинным мозгом империи и основным местом работы императора были всевозможные секретариаты и учреждения, гражданские и военные, называемые official, руководители которых пребывали во дворце постоянно. Все важные решения и постановления принимались на совещаниях с этими высокими чиновниками. Они назывались комесами, от латинского слова comes– товарищ, и в самом деле были товарищами государя во всех его трудах. Так же назывались они и в последующие времена, причем эти титулы стали раздаваться излишне щедро и подразделяться на три категории по степени их значимости, так что не все уж эти чиновники были одинаковыми товарищами. А слово сохранилось в современных романо-германских языках, например, испанское cameradosи даже французское comte, граф, должно быть, от какого-нибудь очень высокопоставленного товарища.
Целенаправленная деятельность императора и его соратников охватывала все стороны жизни империи. Как многие цезари и до него, и после него, он правил путем принятия решений сверху. Особое внимание государь уделял низшим слоям общества. Из стоящих перед ним задач главными он считал: положить конец спекуляции, привести в норму цены и плату за труд. Сделать это удалось благодаря очень длительной и трудоемкой работе по разработке четких тарифов и максимальных цен за товары и услуги. Эдикт о твердых ценах и заработной плате был опубликован в 301 г., до наших дней сохранились многие его фрагменты, а главное, очень поучительное предисловие:
«Найдется ли человек с таким равнодушным сердцем и настолько лишенный человеческих чувств, который не заметил бы повсеместного самоуправства в установлении цен как оптовых, так и розничных? Разнузданную жажду обогащения нельзя укротить ни обилием прибыли, ни богатством урожайных лет. Вот почему мы решили установить не просто твердые цены на товары, ибо такое решение явилось бы несправедливым для многих провинций, которым счастье улыбнулось в ниспослании особой дешевизны, а границы цен, чтобы при появлении жаждущего наживы спекулянта его ограничило бы наше постановление в соответствии с принятым законом. Итак, мы изъявляем свою волю: цены в приведенном списке должны быть соблюдаемы во всем нашем государстве, и пусть все знают – превышать их нельзя. При этом мы отнюдь не лишаем наших граждан благословения дешевизны в тех местностях, где проявляется обилие товаров.
Постановляем при этом: если кто вопреки данному эдикту осмелится его нарушить, тот приговаривается к смертной казни. Это вовсе не слишком строгая мера, ведь смерти легко избежать, достаточно лишь следовать закону. Кары не избежит также и тот, кто, располагая нужными для жизни людей продуктами или другими товарами, попытается скрыть их по оглашении эдикта. В таком случае наказание должно быть даже еще более строгим, поскольку уменьшение товаров на рынке является более тяжелым преступлением, чем само нарушение эдикта.
Мы взываем к совести всех, дабы с должным послушанием выполняли наше постановление на благо всех граждан. Ведь оно ставит целью оказание помощи не отдельным городам, народам и провинциям, но всему миру, во вред которому иной раз действует небольшая горстка жаждущих наживы негодяев; горсточку этих любителей наживы не насытит и не удовлетворит никакое приобретенное богатство, им все будет мало, и они ни на чем не остановятся».
После этого отеческого поучения следует длинный список товаров и услуг, максимальные цены и оплаты в денариях. В данном случае речь идет об условной расчетной единице, а не об общепринятом платежном средстве, впрочем, очень небольшой стоимости. Со времен Аврелиана мы часто встречаем «нуммус», маленькую бронзовую монетку с капелькой серебра, которая номинально соответствует пяти денариям. Сам Диоклетиан, кстати, провел денежную реформу. Он увеличил число монетных дворов, на которых чеканили золотые, серебряные и бронзовые монеты. Ауреус (золотой) весил более пяти граммов золота, аргентеус весил 3 г. серебра, а монетка из бронзы поначалу весила 10 г., потом намного меньше. Эту последнюю в нумизматике часто называют фоллис, и напрасно. Дело в том, что во времена позднего периода Римской империи по причине низкой стоимости монет и бушевавшей инфляции этими монетками набивали мешочки и платили мешками – по латыни follis, что означало «мешок».
Нас интересует, прежде всего, соотношение цены и оплаты а не сама стоимость условного денария. Например, фунт свинины стоил 12 денариев, говядины – 8, пара крепких мужских сапог – 120, дамских туфелек – 60. За 10 огурцов надо заплатить 4 денария, за 10 яблок высшего сорта – столько же. Максимальная цена 1 яйца составляла 1 денарий. Самые дорогие вина стоили 30 денариев за sextarius(чуть больше пол-литра), дешевые – всего 2 денария.
На селе работник за рабочий день должен был получать 25 денариев и еду, каменщик – 50 и еду, погонщик ослов – 25 денариев и содержание, маляр при работе в доме – 75 и содержание, цирюльник за стрижку – 2 денария. Учителю чтения и писания полагалось 50 денариев ежемесячно с каждого ученика. Столько же платили учителю гимнастики, а математики – 75 денариев, как и учителю стенографии. Архитектор получал 100 денариев, учитель литературы – 200, риторики – 250.
Не очень-то высокая оплата полагалась за труд учителям даже самых высоких категорий. Получалось, что ритор получал лишь в три раза больше погонщика ослов, которому к тому же полагалось питание на весь день. А ведь риторике, умению правильно и красиво говорить, причем не одни только речи, римляне издавна придавали большое значение.
Итак, намерения императора, судя по его предисловию, заслуживали самого высокого признания, но результаты реформ оказались ничтожно малы. Тут, к сожалению, оказался прав Лактанций, суровый критик Диоклетиана. Не помогли суровые наказания – эдикт не выполнялся. Торговля просто ушла в подполье. Пышным цветом расцвела спекуляция, ширилась коррупция чиновничьего аппарата. А тем временем на рынке все больше сокращалось количество товаров. Императорский указ, официально никогда и никем не отменяемый, умер естественной смертью. Правильный и благородный по своему замыслу, он не принимал в расчет два сущих пустяка: он не считался с реалиями экономики и особенностями человеческой психологии.
МАНИХЕИ
31 марта 297 г., то есть вскоре после подавления бунта в Александрии, появился императорский эдикт, содержание которого мы и приводим здесь, в некотором сокращении – без неизбежных риторических упрощений и повторений.
«Кажется, воцарившееся желанное и благостное спокойствие побуждает некоторых людей, напротив, превзойти назначенную человеку меру. И тогда они начинают распространять бессмысленные и отвратительные верования. А ведь бессмертные боги в своей неизреченной милости уже в незапамятные времена предусмотрительно испытали на многих поколениях мужей умных и знаменитых то, что правильно и правдиво. Новые верования не должно обращать против старых. Ведь нет худшего преступления, чем искоренять то, что установлено нашими предками и до сих пор сохранило свою ценность. Вот почему мы всячески стремимся наказать преступность и суеверие тех нечестивцев, которым из честолюбия взбрело в голову отбросить древний дар богов.
Манихеи прибыли к нам из Персии, враждебного края, в недавнее время. Затем появились новые и невиданные доселе чудачества. Не счесть творимых ими злодеяний и преступлений. Они сеют смуту и замешательство в народе и наносят огромный вред городам. Все идет к тому, что они стремятся отравить людей невинных, скромных и спокойных, то есть нас, римлян, ядом своих омерзительных обычаев и губительных персидских законов.
И потому мы повелеваем: да поглотит огонь манихейских предводителей и их проклятые писания. И если представители опасного культа проявят непокорство, пусть ответят за то головой; их имущество отойдет к государству. Если кто из чиновников или видных римских граждан присоединится к ненавистной и неслыханно бесчестной персидской секте и ее учению, то да будут эти люди сосланы на шахты, а их имущество отойдет государству. Как известно, всякую погань следует выкорчевывать с корнями из нашей благословенной земли».
Так кто же такие были манихеи? Почему император так энергично расправляется с ними? Какие преступления они якобы совершали?
Мани родился в Вавилоне около 215 г., происходил он из знатного персидского рода. Его отец живо интересовался вопросами религии и, возможно, даже был связан с одним из гносеологических сообществ. Греческим выражением «гносис», то есть познание, определялось синкретическое религиозное течение, возникшее в начале нашей эры и имевшее много последователей, но никогда не преобразовавшееся в цельную систему верований и не создавшее никакой организации. Учения гностиков сильно отличались одно от другого, общим для них было самое главное, самое существенное: путь к спасению можно найти лишь в мистическом познании окончательной, божественной правды.
Около 240 г. Мани совершил паломничество в Индию, где познакомился с буддизмом, затем вернулся на родину. Верно служил великому персидскому царю Шапуру I и, возможно, занимал высокую должность во время похода против римского императора Валериана. Война закончилась грандиозной победой персов и взятием в плен римского цезаря. Возможно, Мани уже тогда стал заниматься миссионерской деятельностью и пытался создать новую религию, объединяющую персидские верования, мистику гностиков и некоторые элементы христианства.
Во Вселенной, провозглашали манихеи, идет непрерывная борьба Света и Тьмы. Она происходит в каждом человеке, поскольку в его разуме заключены частицы Света, похищенного сатаной и заключенного им в материи. Наш долг – помочь этим частицам Просветления и Добра высвободиться. Для этого следует вести набожный образ жизни, совмещая его с аскетизмом. Пророки – Будда, Иисус и сам Мани для того и появляются на свете, чтобы вновь и вновь указывать человечеству путь к правде.
На первых порах в Персии деятельность Мани воспринимали толерантно, позже он был схвачен и по всей вероятности погиб мученической смертью. Однако его учение находило все новых адептов, и их становилось все больше, в том числе и в пределах Римской империи. Это не могло не встревожить властей, существовало подозрение, что манихеи находятся на службе враждебного Риму государства, занимаются шпионажем и подрывной деятельностью. Поэтому в 297 г., когда возник конфликт с Персией, были приняты самые строгие репрессивные меры. Но преследования ничего не дали. Манихеи сохранились по всей стране. Через несколько лет после появления эдикта Диоклетиана христианский писатель Евсевий Кесарийский жалуется, что манихейство все еще живо. Его высказывания на редкость точно повторяют взгляды цезаря. Мани, по его словам, «варвар по языку и нраву», «имел в природе своей нечто демоническое и безумное. Действия его соответствовали этим качествам; он пытался представить себя Христом; ослепленный гордостью, объявлял себя то утешителем и Самим Духом Святым, то Христом; нашел двенадцать учеников, последователей его нового учения. Учение свое он составил из множества богохульных, давно исчезнувших ересей, привез его из Персии и разлил этот смертельный яд по нашей земле. От него нечестивое имя манихеев и доныне удержалось за многими. Такова сущность этого лжеименного знания, появившегося в то время, о котором мы говорим».
Читая эти рассуждения, поневоле приходишь к выводу, что тут сошлись во мнениях цезарь и христиане. Что они союзники. Да, союзники, но лишь в действиях против общего врага. И уже очень скоро между ними вспыхнул открытый конфликт.